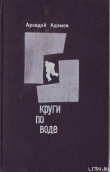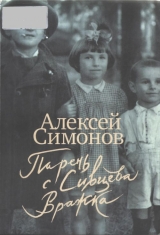
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
О Симоне Маркише

Это лучшая фотография Маркиша, какую я знаю. А вот датировать ее не могу
Мы были почти однофамильцы: он Симон, я – Симонов, мы были почти ровесники: ему было бы 75 – и его уже нет, мне 70 – и я еще есть. Мы были почти соседи: я жил на Зубовской площади, а Симон – на Девичке, за клубом «Каучук». Когда познакомились, были, без всякого «почти», коллеги, только я был коллега начинающий как редактор и переводчик, а Симон в этом деле всегда был мэтр, тут уж вообще никакого «почти» – только почтенье.
При этом он был безудержно живой, лишенный величавости мэтра, похожий на бойцового петушка, с закинутой кверху остроносой головой и хохолком волос над большим круглым лбом. И жесты его походили на мах куриных крыльев – резкие и короткие, словно бы не законченные.
Многознание жило в Симоне легко, необременительно для окружающих, может быть, еще и потому, что время, выделяемое для общения с друзьями, было специально отведенным, набивалось этим общением до отказа, и это и были главным образом моменты, когда мы виделись. Среди его друзей тех лет, а это была середина шестидесятых, помню Саню Каждана – массивного плотного историка в потертой коричневой кожанке, блистательного забияку, и известного зануду Марлена Коралова – критика и бывшего зэка, и всегда присутствовавшего, увы, не на наших посиделках, а в своем Ленинграде, но постоянно ощущаемого рядом Сережу Юрского – главного сердечного друга всей Симиной жизни. Был еще кто-то, но то ли не с таким постоянством, как вышеназванные, то ли память моя дает сбой. И вот Симина четверка, объединившись с нашей тройкой, устраивала пивные балы.
Наша тройка – это Виктор Санович – блистательный японист и эрудит, мой товарищ по восточному факультету МГУ, который пришел работать в Гослит «еще при Маркише» и который нас собственно и познакомил, и Эмиль Левин – в то время актер «Современника».
А пивной бал – это большая батарея бутылок светлого пива (темным мы пренебрегали, и это, у меня по крайней мере, так по сию пору), то есть «Жигулевского», «Московского», а иногда, если кому удавалось достать, только что появившегося «Двойного Золотого» в витых коричневых бутылках, а также и пивные закуски, где каждый в меру своих кулинарных способностей и временных обстоятельств, изощрялся по-своему.
Женщины на пивные балы приглашались в порядке поощрения, и было их одна-две в поле зрения, и то редко. Они, как правило, молчаливо украшали наше разливанное гулянство, ибо беседы на балах велись в основном о всемирном – истории или литературе, но с размахом и веселым подначиванием друг друга на предмет глубины погруженности в обсуждаемую тему. Отсутствие остроумия приравнивалось к малому знанию, зато подчас, особенно когда речь заходила о нас с Эмкой Левиным, остроумие могло заменить знание большое, что не осуждалось и, пожалуй, даже не обсуждалось. Умение красиво сказать в этом общем трепе ценилось и награждалось правом выпить лишнюю кружку, что среди моря пива не было серьезным призом.
Происходили эти балы главным образом у Симы в его маленькой квартирке, где он жил с бабушкой, нежно и преданно любимой за то, что в отличие от жившей где-то возле Белорусского вокзала мамы совершенно не вмешивалась в дела и развлечения внука. И это высоко ценилось и им, и всеми нами, его пивными гостями. Симон, кстати, любил бабушку отнюдь не только за это. Огромная и нескрываемая к ней нежность его буквально распирала, и «бабуля», и «бабуленька» в глаза и заглазно звучали в его устах постоянно. Решение уехать из страны Симон принял сразу после бабкиной смерти, закрыл дом, и до самого его отъезда мы уже не устраивали пивных праздников. Как-то очень сильно радость жизни была завязана на это чувство и, оборвавшись, сильно и навсегда его переменила.
Еще помню, что сына своего Маркушу воспринимал Маркиш с веселым недоумением: ишь какой вымахал! Или – надо же, какие успехи! Или – откуда что берется, не иначе фамильные качества проявляются… Ибо сын с ранних ногтей был приходящий, в доме жены оставленный и там же воспитуемый, близкий, но чужой. Не случайно, наверное, любя и уважая друг друга, один пришел к иудаизму, а второй стал христианским священником.
Вообще одинокость была Симону присуща как качество характера, а не как обстоятельство жизни, так что пивные вечера были, скорее, исключениями из общего порядка времяпровождения, и нам, мне в частности, невероятно повезло, словно довелось общаться с Шостаковичем не на концерте или консерватории, а на любимом им футболе.
Симон был человеком сердечным, но не душевным, во всяком случае в нашем обиходе, то есть его отношения с людьми проходили через сердце и были сильными и искренними, но не имели заметных внешних проявлений. Из-за этого единственный Симин роман, который мне довелось наблюдать, окончился ничем, принеся ему много сердечной муки. Они, с этой молодой и очаровательной женщиной никак не могли дождаться друг от друга каких-то важных каждому слов, через которые могли бы почувствовать истинное отношение друг к другу. Роман угас по недоговоренности, по недовысказанности, внешне выглядевшими как недостаточное взаимопонимание. Видимо, каждый таил в себе обиду на холодность своего избранника или избранницы. Так из этого ничего путного не вышло.
В 66-м мы с Симой чуть не стали соавторами. Возникла идея опубликовать в Восточной редакции Гослита, всемирно известный к тому времени, роман Кацетника «Дом кукол». Был такой странный либеральный момент перед Семидневной войной, и его надо было ловить. Книга у нас имелась только в английском переводе. Надо было получить разрешение автора на перевод с перевода, и эту миссию удалось возложить на моего отца, ездившего именно в 66-м в Израиль. Тогда с контактами было строго. Но согласие мы получили. Совет держали с Симой и Витей Сановичем, и Симон сказал: «Как только найдем автора для предисловия, делим книжку натрое и переводим: Витя Хинкис, я и ты. Чтобы в полгода она вышла». Так вот, чтобы было понятно: пусть завышенная, пусть авансом, но это была самая высокая оценка моих переводческих способностей, какую я слышал за всю свою жизнь. Но сперва не нашлось серьезного автора для предисловия, а нужен был, как тогда говорил «паровоз», а теперь говорят «человек-крыша», потом началась Семидневная война, и вопрос о переводе отпал. И если по жизни самая высокая моя оценка – «лучший пекарь Сунтар Хаяты» (работая мальчишкой в экспедиции, я классно научился печь хлеб), то в переводе – я чуть не стал соавтором Маркиша и Хинкиса. Если кто не помнит Хинкиса – это и Фолкнер, и Джойс, и многое другое столь же сложное и высокое.
Уехал Симон и просто, и сложно. Так совпало: жена – венгерка, физик по образованию, и переезд Симы в Венгрию. Жену я знал шапочно и думаю, не мне одному показалось, что кроме иных привтекающих обстоятельств, это был еще способ без скандала тихо слинять. По Симиным взглядам непременно оказался бы он в диссидентском котле, а окружение из будущих диссидентов и так у него было. Словом, Симон уехал, там выучил венгерский, потом перебрался в Швейцарию, и вся эта его очень нестандартная венгерско-швейцарская эмиграция уже проходила далеко от нас с редко доносящимися отголосками, тем более что и после его отъезда еще больше десятка лет визит за границу был либо льготой, либо экзотикой, либо, конечно же, службой, но это к Симиным друзьям отношения не имеет. Общались редко: то Юрский привезет записочку, то коротко и ненадежно по телефону. Но одно я знал твердо: в одном из разговоров, уже из Швейцарии, сказал мне Маркиш, что если я когда-нибудь окажусь на географически приемлемом расстоянии от Женевы, он приедет повидаться.
Лишившись возможности переводить на русский классиков, Симон сначала стал о них писать, и его книжку об Эразме Роттердамском я прочел, но дальше наши вкусы сильно разошлись: Симона интересовало еврейство в русских писателях, в то время как меня оно мало занимало, и я, может быть, по невежеству, ставил его штудии этого рода в один ряд с литературными опусами Аркадия Львова о еврейском в Мандельштаме и Пастернаке. Мне все это казалось специфическим и не очень правильным сужением фронта исследований, хотя повторяю, здесь мой голос мало что значит: отвергнуть то, что не до конца понимаю, я не решаюсь. Ну, словом, как интеллектуальный эталон я Симона отчасти отверг, тем более что продолжать знакомство на бумаге – для человека, с которым ты по-братски пил пиво и закусывал чесночными сухарями, – все-таки не в коня корм.
И вот наступили перемены. В 85-м меня после более чем двадцатилетней паузы выпустили за рубеж, но все невпопад: Польша, Венгрия, Югославия, Штаты. Наконец в 92-м я оказался в Брюсселе, и расписание на ближайшие два дня у меня получилось совсем свободное. Жили мы в гостинице, такой невообразимо крохотной, что глаголы «выйти» и «помыться» были пространственно несовместимы. Победив вечно сопротивляющийся мне европейский телефон, я дозвонился до Женевы:
– Брюссель? Далеко. Дай подумать, – сказал Симон после недолгого обмена восторженными вздохами и ахами. – Карту посмотрю и перезвоню.
Минут через пятнадцать он перезвонил, и мы договорились встретиться на полпути. В итоге через два дня один приехал из Женевы, второй из Брюсселя, мы встретились на вокзале в Люксембурге, потом пошли в индийский ресторан, где наш русский язык вызвал веселое недоумение у польской официантки, и два часа два еврея проговорили наконец о России и о том, что там происходило. Так мы увиделись через 20 лет. Воистину встреча эта имела «международное» звучание.

С таким мы с ним встретились в Люксембурге в 1992 году
Последний раз я видел Симона в Будапеште, за два года до его смерти, был у него в квартире, где он жил с другой уже женой, но тоже венгеркой, где он поил меня за эти годы лишившимся привкуса экзотики шотландским виски, а закусывали мы вкусной венгерской салями. На следующий день прошлись с ним по старым кварталам Будапешта, где жили когда-то и теперь еще продолжали жить евреи, и Сима рассказывал в подробностях и деталях о разных сохранившихся жилых домах, гимназиях, хедерах и синагогах. И это было очень интересно, но по непривязанности к моей повседневности, к проблемам Фонда защиты гласности совсем не осталось в памяти. Я же не знал, что вижу его в последний раз. Если б знал, я, наверное, запомнил бы больше из его рассказов. По ходу дела он с кем-то здоровался, кого-то о чем-то спрашивал по-венгерски и вообще производил впечатление вполне обустроенного, но все-таки гостя. И одно ощущение бередит мне память: Маркиш – в недавнем прошлом блестящий женевский профессор, всемирного значения писатель и переводчик, значительный и своеобычный филолог, словно бы сжался до масштаба Швейцарии или Венгрии, и я, всю жизнь смотревший на него снизу вверх, как-то утерял эту способность.
Попытавшись не только понять, но и разъяснить это ощущение, я рискую влезть в такие дебри, что это короткое воспоминание разрастется до культурологического трактата. Поэтому ограничусь тем, что написал.
Одессит, у которого был вьетнамский бог

Марик Ткачев и его жена Инна у меня в гостях, 2006 г.
Я знаком был с Марианном почти полвека, дружил – больше сорока лет, я один из немногих, с кем он за все эти годы ни разу не поссорился, а может, и единственный, если не считать Эмки, ушедшего из нашей компании первым – больше двадцати лет назад. Так вот, самое трудное, начиная писать о Марике, это найти дистанцию. Это вообще самая главная загадка, когда пишешь о близких: понять, где ты сам, откуда ты глядишь на ваше общее прошлое, примитивно говоря, сверху вниз или снизу вверх, мешает ли тебе Есенин со своим «лицом к лицу – лица не увидать» или не имеет здесь и тени голоса. Как размещены в поле памяти другие фигуры вашей общей жизни, отчего зависит их масштаб и влияние на все с вами произошедшее. И если жизнь и отношения в этой жизни тянутся почти полвека, скорее всего, одной, избранной для мемории, дистанции просто нет, если писать что-то вроде воспоминаний, а не литературное эссе.
Ну, скажем, 17 мая 1984 года умер наш общий друг Эмка – Эмиль Абрамович Левин – артист «Современника», лучшего, студийного, его периода, когда еще не было синклита звезд, а звездой – несравненной, с острыми, постоянно цепляющими сознание лучами, был весь театр – от Ефремова до последней билетерши. Так вот, Марианн не только каждое 17-е бывал на Ваганьковском, он ходил туда один или с братом Эмиля, Игорем, когда душа подсказывала, ходил с метелкой и лопатой, с обязательной рюмкой и поминальными палочками.
А я на могилу Марика не приду, потому что Эмка умер, когда мы все были, а Марик ушел, когда уже никого не стало и везти его пепел в Одессу было не к кому. Похоронить в Москве не успели, потому что через полгода после его смерти погибла Инна, его вдова, и в конце концов Иннин сын Миша, приехавший из Америки, увез прах мамы и отчима к маминым родичам в Астрахань и захоронил там, и ходить к ней и к нему будет кто-то другой, если будет, а я туда уже не попаду в этой жизни.
Значит ли это, что Марик любил Эмиля больше, чем я Марика? Да нет, просто на человеческую жизнь не хватает одной таблицы измерений, а если подумать, то и трех, и четырех – все равно недостаточно.
Первый раз я увидел Ткачева в Институте восточных языков при МГУ в 1958 году, он там преподавал, а я учился, хотя разница в возрасте была не так уж и велика. На этой почве учения мы с ним не пересекались, но с близким его приятелем, Дегой Витальевичем Деопиком, мы столкнулись лбами на первой же его лекции на моем первом курсе, с тех пор и запомнили друг друга. Не заметить рядом с ним Ткачева было невозможно, ибо Марианн Николаевич в те годы был фигурой экзотической. Начать с того, что ходил он всегда в костюме-тройке, рубахи носил однотонные, преимущественно темно-малиновые и галстух (сознательно употреблю старомодную орфографию) бабочкой. Во внешности его было нечто восточное, чуть сладковатое, что было обманчивым впечатлением, усугублявшимся совершенно фантастической прической. Дело в том, что Марик рано начал лысеть, и это было его тайной душевной занозой, и должно было пройти лет 30, пока он окончательно сдался и смирился с этой особенностью своего облика. А в то время он с этим пороком боролся, отращивая с одной стороны большой лысины длинную, сантиметров в двадцать, гриву и прикрывал ею, причудливо уложенной, центральную проплешину.
Я совершенно не помню, как мы с Ткачевым сошлись и на почве чего, хотя и имею некоторые подозрения, как это могло случиться. Но первое впечатление от этой экзотической фигуры помню дословно, ибо походил он на голубого, что было глубочайшей несправедливостью и не имело под собой никакого основания, но узнать это мне довелось чуть позже.
Из уроков ботаники я помню, что есть такой процесс перекрестного опыления, так вот в облике Ткачева перекрестно опыляли друг друга два понятия: английский джентльмен и одесский босяк. Правда, босяк не натуральный, а, скорее, бабелевский, не лишенный изысканности. В результате получался одесский джентльмен, каковым и был Ткачев, сохраняя в своей внешности родовые признаки изначальных понятий. Подозреваю, хотя и не помню, тем более в подробностях, что первые прочные контакты с Ткачевым у нас возникли весной 1963 года, когда я пришел на практику в восточную редакцию Гослитиздата, располагавшегося на Новой Басманной против сада Баумана.
В этом четырехэтажном здании на четвертом этаже размещалась редакция восточных литератур, которую возглавляла Тамара Прокофьевна Редько, умнейшая женщина, вся из кругов и овалов, без единого угла или прямой линии, Ткачев был молодым, но желанным автором, а я врио младшего редактора. Именно там он напечатал (если память не изменяет, в «Восточном альманахе») повесть То Хоая «О кузнечике Мене», с которой и началась его переводческая слава. Тогда это было лучшее издательство во всем СССР, туда ходили – пешком – Андроников и Шолохов, молодой Бродский и старый Светлов, Пастернак и Заболоцкий, там работали такие корифеи, как Симон Маркиш, и печатались такие гении как Витя Хинкис. Лифт там возил только снизу вверх, поэтому когда на четвертом этаже я увидел величественную даму, безуспешно пытавшуюся открыть дверь лифта, то, не узнав и ничего еще не сообразив, ринулся вниз. И только поднимаясь в кабине на этот четвертый этаж, где-то между вторым и третьим понял, что я, как портье при гостинице, доставляю карету лифта Анне Андреевне Ахматовой.
Гослит был советским учреждением, но как почти все советское, связанное с литературой и тем более с классикой, у этой советскости был отчетливо гуманитарный оттенок, допуск, прибавка вечного к кондовым принципам современности. Это был все-таки заповедник, и Ткачев, и я, никак не связанные с редакцией советской литературы, где, несмотря на симпатичность и человеческую приятность редакторов, все-таки процветал дух литературы секретарской, были почти вольные, и это нас сблизило, сравняло в возрасте, дало возможность оценить друг в друге выношенные по отдельности независимость в суждениях и непредвзятость оценок в том, что каждый по отдельности делал.
В Гослите Марик напечатал все лучшие свои переводы. Для Гослита он написал самые интересные свои предисловия и статьи. Там мне случилось быть его редактором. В редакционном плане стояло переиздание книга Нгуен Хонга. Переводил ее Ткачев, а предисловие мы решили заказать человеку, который был не только душевным другом Марика, но его культурным ориентиром, литературным эталоном, образцом недостижимым по чувству достоинства, юмора и вкуса, одним словом, должен был приехать Нгуен Туан, которого – единственного – Марианн звал «Старик» и которого до самой своей смерти поминал в каждом сколько-нибудь продолжительном разговоре, кстати и некстати, но с неизбежной тоской, как мать вспоминает о рано умершем ребенке, представляя его живым и шаловливым.
Жили мы тогда по-соседству. Ткачев с первой своей женой Ирой снимал комнату в одном из писательских домов-кооперативов на Красноармейской, соседнем с тем, где жил и я. Так что за процессом работы над романом Хонга «Воровка» я наблюдал с близкой дистанции и постоянно торопил не укладывавшегося в оговоренные сроки переводчика. Ткачев тоже поспешал, ибо по предыдущему опыту уже хорошо знал, что с приездом Нгуен Туана всю свою работу ему придется оставить – на нее попросту не будет времени. А Туан приезжал на довольно долгий срок, чуть не на месяц, так что план был такой: Ткачев заканчивает переделки, из приехавшего Туана мы выжимаем небольшое предисловие, Марик его успевает перевести, а Туану мы успеваем заплатить несколько дополнительных рублей, которые лишними у этого выдающегося гуляки точно не окажутся.
Такова была, пользуясь любимым выражением Ткачева, стратагема.
Да, забыл сказать, что «окучивание» приезжающих вьетнамских писателей входило в те годы в прямые обязанности Ткачева, служившего в Союзе писателей, в Иностранной его комиссии, консультантом по Вьетнаму. Всякий консультант, даже тот, кто служил в комиссии не только по этому делу, являл по отношению к приехавшим писателям один из ликов божества. Но только Ткачев и только Нгуен Туана оберегал, как вьетнамского бога, баловал его, как отец, благоговел перед ним, как сын, и блюл его интересы, как дух святой, – такие были между ними отношения.
Надо отметить и еще одну – типичнейшую – черту в отношениях между консультантом и приезжими писателями-гостями. Часть программы согласовывалась и официальные визиты к секретарям Союза или писателям – членам соответствующих обществ дружбы – оговаривались в расписании заранее, а все остальное время писатель, тем более не говоривший не только по-русски, но и не сильно подкованный в одном из европейских языков, оказывался, в сущности, в вежливой, но кабальной зависимости от своего консультанта-переводчика.
Так и вижу в Дубовом зале цэдээловского ресторана уединенные группки иностранцев за отдельными столиками, где любой проходящий писатель – желанный объект, где его представят, нальют рюмку, расскажут, с кем он тут сидит, какие удивительные писатели оказались его не то гостями, не то хозяевами.
С ткачевскими вьетнамцами такое случалось крайне редко, потому что были две причины тому, что за его столом случайных людей почти не было. Первое: за время работы в Инокомиссии Ткачев выезжал во Вьетнам больше пятнадцати раз и всякий раз вывозил туда отборных людей: во Вьетнаме перманентно воевали и случайно оказаться на этой войне или хотя бы возле нее у праздных писателей-туристов не хватало ни духу, ни меркантильного интереса. И, во-вторых, у Ткачева все его личные друзья были, если так можно выразиться, заточены под общение с вьетнамскими писателями, ибо переводами, рассказами, байками, воспоминаниями, восторженными и ироническими, он держал нас в курсе происходившего за тысячи верст от Москвы, потому что это – тоже – в московской повседневности было частью его каждодневной жизни. Друзья, приходившие к Марику домой, погружались в рассматривание интереснейших коллекций древних ритуальных предметов вьетнамского быта и уникальной коллекции храмовых игрушек, фигурок, которые Ткачев собрал за годы своих постоянных поездок во Вьетнам. Поэтому рядом с То Хоаем или Нгуен Динь Тхи, с Хонгом или Туаном оказывались люди, так или иначе причастившиеся вьетнамской культуры, вьетнамской кухни, ткачевского обаяния и живого, сочувственного интереса к писателям воюющего народа. Кого вывозил Ткачев? Михаила Луконина и Константина Симонова, Евгения Евтушенко и Аркадия Арканова, Аркадия Стругацкого, Георгия Садовникова. Словом, то, что Марик умел душевно заинтересовать Вьетнамом крупных советских писателей, сделало вьетнамское направление в деятельности Инокомиссии СП одним их ведущих.
И еще одно, сугубо профессиональное, качество Марианна, которое здесь необходимо упомянуть. В комиссии вообще работали энтузиасты своих литератур и первоклассные знатоки иностранных языков. И все-таки на общем, очень высоком, языковом уровне искусство Ткачева как толмача было несравненно. С ним мог состязаться в этом только наш общий приятель Влад Чесноков, блистательный толмач с французского. Кстати, поскольку приезжавшие вьетнамцы в большинстве своем неплохо владели французским, Влад также был частым нашим собутыльником. Я употребляю слово толмач для обозначения важнейшей из ипостасей переводческой профессии – устного перевода. Перетолковывание одной речи на язык другой – это искусство не всегда доступное тем, кто уверенно себя чувствует в письменном переводе, и заметно отличается по технологии от перевода синхронного, требующего отдельных и специальных приспособлений психофизики. Так вот Ткачев был несравненным Толмачом, пишу это слово с большой буквы, потому что за любым столом, где мы беседовали с вьетнамцами, всегда царили веселье, непосредственность, дух единения и возникала иллюзия взаимопонимания за пределом языкового барьера. Птичий клекот вьетнамской речи, со всеми подъемами и спусками, в устах Марианна звучал просто, изыскано и естественно. И самое главное, что я знаю не с чужих слов, ибо мне самому не раз приходилось выполнять подобную работу, Марианн умел переводить юмор, а по большому счету это и есть высший переводческий пилотаж.

Ткачев переводит отцу с вьетнамского на встрече в Радиокомитете. Ханой, 1971 г.
Но это я забежал вперед. А мы с Ткачевым еще работаем над книжкой Нгуен Хонга и ждем, первого на моей памяти, приезда Туана. Этот человек так много значил в жизни Ткачева, что стал потом отдельной величиной в семьях его друзей, отдельной памятью, отдельной улыбкой, а иногда и отдельной заботой, поэтому не могу удержаться и не попытаться изобразить нашу с ним первую встречу у Марианна, в снимаемой им комнате, где спят на прикрытом вьетнамской тканью матрасе, а едят на маленьком журнальном столике, и мы с Ткачевым еще не совсем друзья, но пристально присматриваемся друг к другу. И от того, как мы с Туаном встретимся, зависят наши будущие отношения с Ткачевым. А комнату эту Ткачев, как уже сказано, снимает в соседнем с моим доме, и приглашен я туда отчасти как сосед, больше как редактор, ну и с еще не совсем определившейся перспективой приятельства.
Если у вьетнамцев есть свой бог, он должен быть похож на Туана. Ну не бог, так – божок, по причине малого туановского размера. Но божок не для домашнего, а для храмового употребления, все и всех понимающий, с бесконечной терпимостью и сопровождающей ее иронией относящийся к слабостям своей паствы, удивительно соразмерный, как будто вырубленный гениальным скульптором по классическим канонам соразмерности из теплого камня. Вы спросите, как это: камень… и теплый? Но в этом и была одна из неразрешенных загадок этого замечательного вьетнамского художника: актера, графика, и писателя, абсолютно штучного, ни на кого, из тех с кем мне за жизнь довелось общаться, не похожего. Мы пили привезенный им вьетнамский рисовый самогон из крохотных, столетних железных вьетнамских рюмочек, которые на этот случай хранились где-то у Марика в хозяйстве. И хотя водка намного вкуснее и так сказать спитобнее, никому не пришло в голову нарушать когда-то установившийся ритуал. Вообще в отношениях Ткачева и Туана было много ритуального, культового, как и положено во всякой религии, и можно было это принимать или не принимать, но покусится что-то изменить – извините! Мы быстро и между делом договорились о предисловии, его содержании и объеме, но от разговора о сроках Туан величественно отмахнулся. Ощущение от вечера было такое, словно я познакомился с очень большим человеком, но он ни разу не дал мне этого почувствовать.
Двумя днями позже Нгуен Туана принимал на даче, в Пахре, мой отец. Так совпало, что к этому моменту на даче закончилась очередная перестройка, и в столовой появился настоящий бар, со стойкой и тремя вертящимися блюдцами-седалищами. По случаю открытия бара отец закупил в тогдашней «Березке» большое количество экзотических напитков, но гвоздем сезона, королевой бала была огромная трехлитровая бутыль, набитая доверху красной рябиной и залитая водкой. Напиток этот впоследствии именовался «Симоновкой», имел нежно-розовый цвет и потрясающий, ни с чем не сравнимый вкус свежести, лишенной каких-либо сивушных привкусов. Ему и отдана была честь быть главным напитком вечера, и я так нарябинился, что, пока не уснул за обеденным столом, не давал никому толком слова сказать, а требовал, чтобы Ткачев перевьетнамил мои длинные и, как мне, видимо, казалось, очень остроумные восточно-цветистые тосты. Туан, как свидетельствуют очевидцы, был со мной снисходительно нежен, закрывал меня принесенным для этого пледом и приговаривал: «Симонов-фис, ах, Симонов-фис», – что по-французски означает сын Симонова.
Проснулся я на той же даче в огромном отцовском кабинете без всяких признаков алкогольного синдрома, но с неприятным ощущением, что я что-то делал, а что – решительно не помню. Было раннее утро, и я, ничтоже сумняшеся, вылез из окна кабинета, благо он на первом этаже, и почесал по грунтовке километра два до самого шоссе, а потом проголосовал какому-то грузовику и уже в 7 утра был на Красноармейской, но почему-то не в своей квартире, а у дверей квартиры, где снимало комнату семейство Ткачевых. Более никогда я не видел Ткачева таким растерянным. Со сна, в кое-как натянутом халате он, бледный, выпучил на меня свои прекрасные еврейские глаза и, запинаясь, сказал фразу, которую мы потом обыгрывали всю оставшуюся жизнь: «Алеша, но я же все сдал еще позавчера…» Изумление его было столь велико, что никакое иное объяснение моему раннему визиту в нем просто не родилось. Так в дальнейшем и распределялись жизненные роли: я – зверь-редактор, Ткачев – жертва несправедливости. И хотя всего через несколько лет я ушел в кино, какой-то оттенок этих ролей присутствовал в нашей с ним жизни до конца..
Из этой истории Марик потом выточил устный рассказ, или байку, где отчасти правдой, а отчасти изысканно вытканной словесной тканью в единое повествование были слиты Туан, Симонов-пэр, т.е. отец, Симонов-фис, т.е. я, присутствовавшая при сем наша общая подруга из Иностранной комиссии Мира Солганик и сам бытописатель Ткачев.
Тут я прерву незамысловатый сюжет о том, как напечатана была повесть Нгуен Хонга «Воровка», и сделаю лирическое отступление о ткачевских байках.
Пересказывать их, все равно что оказаться в положении генерала из анекдота, силящегося пересказать шутку своего денщика на неуклюжем армейском вместо рифмованного простонародного. Байки, безусловно, восходили к фольклору: у них было несколько постоянных героев и куча эпизодических, они огрубевали на бумаге, и потому я не рискну сделать то, чего не смог сделать и Ткачев, хотя мы не раз и не два его об этом просили, – записать их неуклюжими бумажными словами. Они были одесские, тем более что все постоянные герои были лошадками из одесской конюшни – друзьями ткачевской юности, противоречивыми участниками долгой совместной, или по крайней мере рядом текущей жизни. Нигде так ярко не сверкало это качество Ткачева – одесское джентльменство – как при рассказывании этих баек. Они всегда были пряными, но – на грани приличия, а если и за этой гранью, то они были такими смешными, что даже в голову не приходило ему за это пенять, пусть и при дамах.
Четыре главные героя ткачевского фольклора: доктор Табак – великий врач, Боря Бирбраир – великий физик, Калина – великий изобретатель и крохотный Леня Спекторов по прозвищу Дантон. В различных комбинациях к ним присоединялись одесские и кишиневские родственники, болельщики «Черноморца», москвичи-приезжие, одесские писатели разных лет и поколений, любимая Марикова тетя Люся, в чьей комнате в одесской коммуналке происходило многое из рассказанного, и другие персонажи.
Тешу себя надежной, что я и сам – человек не лишенный чувства юмора, но поставить меня на голову от хохота удавалось только Марику, причем не раз и не два. По крайней мере две трети нитей в ткани ткачевских сюжетов были правдой, но правда никогда не была гранью между подлинным и выдуманным – она причудливо пересекала эти истории наперекосяк. Ткачев выступал эдаким конферансье, выводившим персонажей на арену, именно ироничным конферансье, а не громогласным шпрехшталмейстером. Он никогда не терял маски отстраненности, хотя интонационно изображал своих героев настолько точно, что я, когда мне наконец довелось познакомиться с ними лично, поразился: их интонации и лексику я, оказывается, уже знал наизусть.