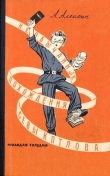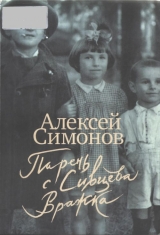
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Письма

Автограф на книге Юрия Казакова
Шестидесятые были эпохой писем: «открытых», которые писали граждане государству, и «закрытых», которые в ответ рассылало государство в свои казенные учреждения. Но все-таки это было огромным шагом вперед: после трех десятков лет полной разъединенности, когда слова «без права переписки», как правило, были эвфемизмом слова «расстрел», – мы с властью состояли в подобии диалога.
И моя мама, не раз прошедшая по лезвию, у которой трижды сажали отца, потом первого мужа, потом друзей, потом сестру, – не колеблясь, участвовала и в самиздате, перепечатывая и распространяя письма Эрнста Генри, Александра Исаевича Солженицына, Лидии Корнеевны Чуковской и других, что, собственно, и делало эти письма «открытыми», ибо ни в каких официальных органах письма эти появиться не могли. А письма, где главным были не имена, а количество подписей, она подписывала, хотя время от времени и пыталась уберечь от этого занятия собственного сына, то есть меня.


Автографы на книгах стихов Д. Самойлова и А. Вознесенского
Писем перепечатанных в архиве несколько. Подписанных, естественно, нет: сегодня смешно вспомнить и невозможно поверить, что подпись под письмом могла быть поступком, за который карали, в котором каялись, которым гордились.
Но и в рабочее время маму, видимо, не оставляла вера в силу слова.
Есть в архиве и эти документы:
«В президиум Верховного Совета СССР. Поддерживаю ходатайство родных о помиловании Славы Соломоновны Пайны, осужденной по ст. 172 УК РСФСР на три года лишения свободы…»
«В Московский Городской Суд. Я знаю Виктора Кислякова как автора журнала. <…> Убедительно прошу присоединить и мою просьбу <…>».
«В Верхне-Волжское издательство. Об Александре Дождикове. <…> Нам известно, что книга его стихов включена в план Вашего издательства. Надеемся, что наше начинание будет поддержано и его земляками, и, публикуя новую подборку его стихов, мы сможем указать, что первая книга поэта выйдет <…>».
Все эти письма подписаны: зав. отделом поэзии журнала «Москва».
«Приказ № 19 от 7 апреля 1969 года
по редакции журнала „Москва“.
За последнее время в работе отдела поэзии журнала „Москва“ (зав. отделом Ласкина Е. С.) были допущены грубые идейные ошибки, повлекшие за собой резкую и справедливую критику советской общественности и органов советской печати.
На стадии верстки и сверки были сняты идейно порочные, политически двусмысленные стихи Е. Евтушенко (№ 1, 1968), Л. Озерова (№ 9, 1968), М. Шехтера (№ 9, 1968), М. Алигер (№ 3, 1969). Дело дошло до того, что без ведома главного редактора в ранее просмотренные им стихи М. Алигер была внесена правка, в корне меняющая смысл стихотворения, делающая его идейно порочным и политически неприемлемым. В № 12 было опубликовано идейно вредное стихотворение С. Липкина „Союз И.“
Работа отдела поэзии подвергалась острой критике на собрании партийной организации и заседании редакционной коллегии журнала. Партийное собрание и редакционная коллегия выразили единодушное мнение о невозможности дальнейшей работы т. Ласкиной в редакции журнала.
Приказываю: За допущенные грубые идейные ошибки и политическую неразборчивость ( ну не могу смолчать: помните ее „четверку“ по „основам марксизма-ленинизма“ в Литинституте? Вот когда только загноилась у беспартийной мамаши эта червоточина!– А. С.) освободить с 8 апреля с. г. т. Ласкину Е. С. от работы в журнале. Приказ довести до сведения всех сотрудников редакции. Потребовать от зав. отделами усиления политической бдительности и контроля за идейным содержанием публикуемых материалов.
Главный редактор Михаил Алексеев».
Давно прошли «оттепельные» времена создававшего журнал Николая Атарова, проходили времена и либерала Евгения Поповкина, вошедшего в историю литературы редактора, впервые напечатавшего «Мастера и Маргариту». Пришли времена стилистов. Слово «идейно» употребляется в этом коротком, но выразительном нелитературном произведении пять раз. А главная подлость документа в том, что подписавший его подонок отлично знал, что до пенсии Евгении Самойловне оставалось меньше полугода. Мать переписала этот приказ на память – от руки, так он и запечатлен в архиве – ее почерком.
А жизнь продолжалась. Уже вне редакции мать пестовала, кохала и поддерживала новое поколение поэтов. Появился в доме Иван Жданов. Мать честно признавалась, что стихов его не понимает, но верила в его предназначение. Появились Лариса Миллер, Лена Шувалова, Саша Радковский. Последней появилась четырнадцатилетняя Нина Грачева – кто-то кому-то сказал, что вот есть такая женщина, понимающая в стихах, и папа-шофер привел к ней обезумевшую, ошалевшую от стихов дочку… Когда несколько лет спустя ее не приняли в Литинститут, мать растормошила всю поэтическую Москву, дозвонилась, достучалась, добилась. И – кто раз в неделю, кто в две, кто в месяц, письменно или изустно – по крайней мере десяток цыплят разного возраста являлись к своей наседке. Со стихами и с детьми, с публикациями и с болезнями, с любовями и с друзьями. И число их не уменьшалось. Теперь матери нет. И осиротели давно уже выросшие девочки и мальчики.
Архив

Газетная вырезка из маминого архива
Матери моей – до последнего дня – было присуще недоверие к официальной истории. В нарушение Главной Заповеди оруэлловского министерства Истории она хранила газетные вырезки, машинописные рукописи, переписывала от руки ненапечатанные стихи.
Последняя по дате – вырезка из «Московских новостей»: некролог Виктора Платоновича Некрасова. Сколько с тех пор прошло? Всего ничего, и уже забылось, что сам факт такой публикации был событием, почти сенсацией, чьим-то мужеством, чьим-то поступком.
Уникальных материалов в этом разделе нет. Сейчас, в свете печатного бума более поздних лет, хранение их кажется бессмысленным. Но как выкинуть полную машинную перепечатку «Колымских рассказов», в свое время схороненную по просьбе Варлама Тихоновича Шаламова? Или толстенную папку с надписью «Демьян Бедный том I», скрывавшую подслеповатую – тех самых самиздатовских лет – перепечатку «В круге первом».
А рядом – «Советская Россия» от 13 марта 1988 года – статья Нины Андреевой. А рядом – из «Правды» – статья Жюрайтиса, обличающая Любимова, Шнитке и Рождественского за «издевательство» над «Пиковой дамой». А глубже – из «Известий» – Дмитрий Еремин, «Перевертыши» – о Синявском и Даниэле, а по соседству – «Бабий Яр» из «Литгазеты» и «Наследники Сталина» из «Правды». Все события важные, памятные, сохраняемые. Для себя? Для истории? Для внуков? Не знаю, а рука не повернулась выбросить. И у меня не поворачивается.
Вообще духовные вершины и глубины мерзости периода шестидесятых – восьмидесятых годов представлены и типично, и неожиданно. От руки переписанная «Жидовка» Смелякова, «Воронежские тетради» в двух экземплярах, там же и пастернаковские «Стихи из романа», и подборка Максимилиана Волошина «Темен жребий русского поэта»… Из самых старых и трогательно не выброшенных: «По ком звонит колокол», перепечатанный на машинке еще до войны, «Звезда» за 1946 год с рассказом Зощенко «Приключения обезьяны» – тем самым, за который его сживали со света. Да, забыл: «Письмо Сталину» Ф. Раскольникова; нобелевская лекция Солженицына; «Письма к другу» Экзюпери; подборка за 1961 год «Стихи Слуцкого о Сталине» и рядом – подборка стихов Феликса Чуева «Зачем срубили памятники Сталину?» Ну, разумеется, кое-что домашнее: первый, ненапечатанный, вариант дневников Симонова за сорок первый год; верстка и сверка «Москвы» за шестьдесят седьмой, со второй половиной «Мастера и Маргариты». А кроме того, вырванные из журналов и не дождавшиеся переплета публикации, среди которых «Пути-перепутья» Федора Абрамова и «Острова в океане» Хемингуэя.
Прорвавшаяся в журнал вещь могла ведь и не выйти потом, а выйдет – не достанешь вдруг. Так и хранили то, что дорого, то, что для души. А некоторые еще и переплетали, осваивая смежную профессию переплетчика.
■
Два последних письма.
«Женечка! Еще раз спасибо Вам за редкостную доброту ко мне и к моему „хвосту“ – Юре и Сергею Алексеевичу [15]15
Юра – это, безусловно, Фрейдлин, психиатр, которому Н. Я. завещала свой архив, а вот кто такой Сергей Алексеевич, я, к стыду своему, не помню, но, скорее всего, это Желудков – священник-диссидент.
[Закрыть]. За Ваше редкостное терпение и за удивительную светлую доброту. С Вами ясно и светло, Женечка. Мне было удивительно хорошо с Вами. Простите за беспокойство и хлопоты, которые я Вам принесла. Поцелуйте от меня Алешу и золотого мальчика Женю. Мне кажется, это будет одаренный и хороший мальчик. Он умница и очень очаровательный. Спасибо, друг милый. Дай Вам Бог удачи и счастья. Женя уж потому будет хорошим человеком, что растет у Вас, с Вашим умом, тактом и душевной красотой. Целую Вас крепко.Ваша Мандельштам.30.8.71».
Ну, перечтите обе книжки этой пронзительной и злоязыкой умницы и попробуйте найти что-нибудь сродни этому панегирику! Вот ничем бы не хвалился, а этим хвастаюсь, тем более что моя характеристика дипломатично опущена.
И последнее из писем. Оно уже адресовано мне, потому и в самом деле последнее:
«Алексей, слов соболезнования никогда я не знал и не знаю, я человек не любвеобильный.
Но Евгению Самойловну очень люблю и всегда любил, и люди такой красоты, ума, терпимости рождаются редко, и когда умирают, остаются в тех, кто еще жив, и в тех, кто потом будет жить.
Александр Межиров.25.3.91».
■
Есть люди – создатели климата. Они поворачивают реки, определяют пути литературы, воздвигают и опустошают моря и озера, ставят вехи на дорогах науки и культуры.
Есть другие люди – хранители микроклимата, те, кому человечество обязано сохранением преемственности поколений и нравственных норм, те, кто, несмотря на все протуберанцы истории, воссоздают вокруг себя атмосферу, в которой можно дышать, быть самими собой и любить друг друга.
О первых пишутся книги, им ставят и сносят памятники, о них спорят, их хулят и прославляют, и, какими бы они ни были, они всегда козырные карты в политической или исторической игре.
О вторых история забывает, дело их жизни растворяется в тех, кто окружал их, кто дышал их воздухом, в ком хранится память о них. Разделение это, конечно же, условно. Конечно же, между черным и белым существует целая палитра полутонов, и все-таки оно есть, и в основе его, в самой первозданной глубине лежит не судьба – не внешние обстоятельства, а выбор – обстоятельства внутренние.
Для человека, окончившего Литинститут, мать обладала качеством довольно редким: она терпеть не могла писать. Даже внутренние рецензии, коими она зарабатывала хлеб насущный, были для нее если не мукой, то уж наверняка нелегким испытанием. Трезвая оценка своих возможностей? Да, но и смирение перед любимой словесностью. Раз и навсегда сделанный выбор? Да, но и гордыня, вера в свое предназначение: помогать таланту осознать себя, укрепиться в вере в свои силы и созидать в отпущенную меру и никак не меньше.
А иначе зачем было хранить все то, о чем здесь идет речь? В чем смысл такого – ни к кому не обращенного, специально не осмысленного и тем не менее хранимого и умножаемого, архива? Только ли в том, что каждая из составляющих его бумажек ценна авторским именем, или еще и в том, что все они вместе составляют душевный портрет хранящего?
Эпитафия

Мы с моей столетней тетей – Фаиной Самойловной. Снято давно, когда ей было всего 97 лет, 2006 г.
Есть старая китайская притча о человеке, которого одолела жажда путешествий. В один прекрасный день он оставил жену, детей, дом, покинул свою деревню и отправился в путь. Шел он три дня и три ночи, а когда свалился усталый спать, перевернулся во сне и утром, не ведая того, пошел в обратном направлении. Он шел три дня и три ночи и подошел к деревеньке, похожей на его родную деревню, из очень знакомого дома вышла женщина с очень знакомым лицом, а за ее юбку держались трое чумазых ребятишек – точь-в-точь, как его собственные. И он вошел в этот дом, стал жить с этой женщиной и кормить этих детей. И был бы совсем счастлив… но всю жизнь его мучила тоска по Родине.
С этой, похожей на китайскую, ностальгией живут сегодня тысячи москвичей: тоскуют по своей арбатской, ямской или замоскворецкой Родине, проживая в Бутове, Дегунине, Отрадном и прочих замечательных жилмассивах с хорошим климатом и благоприятной окружающей средой. Разница только в том, что вовсе не их мучила жажда путешествий. Охотой к перемене мест страдали, скорее, их состоятельные земляки, оккупировавшие ныне старинные переулки исторического центра столицы нашей Родины.
«Знаешь, я очень скучаю по Москве», – сказала мне на днях моя столетняя тетушка, когда я уже в который раз навещал ее на новом месте жительства. До переезда, она почти семьдесят лет жила на Сивцевом Вражке. Из окна квартиры на втором этаже не видно было ни Староконюшенного – прямо, ни Арбата – в ста метрах вправо, только кусочек Малого Власьевского можно было углядеть из задних окон. Задними они считались потому, что когда-то под ними располагались роскошные помойки, на которые мы в детстве сигали с крыш стоявших там сараев. Дом, когда в него поселялись, был новый, потом привычный, потом старый. А жизнь все эти семьдесят лет была как у всех: кто-то уезжал в ссылку, кто-то в лагерь, кто-то на войну, кто-то возвращался, кто-то нет, но все эти семьдесят лет маленькая квартирка на Сивцевом была коллективной семейной варежкой, где все друг другу грели руки и грелись душой. В скрипах старого дома, в гуле газовой колонки, в детских возгласах за окнами жило ушедшее время и память о людях, из которых это время составлено.
Потом дом порешили ломать. Подъезды пустели, по двору и по лестницам сновали энергичные молодые люди из строительной фирмы, откупившей это пространство под новомодную застройку. Мэр Москвы сказал когда-то очень гуманные слова: дескать, не будем мы лишать старых москвичей их среды обитания. Жаль, что гуманизм и правда не совсем близнецы. Надо было бы добавить: не лишим тех, кого не сможем лишить, кто сумеет выстоять, кому хватит терпения и дурного характера отстоять свои права в союзе с гуманным, но далеким и малодоступным мэром.
Те, кому характера не хватило, – вот они-то и поехали в Отрадное Бутово, те, кто покрепче остались в пределах Центрального административного округа, а самые мужественные и склочные – те действительно сохранили среду обитания – переехали в один из соседних уже перестроенных или отремонтированных домов. Зато их новые немощи – результат борьбы со строителями будущего – лечат по-прежнему старые, привычные врачи. Тетушка живет в прекрасной новой квартире с двумя лоджиями на обе стороны. Неподалеку от Большой и Малой Коммунистической. Там светло, тепло и … непривычно. Выходить из квартиры ей незачем: ни одного знакомого лица, даже у домов. Сын ее отлежал в госпитале все последствия переезда и уже вышел на работу.
Когда-то, когда я еще был кинорежиссером, довелось мне снимать документальную картину «Прощай, старый цирк» о последних днях никулинского цирка на Цветном бульваре. В день последнего представления я взял интервью у Сергея Юрского. «Новое здание будет, наверное, замечательным,– сказал он тогда, – но должны пройти десятилетия, пока стены его впитают тот объем искусства, которое живет в этих старых стенах».
Нет уже тех стен, где жил мой детский крик, и запах бабкиных пирогов, и посапывание деда, и звуки ежевоскресного семейного обеда. Но у меня-то еще много ли, мало ли, но время впереди есть. А у тетушки в ее новом и оглушительно чужом мире? Вот и сидит она, и перебирает старые фотографии, и жалеет, мучается, что никому никогда не пришло в голову сфотографировать наш старый дом, вид из окна, обшарпанную дверь третьего подъезда и хотя бы маленький кусочек старого, окуджавского, Арбата. А ей так хочется увидеть Сивцев Вражек, Родину.
ЧАСТЬ II
Круги по воде
Школа № 1

Урок истории в 8-м «Б» той самой школы № 1
Моя первая школа была не первая, а пятьдесят девятая, а вот вторая – была первой и по номеру, и по месту в моей памяти, а как следствие – в моей биографии.
Есть люди искренне убежденные, что первична биография, а память – это то, что они из собственных биографий помнят. Я же отношусь к разряду их непримиримых оппонентов: первично то, что существенно в моей жизни, что повлияло на то, как она складывалась и сложилась. Это и есть память, а биография – только жалкое производное от того запаса памяти, который мне отпущен. На основе одной памяти можно написать сколько хочешь биографий. И все они будут правдивыми, но утлыми – для одноразового плавания, т.е. использования.
Но если быть исторически точным, то и школа № 1 была не первой, а второй – специализированная, с усиленным изучением английского языка, первой была такая же французская, открытая в Москве годом раньше. А в пятьдесят девятой – бывшей Медведковской гимназии, помещавшейся в Староконюшенном переулке аккурат напротив Канадского посольства, – я проучился только три года и кроме имени учительницы (Варвара Дмитриевна) и двух-трех анекдотов для биографии моей от этой школы остались только «усы», как у садовой клубники при вегетативном размножении.
Нас набрали в младшие классы, с первого по шестой, брали, как было объявлено, только отличников и брали поначалу со всей Москвы. Способности у человека выявляются по-разному, и отличник-второклашка, скорее, усидчив, чем талантлив, но принцип был именно такой, и, надо сказать, он к концу десятого класса дал неплохой результат. Из одного моего класса вышло не то двенадцать, не то четырнадцать докторов самых разных наук и даже один академик – Кира Замараев. Еще брали блатных, т.е. детей высокопоставленных родителей, но на атмосфере школы это почему-то не сказалось, хотя, может быть, это казалось только мне, поскольку я и был отчасти блатной. Классом старше меня учились братья Маленковы, сын писателя Вершигоры, сын певицы Ирины Масленниковой – Митька Одиноков, сын кинорежиссера Донского – Сашка, ну и я. Я проходил по всем параметрам. И Симонов, и отличник за 3-й класс, и, что тоже приветствовалось, с английским, полученным на частных уроках у англичанок. Англичанки были самые настоящие, одна из Англии, а другая из Америки, начал я заниматься лет в 5, и, к большому моему счастью, они успели привить мне «чувство языка», когда ты понимаешь контекст, даже если знаешь не все слова. Но об этом как-нибудь потом, а пока – о первом школьном конфликте.
■
Уж не знаю из каких соображений, но перевод из школы в школу придал значительности моей юной персоне. Вполне допускаю, что хвастовство своей причастностью к известной фамилии компенсировало мои переделкинские комплексы, и в школе я носился с ней, как с писаной торбой. Что думали по этому поводу мои соученики – не знаю, но к началу третьей четверти, а это, если помните, зима, январь месяц, они решили меня отлупить, или, по тогдашней терминологии «устроить мне темную». Руководил операцией Славка Пирогов, человек решительный, сугубо пролетарского происхождения, впоследствии учившийся со мной в ИВЯ и ставший полковником госбезопасности, нашим резидентом в Японии. Что они меня собираются бить, меня предупредили, а вот за что – надо было догадаться самому, ничего определенного сказано не было. Ясно было и то, что делать это они будут после уроков, когда впереди долгий путь домой и времени – вагон. А кроме всех иных осложнений, Славка еще был моим соседом, то есть путь домой становился рискованным от школы до собственной парадной на Зубовской площади, куда я переселился к маме вскоре после перехода в 1-ю школу.
Два дня я от них прятался, ходил задворками, перелезал через заборы и одновременно мучительно пытался понять: «За что?». Сначала понял: за то, что Симонов. Потом вдруг дошло: не за то, что Симонов, а за то, что этим хвастаюсь, бравирую, выпячиваю свою фамильную причастность к элите. Видимо, это не слишком глубоко во мне сидело. Я вздохнул с облегчением, вышел к своим преследователям и уж не помню, в каких выражениях, но сказал: «Бейте, виноват». Такой поворот сильно снизил пафос их ко мне ненависти, для проформы меня пару раз ткнули носом в сугроб и отпустили.
С того времени я носил свою фамилию, стараясь не наносить ущерба достоинству окружающих. Бывал, по обстоятельствам, и «сыном великого отца», но всегда этого отчасти стеснялся и никогда не бывал им по собственной инициативе.
■
Параллельных классов было у нас всего по два, «А» и «Б», но для занятий английским, а они стояли в расписании практически каждый день, класс из 27–30 учеников делился еще на 3 группы, и в каждой с 9–10 учениками ежедневно занимался отдельный учитель. После такой школы любой наш заядлый троечник, поступая в ВУЗ, на экзамене по английскому чувствовал себя корифеем и свои «пять» в экзаменационный листок получал, можно сказать, автоматом.
Директором этого образовательного эксперимента был назначен, как теперь бы сказали, выдающийся менеджер, преподаватель вроде бы физики, но занимавшийся только проблемами школы. Причем назначен он был на какой-то ограниченный срок, скорее всего, на 5 лет – до первого выпуска, потому что в 54-м он от нас ушел и, к нашей всеобщей гордости, занял пост замгенсекмежфедуча – заместителя генерального секретаря Международной федерации учителей. В сокращенном нами виде аббревиатура этого названия нравилась нам намного больше. Даже фамилия у него была основательная – Таптыков, Дмитрий Николаевич. Не помню, как ее писали, но то, что произносили через «а» – это точно. Какие общественно-политические задачи перед организатором школы были поставлены – не ведаю, а практические (организовать школу, набрать учителей, построить спортзал, наладить учебный процесс) он выполнил с блеском и, я бы сказал с некоторым даже вызовом, если принять во внимание факты, ставшие понятными мне много позже. Он, например, в 1950 году взял на работу учителя истории, выкинутого с его предыдущего рабочего места в разгар борьбы с космополитами. Да еще с фамилией Левин. Было у него какое-то идеологическое прикрытие, пересиживал ли он в этой должности непонятные нам, но чем-то стреножившие его времена, – не могу знать. Знаю, что нам, школе, с первым директором повезло очень, тем более было с чем потом сравнить. Климат, который он в школе создал, держался долго, почти все мои семь лет, климат доброжелательной состязательности – художественной, спортивной и даже, что самое непростое, учебной. У нас отличниками гордились, им в общем даже не завидовали, и никому, кроме редких отъявленных хмырей, не приходило в голову к ним ревновать или радоваться их случайным неудачам.
Располагалась наша школа в Сокольниках. Из метро прямо, через Русаковскую улицу, и по диагонали – мимо до сих пор стоящей пожарной каланчи – территория школы – вплоть до забора стадиона «Спартак» (тогда еще не крытого) со ступеньками трибун, куда мы в старших классах бегали курить. Вокруг стандартного, в 4 этажа, здания школы – что-то вроде сада, где позднее проходили наши маршировочные занятия по военному делу и где через два года вырос и наш, редкий по тем временам, настоящий спортивный зал, где мы, постепенно поднимаясь в сокольническом общественном мнении, играли сперва за школу, а со временем и за Сокольнический район. Поначалу-то нас ненавидели ровесники из окрестных школ оптом и в розницу, но постепенно местническая вражда преодолевалась проявлениями районного патриотизма, и поскольку школа была спортивная, и в сборные школьников района брали многих наших – приходилось, болея за своих, болеть и за нас. И уже классе в восьмом или девятом, могучий Юдзон, еврей-хулиган, главный оторва соседней школы – уже хватал каток – железный патрубок, на которых вывозили и ввозили из подсобки брусья и другие снаряды, – и лез бить этим катком несправедливо судивших нас судей или нанесших нам травму соперников из другого, несокольнического, района. Так что в районе мы приживались недолго. Летом за нас болели в баскетбол, волейбол и по легкой атлетике, зимой – за наших лыжников и целый год за гимнастов и стрелков.
И все-таки, даже становясь объектом боления, уважения и даже восхищения, мы оставались «чужими». В нормальных условиях жизнь школы по окончании уроков перетекает в жизнь двора, соседней улицы, тесно завязывается на дворовые приоритеты и дворовые авторитеты, создавая некий симбиоз, который и называют средой обитания. У нас этого не было. Мы после школы шли в метро и разъезжались по Москве, так что в отличие от детей улицы мы представляли некую странную общность, именуемую «дети метрополитена». Линия его, воспетая в знаменитой «Песне извозчика» Леонидом Утесовым, была моей линией жизни: «От Сокольников до Парка на метро» – это был мой ежедневный маршрут, проделываемый дважды в день, а в старших классах иногда и четырежды. И не важно, что, становясь взрослее, мы иногда проделывали этот метромаршрут пешком, поверху – нам не на что было переключиться, мы несли в себе школьные заботы, школьные мысли, школьные приоритеты, не переключаясь. В наших компаниях редко появлялись ребята не из нашей школы, жили мы по всей Москве, и окончание школы оказалось для нас куда более радикальной разлукой, чем для остальных, и связи поддерживались в основном по телефону и терялись много проще и легче.
Я, честно, не знаю, хорошо это или плохо, но было именно так: что-то важное в детстве и ранней юности мы недополучили, что-то, видимо, приобрели. Мы, например, были более светскими, что ли, мы не робели перед величиной города в котором жили, мы не боялись «чужих» районов, у нас не было разделения на «нашу» и «не нашу» территорию. Мы чувствовали себя в метро как рыбы в воде и даже некоторые закономерности общежития познавали раньше своих ровесников: я, например, с детства по собственному опыту знал, что двигаться вперед тебе мешают в первую очередь те, кто идет с тобой в одном направлении, а чтобы все-таки уметь их обгонять, надо смотреть и предугадывать движения окружающих, а не сосредотачиваться на собственной скорости – так получается намного быстрее. Забавно, что через много лет давний приятель, почти родственник нашего семейства, Генрих Шур, который тогда был тренером по спортивному ориентированию, рассказал, что учиться читать карту на бегу очень удобно именно в метро – он это неоднократно применял в своей тренерской практике. Так что в определенном смысле мы были взрослее своих сверстников. И еще – помните, я говорил о состязательности как о важной составляющей школьной атмосферы. Так вот, даже сегодня, на исходе седьмого десятка, я, если самочувствие позволяет, с удовольствием обойду на метрополитеновской дистанции любого молодого лоха, не владеющего этой техникой: в какой из пролетов надо сунуться, как обойти толпу, движущуюся поперек, как не попасть в ситуацию, когда ты вправо и он – вправо, ты влево, а он об тебя – шмяк, как различать возраст впередиидущего, потому что самые непредсказуемые в метро люди – это старики. Глазомер редко меня подводит, так что вполне в духе Максима Горького могу о себе сказать: всем лучшим в себе я обязан… метро и Александру Александровичу Гугину – нашему школьному учителю физкультуры.
Не знаю, был ли он в молодости выдающимся спортсменом, хотя слухи такие среди нас ходили, но энтузиаст физической культуры и спорта он был выдающийся, как сегодня сказали бы – фанат. Лет ему было под сорок – его сын Валька учился со мной в одном классе. Сам Сан Саныч был сухой, поджарый, всегда элегантный и в спортивном, и в цивильном обличьи, с узким, хорошо вылепленным аскетическим лицом и редко появлявшейся, но совершенно ослепительной, белозубой и нежной улыбкой. При этом – фотограф и изобретатель. Мне довелось принимать участие в демонстрации изобретенного им тренировочного снаряда под названием «параллельные бревна» на конференции учителей физкультуры. Такого снаряда я больше никогда и нигде не видел и допускаю, что снаряд не прижился, как, впрочем, не прижились и другие изобретения Гугина по части методики вовлечения юного поколения в активные занятия спортом. Но мне довелось не только демонстрировать этот его снаряд, но и заразиться идеей Сан Саныча, что спорт составляет важную, неотъемлемую часть жизни любого молодого человека, а если ему повезет, то может и остаться с ним на всю остальную куда более продолжительную его жизнь.
Но главным открытием и каждодневной заботой Александра Александровича была последовательно, из года в год создаваемая та самая атмосфера состязательности: каждое школьное соревнование, каждый рекорд отражались на огромном стенде спортивных успехов школы. Там были все рекордсмены пятых, шестых, а впоследствии и девятых-десятых классов: фотография, дата, достигнутый результат. И победившие команды, и чемпионы года, чего там только не было. Мне довелось раза три или четыре видеть себя на этом стенде, и я гордился этими фотографиями не меньше, чем впоследствии гордился своей фамилией на памятной доске серебряных медалистов 1956-го – моего выпускного года. И результаты обновлялись после каждого соревнования: рекордсмен школы среди 6-х классов по прыжкам в высоту, победитель 1954 года по прыжкам в длину, по бегу на 100 и 1000 метров, по толканию ядра и метанию гранаты. Первое, второе, третье места, да я по сей день помню, что рекордсменом школы на 1000 метров был мой одноклассник Володя Хаботин, а в метании гранаты – рыжий Генка Бекетов из параллельного. Когда наша лыжная команда 8-го класса «Б» на общешкольных соревнованиях «сделала» обе команды десятиклассников и «А», и «Б», мы гордились этим как своим личным достижением. Помню и другое: однажды на каких-то очередных лыжных состязаниях команде нашего класса для полного зачета не хватило одного участника: в команде – четверо, зачет по троим лучшим, так они втянули в эту пятикилометровую муку меня. И я, далеко не корифей в лыжах, доползал эту дистанцию под веселые понукания уже закончивших ее моих товарищей по команде: Влада Владимирова, Юрия Шабулина, третьего не помню, скорее всего, Гугин-младший. Я дополз, и они восхваляли меня, как будто без этого они бы не победили. Или на районных играх по легкой атлетике Александр Александрович неисповедимым тренерским чутьем угадал и в эстафете 4 x 100 поставил на последний этап Вадика Николаева, а тот, неожиданно даже для нас, приняв эстафету третьим, странной иноходью, задрав голову куда-то вверх и вбок, обошел впереди идущих и рванул финишную ленточку – как мы были счастливы за школу и как был счастлив за нас бледный от напряжения Гугин.
И отдельно на гугинском стенде: наши ребята – чемпионы Сокольнического района, второй призер по толканию ядра (это был я!). Словом, Гугин этим сбивал нас в какое-то школьно-партриотическое, классно-патриотическое братство. И в командных видах – то же самое. Первая пятерка десятого «Б» по баскету была одновременно первой пятеркой всего района, а лучший наш баскетболист Борька Прозоров – первым парнем во всей сокольнической деревне. И никто ему не завидовал, разве что чуть-чуть, когда он, резко меняя направление дриблинга, шел в проход на кольцо, тому как у него это получалось и как он классно тащил к победе всю команду.