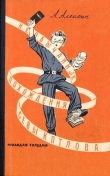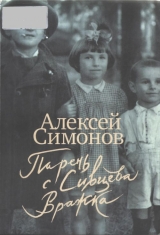
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
В-третьих, Григорьев знал свой сценарий наизусть, причем он особенно хорошо помнил первый, писательский, дорежиссерский вариант и не уставал тосковать по нему, даже когда картина была закончена и сдана.. Его герои умирали в нем долго, болезненно долго, и это иногда мешало следующему сценарию прорастать в нем, хотя идеями сценарными он был напичкан до отказа, и я так и не сподобился узнать, как они в нем зарождаются.
В-четвертых, сценарий, на какой бы стадии работы фильм ни находился, никогда ему не надоедал, он всегда готов был о нем говорить, его трактовать, толковать, втолковывать и расшифровывать, кроме тех случаев, когда надо было что-то сокращать или менять – тут Григорьев скучнел, становился тускл, быстро уставал, и мне иногда казалось, что ему легче написать новый сценарий, чем переделывать уже законченный, настолько он вдруг становился мучительно ленив и рассеян.
Неслучайно каждый новый сценарий Григорьев писал медленно, с нарушением сроков и необъяснимыми паузами. Я ведь не зря говорю, что сценарии в нем «прорастали». Не может человек заранее и наверняка сказать, что это дерево станет плодоносить в четверг после обеда. Так и у Григорьева со сценариями. Но должен признаться, что это его достоинство было чрезвычайно мучительно для людей, которые так или иначе планируют свою жизнь. Кстати, пока он сочинял свой роман-исходное, он бывал чрезвычайно словоохотлив, а вот когда садился писать – загадочно туманен, и никогда нельзя было поручиться, что конечный результат не будет решительно отличаться от известного тебе исходного. Дело в том, что полуфабрикат он просто не показывал, поэтому для него проблема первого, второго и третьего варианта была звук пустой. Сценарий или получился (это бывало чаще), или не получился (что, вероятно, случалось, хотя плохих его сценариев я не читал), а варианты – это, скорее, мучительный процесс втискивания большой вещи в прокрустово ложе метража.
У Григорьева был, наконец, непривычный «референтный круг». Нет, он, конечно, прислушивался к коллегам, радовался успеху у критиков, но «получилось – не получилось» определялось у него по реакции нескольких, никакого отношения к кино не имевших «парней», с которыми он вместе вырос в одном московском дворе. Этим «парням», применительно к «Отряду», как и Григорьеву, было лет по пятьдесят, они были инженеры, конструкторы, шоферы – и их неречистое одобрение было Григорьеву чрезвычайно важно.
■
Как справедливо сказал поэт, «слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье», так вот для Григорьева анкетный термин «пролетарское происхождение» – вопреки Маяковскому – был одним из существеннейших факторов его жизни и творчества. Ему, например, всегда казалось, что он недостаточно образован, и он постоянно восполнял этот пробел. Когда мы были с «Отрядом» в Польше, то, оказалось, что именно он лучше всех нас – гостей – знает историю и культуру наших хозяев, и мы с некоторым остолбенением слушали, как Григорьев, выясняя в музее у экскурсовода, который же это Потоцкий, лезет в такие дебри истории и географии, в которых даже экскурсовод чувствует себя не совсем уверенно. Зато он не стеснялся не знать, и незнание его было жадным, всегда готовым превратиться в знание.
■
Ну вот, я стал говорить о сложностях григорьевского характера и все-таки скатился на славословие. Но раз уж это все равно произошло, то я в заключение этих заметок, которые и не претендуют на кристальную объективность, скажу о той черте григорьевского характера, которая привлекала к нему людей тем больше, чем лучше они его знали. Эта черта характера заставляла прощать ему раздражающую иногда сосредоточенность на своей внутренней жизни, его обременительную для близких людей неприютность, количество углов в его характере и неумение эти углы сглаживать. И даже проявляющуюся в нем иногда этакую застенчивую манию величия – а он, Григорьев, знал себе цену и не скрывал этого от друзей. Это удивительная его нежность к людям. Он был нежный человек, большой, неуклюжий и нежный.
Я ужасно огорчился, когда Григорьев перестал преподавать во ВГИКе, потому, что, слушая его рассказы об учениках и размышляя над ними, я примерно так сформулировал григорьевское педагогическое кредо (подчеркиваю, это я его так сформулировал): «Души не бывают похожи друг на друга. Похожи бывают сюжеты, ходы, приемы работы над сценарием, даже жизненный опыт – но не души. Высвобождение души ученика – основное усилие мастера». Им, вероятно, трудно жить в кино – григорьевским ученикам. Но настоящим людям, чем бы они ни занимались, должно быть трудно, ибо они делают самую главную работу жизни: двигают жизнь вперед.
Впервые это было напечатано в 86-м, когда еще впереди были знаменитые «Отцы-66» и «Отцы-68» – постановки по григорьевским «загашникам» – сценариям «с полки», но, надеюсь, и из того, что здесь рассказано, ясно, что вписаться в новую, счастливую капиталистическую жизнь была Григорьеву не судьба. Последние годы до его смерти мы почти не виделись, но душевная привязанность к нему во мне не слабеет и по сей день.
Я строю на песке…

Сева – Всеволод Михайлович Вильчек
Первое знакомство с Вильчеком было довольно странное: подошел человек – было это в Доме кино – незнакомый, роста небольшого, с неестественно прямой спиной – я тогда не знал, что у него были проблемы с позвоночником – интеллигентно так подошел:
– Вы, – не то спрашивает, не то утверждает, – Симонов?!
– Да, – говорю, – я вам зачем-то нужен?
– Ну, как вам сказать… хотел бы уточнить одну деталь вашей биографии.
Сейчас это выглядит странно, что мы познакомились только в 82-м или 83-м году. Опорные точки наших биографий совпадали если не во времени, то в пространстве. Жизненный опыт включал «Севера», Восток, журналистику, телевидение, да и основополагающие персонажи этих биографий были одни и те же. Поэтому из памятных разговор с Севой этот, единственный, на вы, и происходить он мог только после 81-го, когда уже вышел однотомник воспоминаний о моем отце, потому что «уточнение детали» касалось моего текста, помещенного именно в этой книге.
Незадолго до своей смерти Сева дал мне большое интервью для фильма об отце, и там подробное изложение этого эпизода как бы замыкает рамки нашего с ним знакомства, так и хотелось написать «дружбы», но нет, знакомства, с дружескими, доверительными отношениями. Дружба от знакомства отличается тем, что у дружбы нет ни расписания, ни графика, так что все-таки знакомства, с совместными работами, с серьезными спорами, с согласием – чаще и с разногласиями – тоже нередко.
Итак, подошел человек с усмешкой, как оказалось впоследствии, редко покидавшей его лицо и адресованной, скорее, себе, что располагало к нему собеседника. Сева словно говорил этой усмешкой: «Я вам скажу вещь умную, но вам она, возможно, покажется глупостью. Не стесняйтесь, я к этому готов, видите, я уже заранее ухмыльнулся».
А история выглядит так:
«Познакомился я с вашим папой в Ташкенте на защите диссертации Вулиса, с которым потом они „Мастера и Маргариту“ печатали. Мой декан подвел меня к Симонову и говорит: „Вот, Константин Михайлович, это очень способный студент, он будет писать диплом по вашим стихам“. Так я узнал тему своей дипломной работы, а декан, между прочим, был жуткий подонок и впоследствии этой работой моей вовсе не интересовался. Но контакт с Симоновым установился. Отсюда и история. Звонит как-то Симонов: „Сева, вы получили новый номер „Юности“?“ Я говорю: „Да“. „Прочитали?“ – „Нет еще“ – „Обязательно прочтите, вечером встретимся“.
Ну, я начинаю читать, наталкиваюсь: очерк Алексея Симонова об экспедиции геологической. Понимаю – вот оно что. Ну, после его выступления, вечером, ходим с ним по улице Навои, и он все спрашивает: „Ну, как вам очерк?“ Раз десять спросил. А мне поговорить хочется про свои стихи, которые у Симонова лежали, но он ни в какую: все про своего сына и его первую заметную литературную работу.
Потом вышла книжка воспоминаний о Константине Михайловиче, и там была ваша статья о нем. ( Тут Сева продемонстрировал чудеса собственной памяти, процитировав последнюю фразу в этом моем сочинении. Причем почти дословно.– А. С.) В Союзе кинематографистов я вижу человека, на кого-то очень похожего. Соображаю, что это – вы. Подхожу, мы не знакомы еще, и говорю: „Знаете, вы прекрасно написали о своем отце, но неправду. Там написано, что Симонов не интересовался творчеством своих детей, что он к ним относился так же, как ко всем другим детям. А я вам расскажу, что это абсолютная неправда“».
И Сева рассказал эту самую историю.
Так была восстановлена между нами связь времен и давнее заочное знакомство превратилось в реальное и очное.
Тогда же, в конце 50-х, в Ташкенте, состоялось его первое знакомство с советским телевидением, его особыми нравами, и традициями. А связано это было опять же с Симоновым-старшим, на показ которого по ташкентскому телевидению был начальством наложен негласный запрет. Почему отец впал в относительную немилость, я знаю не от Севы, а вот о Севином участии в этой истории – непосредственно от него.
Сева в интервью 2005 года рассказывал про отца, но, только взявшись за этот материал сейчас, я понимаю, сколько важного он рассказал о себе. О приоритете гордости, об отсутствии у Севы навыка чинопочитания и о том, как он готов был порушить только-только формирующуюся биографию ради принципа. Вот как выглядит этот рассказ Севы в расшифровке.
«Ташкент шумел: в Ташкенте Симонов. А я в 59 году начал работать на ташкентском телевидении. И с удивлением обнаружил, что живущий в Ташкенте Симонов ни разу не выступал по ташкентскому телевидению. Что-то такое невероятное.
Я по-нахальному звоню Константину Михайловичу: „…Для вас это, наверное, не интересно, но Ташкенту очень интересно. Может, согласитесь выступить у нас по ТВ?“
Он сказал: „Вы приезжайте, мы это обсудим“.
Я приехал.
Он говорит: „Меня уже однажды приглашали, но расписание изменилось и передача выпала. Я не хочу, чтобы снова была такая неприятная ситуация. Вы все-таки согласуйте, чтобы такого больше не было… и мне позвоните“.
Я сказал: „Да, да“. Приезжаю на студию, иду к старшему редактору. Он не мычит, не телится. Иду к завредакцией: не мычит, не телится, посылает к главному редактору. Главный говорит: „Нет, Симонова у нас не будет“. Как? Почему?
– Не мой вопрос. Это решается на уровне секретаря по идеологии, – это он совершил преступление против законов жизни партии: на устные распоряжения ссылаться было нельзя. Нужно было брать все на себя.
Но для меня – молодого графомана, который уже пригласил Симонова, сказать ему, мол, нет, вы не будете у нас выступать, – лучше покончить с собой. Не вру, такое было состояние. Через каких-то знакомых я пробрался в ЦК к секретарю Рахимбабаевой, ну не к ней, к помощнику, и сказал: покончу с собой прямо здесь, в приемной, если не дадут разрешения Симонову выступать. А там разговоры-разговоры и объявляют: „Какую глупость вам сказали, езжайте к своему главному. Что вы сюда пришли? Это решает студия“. А главному уже успели дать втык. Он говорит: „Нет-нет, Симонов, конечно, выступать будет, но учти… скажет хоть что-то не то – уволим тебя с работы“.
Хорошо.
Еду к Константину Михайловичу: „Нужен хоть набросок, хоть план вашего выступления, что-то, что можно цензору отдать“. Он дал переводы из узбекских поэтов, написал несколько строчек, о чем будет говорить.
Хорошо.
День выступления. Везу его на студию и по дороге все-таки ему говорю: „Константин Михайлович, неудобно говорить, но, пожалуйста, держитесь своего плана…“
Он говорит: „Ну давайте, Сева, по-мужски ( он звал меня Сева и на вы), рассказывайте, что там было“.
Я говорю: „Все ничего, но есть понятие „микрофонная папка“, на которой должны стоять подписи цензора, главного редактора, завредакцией и т.д. Так вот, подпись на этой папке стоит только одна – моя“.
Он все понял. Приезжаем, он берет меня под правую руку, чтобы не пожимать рук выстроившемуся у входа начальству, и мы с ним входим».
На ташкентском телевидении Сева проработал недолго. Уже в 60-м ему пришлось оттуда «делать ноги», потому что грехи за ним водились разные: то он сочинял длинную и цветистую поэму за незнакомого героя социалистического хлопкоробства, так что обманул даже высокий вкус моего папаши и едва не попал под разборку, потому что, впечатленный поэмой, отец рвался поехать к автору вместе с «блестяще осведомленным» переводчиком, то писал телепьесу, из-за которой за него брались органы. И в это время как раз подоспело приглашение из Норильска – на тамошнее ТВ. Сева пришел советоваться к отцу, и отец сказал: «Вам здесь не жить, езжайте, делайте себе там биографию». И книжечку стихов подарил с надписью «Всеволоду Вильчек на память и на дорогу в Норильск. Константин Симонов». Так и написал, не склоняя фамилии.
Ну вот, а двадцатью с лишним годами позже познакомились мы с Севой. Уже за плечами его были и Норильск, и «Журналист», куда его пригласил Егор Яковлев. Уже Сева хромал, уже, как я говорил, и спину держал неестественно прямо, уже навыки боксера-легковеса сменились навыками опытного путешественника, уже прошло увлечение журналистикой, и главным стала социология, а журналистское прошлое сказывалось главным образом в нестандартной, острой подаче итогов социологических исследований, все-таки Севина социология была приемной дочкой его журналистики.
Эти двадцать с лишним лет мы ехали по жизни в одном поезде, но почти всегда в разных вагонах, и чем дальше, тем большим было между этими вагонами поездное пространство. Мы охотно ходили друг к другу в гости, но, как я уже сказал, заранее оговаривали время и место. Нам было интересно друг с другом, особенно мне с ним, потому что Сева был глубже и умнее меня – поэтому оказался менее защищен от соблазнов людей и обстоятельств. У него всегда была подспудная надежда, что кому-то он что-то до конца объяснит – и тот поймет, и… вот после этого «и» и начинались все Севины разочарования. Потому что какими бы многообещающими ни были тенденции отдельных ТВ-каналов, на которых работал Сева, и либеральность их руководителей, которых он поначалу водил за руку, а со временем оказывалось, что они водили его за нос, общая тенденции развития ТВ выстраивалась отвратительная, и обретенный (в том числе с помощью Севы), профессионализм не шел этим деятелям ТВ на пользу, а становился чем-то вроде отмычки, которой каждый из получивших ее стремился отомкнуть волшебную дверь успеха.
Сева всегда был шире одного канала и его творческих и финансовых интересов, и потому все его старания быть истинным патриотом первого, энтэвэшного, или последнего, грузинского, всегда были попытками втиснуть энциклопедию в краткий разговорник – мучительно и, увы, безнадежно.
В начале девяностых, когда всеобщая эйфория в России уже начала скукоживаться и – наоборот – достигла высшего кипения на Западе, в Россию устремились десятки культуртрегеров от телевизионной журналистики. Они были переполнены благородной отвагой привить нашим набирающим силы профессионалам международные стандарты. Чтобы было понятно, о чем я говорю, а то уже забылась суть внутренней драмы того времени, приведу только один пример. В Мраморном зале Дома журналистов идет семинар по расследовательской журналистике. Ведут его двое, и оба через переводчика. Он – журналист – разгребатель грязи с Би-би-си, поджарый афроамериканец, и она – бывшая журналистка, ныне юрист одной из телекомпаний. Тема: «Участие юриста на ранних стадиях расследования». И говорит она такие слова, мол, я на ранних стадиях расследования стараюсь с журналистами не встречаться, чтобы потом, если дойдет до суда, никто не мог бы сказать, что он – журналист – был ознакомлен со всеми юридическими тонкостями процесса и если нарушил какие-то юридические каноны, сделал это осознанно. Переводчик переводит, аудитория сочувственно внимает. Я – как соведущий – останавливаю этот благостный ход переливания знаний из английского в российское и спрашиваю у нее: т.е. вы хотите сказать, что, если вам пришлось бы в дальнейшем давать показание в суде, вы хотели бы иметь возможность сказать с чистой совестью, что он предварительно не знал и не мог знать, по крайней мере от вас, юридическую подоплеку своих будущих действий?
Она смотрит, словно не понимая смысла вопроса, и говорит: «Ну разумеется».
Тогда, вовлекая в свой вопрос практический опыт аудитории, я спрашиваю: «А что могло вам помешать сказать это в любом случае, независимо от того, были или не были такие консультации?»
И аудитория уловила смысл вопроса, а дама возмущенно и резко говорит: «Мне бы пришлось давать показания в суде. У меня есть репутация и лицензия юриста, я не могу солгать, положивши руку на Библию».
Вот тут аудитория российских грязекопателей недоуменно загудела.
Все профессиональные примочки мы либо знаем, либо легко перенимаем, а вот то, что нельзя солгать, положивши руку на Библию, – с этим, знаете ли, надо родиться, как ни странно.
Поэтому мы так легко усвоили всю внешнюю канву так называемых западных стандартов и так легко ее отбросили, когда время потребовало снова врать, положив на Библию руку или что другое, это уж по обстоятельствам.
Сева очень хорошо понимал эту разницу наших, с позволения сказать, «менталитетов», и поэтому в то романтическое время его контора на Сивцевом Вражке была одним из пунктов прививки российских реалий приехавшим зарубежным педагогам. Мы старались хотя бы дать им представление о том коэффициенте поправок, на который жизнь провинциального российского телевидения обречет их высокие профессиональные стандарты.
В 95–96-м мы с Вильчеком осуществили его на тот момент заветную мечту о «третейской» социологии. Социологических служб к тому времени завелось в стране немало, а выборы тех лет давали примеры заметного разброса итоговых цифр исследований и прогнозов. Причем вера в социологию (по крайней мере наружная, демонстративная) была велика, а навыков публикации социологических данных у СМИ было немного: считалось, что обстоятельства исследования не обязательны при публикации их результатов. Ну, скажем, кого интересует, сколько и по какому принципу отобрано респондентов для формирования того или иного прогноза. Вот все это Севе хотелось привести к общему разумному и грамотно сформулированному знаменателю. И надо отдать должное социологам: и иронично мудрый Левада, и острый, нервный, вечно забегающий вперед Бетанелли, и еще не ставший опорой кремлевских выкладок Ослон – все с интересом и сочувствием отнеслись к этой работе. Ежемесячно Сева публиковал средние цифры социологических опросов и делаемых на их основе прогнозов. Моя команда из Фонда защиты гласности отбирала для его публикаций наиболее безграмотные, доморощенные социологические экспертизы газет и телеканалов, например, прогноз «МК», после «проведенного в ВУЗах страны исследования политических предпочтений студентов», где за каждой итоговой цифрой оказывалось от 3,5 до 7,25 «участника исследования».
Перед финалом – выборами президента – Севу постигло глубокое разочарование: по его усредненным цифрам несколько политических организаций не имели ни малейших шансов не только на победу, но даже на то, чтобы попасть в реальный шорт-лист выборных удачников, и если бы их лидеры в оставшееся время отказались от участия в гонке и призвали бы своих, пусть немногочисленных, избирателей голосовать за организацию более удачливых коллег, это могло бы заметно увеличить шанс либеральных партий на итоговое приличное место. Все это Сева написал в статье, жесткой и острой, четкой по мысли, хотя и, чего уж скрывать, все-таки наивно-романтической, но тогдашний редактор «Известий», один из членов первого правления Фонда защиты гласности Игорь Голембиовский отказался печатать статью, хотя по закону ее еще можно было выпускать в свет. Он сказал: «Там написано, что у Гайдара нет шансов. А я не хочу, чтобы Гайдар, мой друг, узнал это из нашей газеты. Это будет для него ударом». Сева так и не смог понять, как редактор газеты может нанести такой урон истине.
Вторым ударом для Севы была катастрофическая незаинтересованность газет и телеканалов в осмыслении происходящего. На конференцию по итогам первого полугодия нашего проекта пришли все социологи и всего двое из принимающих решения медийщиков, остальные прислали мальчиков и девочек – написать об этой конференции заметку. А на заключительный круглый стол уже не пришли и разочарованные в партнерах социологи. Вот после этих трех апперкотов Вильчек и завязал с попытками влиять на происходящее в целом – как на процесс и перешел в программирование.
Есть такая китайская легенда о человеке, которого снедала страсть к путешествиям. Я ее на этих страницах уже рассказывал. Смысл в том, что всю оставшуюся жизнь его – живущего дома – мучила тоска по родине.
Вот что-то подобное случилось и с Вильчеком. В этом одновременно привычном, но и новом для него городе ему стали платить непривычно приличные деньги. Круг обязанностей был обширен и непривычно безответственен: он был среди тех, кто принимал решения, но не руководил теми, кто их исполнял, более того, продукция его мысли перестала быть планом собственной жизни и зависеть от него, а стала проектом чужим, исполнение которого от Севы зависело мало. Словом, чтобы назвать вещи своими именами, надо признать, что при всей интеллектуальной интересности и материальной привлекательности, должность эта называется «умный еврей при генерал-губернаторе», и как бы Сева ни ерничал, как бы ни иронизировал по этому поводу, он-то сам это знал.
Потому что Сева устроен был крупнее, он относился к категории людей, получающих удовольствие от того, что соревнования организованы по справедливым и верным правилам, а не от того, что твоей команде удалось выиграть одну или две дистанции на этих соревнованиях. Или еще крупнее: Вильчек, прекрасно образованный человек, строил социализм в отдельно взятом телевизионном государстве, стараясь по возможности забыть об имеющемся историческом опыте. Как мало кому, Всеволоду Михайловичу Вильчеку подходят в это последнее десятилетие его жизни строки Слуцкого:
Я строю на песке. А тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой. Для всех скалой остался,
А для меня распался и потек. <…>
Но верен я строительной программе,
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами
На уходящем из-под ног песке.
Его последние, грузинские годы, и усилия, в сущности, при всей экзотичности атмосферы и отношений повторили уже вылепленную жизнью формулу: приходишь к романтическим любителям с огнем знаний, уходишь от прожженных этим огнем профессионалов. Интересно бы узнать: это всеобщее проклятие телевидения или только наше российское?
Так что продавать свои мозги на интеллектуальном рынке Сева научился, причем чем дальше, тем дороже они стоили, а душа билась об острые углы обретенной свободы, в железной клетке изречения Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Я думаю, что жизнь Вильчека – одна из неочевидных трагедий эпохи перемен: и то, как он умер, – частный случай общей драмы времени. Заложенная в нас с юности установка на успех страны разбилась о рифы успехов и неуспехов меньших и больших частных дел, проектов, организаций. Неслучайно главным для Севы делом в последние месяцы его жизни стало массовое издание его философской книги «Алгоритмы истории». Он издал ее за свой счет и хотел, чтобы экземпляр ее лежал бы в библиотеке каждого университета России. Вполне допускаю, что Вильчек был прав, но правоту эту оценить не в силах – у меня так и не хватило интеллекта дочитать эту книгу до конца.