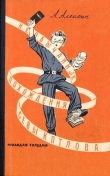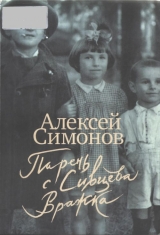
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
В 79-м в Америку поехала мама, первый и единственный раз за границу, и сразу в Нью-Йорк. Ей было 65 лет. Было это в разгар лета, в Нью-Йорке стояла жара, но мама жару любила, и ей она не мешала. Берни, ее ровесник, только что вышел на пенсию и очень растолстел. Он уже не мог мотаться с «Женьей» по Нью-Йорку, как это делал раньше с посланными мамой и мной друзьями и знакомыми. Недавно умер Стиви, и из Берни словно выпустили дух, он весь обдряб и обвис, и только нежная любовь к моей матери могла сдвинуть его с места, но не очень часто и не очень надолго. А мама плавала вокруг статуи Свободы на пароходике, встречалась с уехавшими навсегда (так тогда казалось) или высланными из России друзьями и один раз испытала культурный шок – его испытывали почти все, но – в разных местах и по разным поводам. Мать этот шок настиг в крупнейшем книжном магазине Нью-Йорка, где на площади величиной в стадион лежали и стояли книги. Туда привел ее, конечно же, Берни.
Он еще жил на старом месте, где когда-то в соседней квартире жила сестра со Стивом, он еще что-то эдакое ей сготовил, уж я не помню что, и мама рассказывала об этом скорее с печалью, чем с восторгом.
А меня с 64-го года не выпускали из Страны Советов. Чем я им во время пребывания в Индонезии досадил, так и не знаю, но с 1964 года начиная не пускали даже в Болгарию.
В том же 1979 году, вскоре после возвращения матери из Нью-Йорка, умер отец. Вдова его, Лариса Алексеевна Жадова, словно предчувствуя, что и ей осталось недолго на этом свете, торопилась составить книжку воспоминаний об отце. Берни прислал свои воспоминания по-английски, и я, по старой памяти, а также от ностальгической по нему грусти, взялся их перевести.
Я и тогда знал, и сейчас, перечитав его текст в книге, вижу, что Берни был уже не в форме. Все, что он написал, кроме одного крохотного эпизода, было повторением имен, мест, известных нам из отцовских, давно написанных, воспоминаний об Америке встречи с кинозвездами – Чарли Чаплин, Гэрри Купер, Бэт Дэвис, но все – без живого нерва, веселых или сентиментальных деталей, словом, прямо для этого сборника, где прекрасные воспоминания чередовались с «паровозами» – казенными воспоминаниями обязательных для прохождения книги лиц. Я позвонил ему в Нью-Йорк и буквально силой вырвал из него незначительный эпизод, о котором он предпочел не упоминать. Речь там шла об их совместной с Галактионовым и Эренбургом поездке 46 года: «У меня тогда была привычка после завтрака выпивать большой стакан молока. Это ужасно раздражало Эренбурга. Он со своей привычкой к французской еде и французскому питью видел в этом признак молодости Америки и очень сердился… Зато Симонов, который отнюдь не был любителем молока, с тех пор требовал всякий раз себе молока за компанию со мной. Этот акт солидарности заставил меня полюбить его. Сразу».
Все мои попытки заставить его включить в воспоминания несколько историй о том, как и что пил в 46-м в Америке тридцатилетний Симонов, натолкнулись на решительное сопротивление, хотя сам Берни в начале нашего с ним знакомства с удовольствием вспоминал, что и он, и папаша заслужили тогда гордый титул hollow leg (пустая нога), означавший в Америке способность выпить несчетное количество спиртного без заметного ущерба для организма и окружающих. Среди этих виски-сториз была одна – ну просто убойная. Это в воспоминаниях он пишет про молоко, но когда в течение нескольких недель к ним был приставлен молодой и неважно знавший русский язык представитель Госдепартамента, они утро начинали со стакана совсем другого напитка, требуя от сопровождающего непременно отдавать должное этой «непререкаемой русской» традиции. К обеду спутник, как правило, уже не вязал лыка, и они оставляли его спать в гостинице, отправляясь по своим делам, но предварительно всякий раз на прощание отщелкивали застежку на его толстом госдеповском портфеле, предвкушая ужас его одинокого пробуждения. Я эту историю не только слышал от отца, я и переводил этому, уже постаревшему человеку, когда в начале семидесятых он появился в Москве и должен был прийти к Симонову-старшему в гости. Рассказав мне предварительно эту историю, папаша хмыкнул и добавил: традиции надо соблюдать, так что готовься.

Редкий случай: отец с Кошеном пьют… кока-колу. Америка, 1946 г.
Пока не набрался, мужчина был любезен и деловит, хвалил мой английский и звал учится не то в Йель, не то в Гарвард. Спустя пару месяцев из Америки пришло приглашение: «Вашему сыну… Александру», так что наша с папашей шутка обернулась против меня, независимо от моей «невыездности».
Большинству авторов воспоминаний к их опусам прикладывали фотографию с воспоминаемым. А перед куском, написанным Берни, составители вынуждены были поместить фото встречи отца с Гэрри Купером, где никакого Берни нет, хотя, надо полагать, он там присутствовал, ведь не сам же отец с Купером по-американски разговаривал. Но в обширном фотоархиве отца обнаружилась одна-единственная фотография 1946 года, где они с Берни сидят в шикарном ресторане, но народу на фото слишком много, и надо чуть не стрелкой указывать, где там Котен. У Берни такие фотографии, разумеется, были, но их он постеснялся прислать, да и нельзя было послать их тогда по электронной почте.
Так скромнее скромного выглядят в книге «Три месяца рядом с ним», которые из уважения и любви «к Косте» он не дал оснастить сколько-нибудь живыми подробностями.
А еще почти десять лет спустя, осенью 88-го, в Америку пустили и меня. Я приехал в составе такой большой культурной делегации, что больше бывает только при поездках Большого театра или ансамбля «Березка». Глава нашей безумной тусовки Генрих Боровик так сказал перед отъездом: «…На нас возложена только одна миссия: продемонстрировать нашу новую, советскую открытость».
Не знаю, как мы, а Америка принимала нас с потрясающей открытостью и добросердечием в частных домах, клубах, залах, храмах сорока семи, кажется, имеющихся в Вашингтоне конфессий, волонтерские семьи селили нас на сутки в своих домах по дороге из Вашингтона в Нью-Йорк, и отношения развивались в ритме этого всеобщего безумства симпатий, от kidnapping до adoption, т.е. от «похищения до законного усыновления», по мере того как выяснялось, что из-за разорвавшегося железного занавеса приехали такие же нормальные и даже очень симпатичные люди. Для меня высшей точкой этой вакханалии взаимных чувств стал момент, когда чуть не силой пришлось останавливать сопровождавшую нас волонтершу – тридцатилетнюю танцовщицу, пытавшуюся в одиночку перегрузить весь багаж нашей многолюдной делегации из автобуса в гостиничные номера или наоборот. На нас подавали заявки, нас ревновали, нас засыпали подарками. Мы были celebrities, т. е. «признанные знаменитости», несмотря на то, что большинство наших фамилий редко или никогда не звучали по-английски. И вот сквозь все это безумие первой недели пребывания в Вашингтоне и Массачусетсе я нес в себе предощущение, что первый человек, которого я увижу в Нью-Йорке, будет Берни. Берни, которого к тому времени я не видел, страшно сказать, четверть века – большую часть моей жизни. Америка без Котена была неполной, а точнее, не была еще для меня Америкой, как бы хорошо мне в ней ни было.
Я уже созвонился с ним, и он обещал встретить меня в холле гостиницы, в которой нам предстояло остановиться, но нам изменили порядок дня и вместо гостиницы сразу повезли в какой-то старинный актерско-режиссерский клуб, где нас ждали, вопреки почти полуторачасовому опозданию нашего автобуса. И отказаться нельзя, и мы обмениваемся речами и взаимными комплиментами, и поет Градский, и Бондарчук читает монолог Отелло, и что-то из Чехова играют американские коллеги, и самые громкие аплодисменты срываю, как ни странно, я, потому что на двух языках читаю знаменитый «Мандалей» Киплинга, и в виске бьется строчка «Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов», и она о Берни, который уже третий час ждет меня в гостинице. И наконец эта гостиница, и огромный, округлый, плачущий Берни, и я, так похожий в его глазах на любимого его «Костью», я тоже плачу, и мы наконец обнимаемся, и его большие, как связка сосисок, пальцы нежно гладят меня по мокрым щекам.
А потом я познакомил его с только что обретенным, новым своим знакомым, тем самым священником Томом Хартманом, и они нравятся друг другу, и я по традиции «дарю» ему Тома, и, уже после моего отъезда, возникает их содружество до самой смерти Берни, о которой первым сообщит мне в Москву Том.
А перед моим отъездом Берни устроил для нас с Томом ужин. Он уже был болен, рассеян и ориентировался в мире, скорее, движениями души, чем правилами общежития. Готовясь нас удивить, он купил в каком-то магазине полуфабрикат утки в апельсиновом соусе и, поставив ее на плиту, уселся нас ждать. Когда мы вошли, посреди комнаты возвышался в кресле глыбообразный Берни с блаженной улыбкой на губастом лице, а вокруг черными снежинками оседала гарь от сгоревшего апельсинового соуса.
Дед (продолжение)

Дед Самуил Моисеевич – главный оплот Ласкинского семейства, конец 50-х гг
Я позднее приведу послужной список деда Саши – Александра Григорьевича, почему бы его не уравновесить послужным списком деда Мули – Самуила Моисеевича, тем более что таким списком служила ему трудовая книжка, выданная в январе 1939 года. Она сохранилась:
«Год рождения – 1879.
Образование: (нужное подчеркнуть) – подчеркнуто: начальное.
Профессия – агент-товаровед.
Общий трудовой стаж к тому времени – 22 года – написано „со слов“, из них 4 года „подтверждено документами“.
На работу принят двумя годами раньше – 21 января 1937 года, в Мосгастроном, на склад № 201, „на должность агента“».
С этого времени начинается относительно спокойная часть дедовой жизни: позади и работа мальчиком в рыбной торговле отца, и совладение рыбным магазином в Москве, и три ссылки. Лишенец, он в том числе лишен и трудового стажа, ну не засчитывать же за стаж работу хозяина магазина и годы ссылки.
В 40-м назначен на должность кладовщика рыбо-сельдяной секции.
15 октября 1941 года – в самый пиковый день московской паники «освобожден от работы в связи с эвакуацией».
Дальше – Челябинск, где рядом завод, на котором работает младшая дочка, поиски работы, обустройство семьи и с января 42-го – старший товаровед и завскладом базы «Гастроном» в г. Челябинске, а 31 мая 43-го – «освобожден в связи с отъездом на постоянное местожительство в г. Москву».
Здесь, в 44-м, принят на последнее свое место работы – московскую контору «Особторг», в 1955 переименованную в «Торг Гастроном», сначала замзавом рыбно-жировой секции продбазы с матер. отв. (что, видимо, означает материальную ответственность), где в том же 55-м достигает своего служебного потолка – заведующего рыбным отделом продбазы, откуда в 57-м, 1 апреля, уходит на пенсию. Ему 78 лет.
Запись о поощрениях и награждениях только одна – за 1939: «За образцовую работу 1 квартала и проведение предпраздничной и праздничной торговли премирован 150 рублями».
На последних трех страницах трудовой книжки напечатано постановление СНК Союза ССР об их введении от 20 декабря 1938 года. Здесь есть несколько любопытных пунктов.
«Пункт 1. Ввести с 15 января 39 года…» и «Пункт 7. Администрация предприятий и учреждений обязана закончить выдачу Трудовых книжек рабочим и служащим до 15 января 1939 года».
Фантастическая дисциплина: с 15 января ввели и к 15 же января обязаны закончить выдачу. Нам, к такому жесткому графику не привыкшим, начинает казаться, что это ошибка. Но нет. Деду ее все-таки выдали 19-го, всего на четыре дня опоздали.
И еще одна деталь.
«Пункт и. За выдачу Трудовой книжки взимается плата с владельцев книжек в размере 50 копеек», а в Пункте 12: «В случае утери Трудовой книжки владелец Трудовой книжки подвергается в административном порядке штрафу в размере 25 рублей».
Словом, получить дешевле, чем потерять в 50 раз, – вот так-то.
И в заключение: «взыскания в Трудовую книжку не записываются» – вот такое преимущество у работника сельдяной торговли перед царским офицером. Впрочем, как мы еще узнаем, эта графа и у деды Саши оказалась пустой.

Одна из сохранившихся фотографий деда. Шклов, 1917 г.
Так уж получилось, что источником нашего семейного благополучия оказался первый муж старшей тетки: он не только получил квартиру на Сивцевом Вражке, но и дачу в Ильинке, по Казанской дороге. Летняя двухэтажная дача, с мая по август становилась чем-то вроде филиала Сивцева Вражка. И дача, и дом наш вроде бы стояли на месте, но расстояние от одного до другого всегда было разное. Тут и возраст едущих, и виды транспорта, и пробки на шоссе, и набитость электричек – все это приводило к тому, что время на поездку от дома до дачи и обратно менялось.
Ну сперва была только электричка. Поскольку Ильинка – это следующая станция после Быкова – третьим в то время аэропортом Москвы, то электрички туда ходили регулярно. До дачи от платформы Быково идти минут 30, а от Ильинки – минут двадцать или двадцать пять, в зависимости от быстроты ног. В послевоенные годы для выезда на дачу нанимался грузовик, он же доставлял хозяйство обратно по окончании летнего сезона. Потом от Быкова пустили в нашу сторону автобус, и от его остановки на улице КИМ до нашего Краснознаменного пешком совсем пустяк – минут семь. Зато ждать автобуса у Быкова приходилось минут двадцать или больше. Легковую машину первым и единственным в нашем семействе приобрел мой брат, он же кузен, Володя, но было это уже за пределами дедабабкиных биографий, так что не в счет. В те времена, о которых пишу, надо было сесть в электричку на Казанском, доехать за сорок минут до Ильинки, перейти пути, и дальше ты волен был выбирать маршрут по 1-й Лесной, по Парижской коммуне, 2-й Лесной и т.д., и каждый прокладывал здесь путь по собственному усмотрению, ориентируясь на только ему известные пристрастия, – все равно – меньше чем за двадцать минут – только бегом. Вот на эту дачу после войны выезжали всей семьей, друзья селились, снимая дачи по соседству, все ездили на эти дачи почти каждый день, тем более что об «достать продукты» на месте не было и речи – все, что удавалось отоварить, возили из Москвы, тратя на дорогу туда и обратно не менее трех часов, при этом были веселы и даже, отчасти, счастливы.
Берта Павловна была дачным якорем – ей, раз уж приехала, никуда из Ильинки не надо было, и она царствовала и хозяйствовала там, а дед долгие годы ездил к ней туда все лето, ежедневно.
А вообще до середины 50-х дачная жизнь в Подмосковье била ключом. Все были веселые, но бедные, и вместо индивидуальных курортов создавали коллективный отдых в двух шагах от дома и работы. Все соседние дачи, да и наша тоже, были полны детьми и праздниками. А вот уже к концу 50-х, когда дети моего поколения подросли, праздник дачи пошел на убыль, стал событийным, то есть непременно для него нужен был повод, чтобы собраться и приехать, и на дачах пребывало в основном поколение дедов, привыкших к этому ритуалу отдыха и, пока сохраняются физические силы, не желающих менять привычки, зато расплачивающихося за это относительным одиночеством своего отдыха. Уже возникло «надо съездить к папе и маме на дачу» или «ну как не стыдно, ты уже две недели не был у деда с бабкой в Ильинке».
Никогда не замечали, что разным видам транспорта соответствует разная мера времени? Ну, скажем, в самолете время тянется бесконечно долго за счет ограниченности внешних впечатлений и раздражителей. Скандал или выпивка эту нуду сокращают, отчего и популярны в воздухе. Поезд – куда меньше действует на нервы, зато последние полчаса перед Москвой тянутся бесконечно, из-за того что за окнами до зубной боли знакомый пейзаж, и ни смотреть, ни читать уж нет ни сил, ни интереса. Так вот – электричка в Ильинское была очень долгим путешествием из-за тотального однообразия окружающего. Но я ездил. Поехать было трудно, а быть там с дедом и бабкой – нет, потому что радость их при твоем появлении была такой неподдельной, что то, что еще пятнадцать минут назад казалось напрасной тратой своего молодого времени, отзывалось душевной теплотой и искренним интересом ко всему, что ты есть, и любому, что с тобой за это время случилось и стряслось, что и ты сам, и все, что в тебе было, обретало высокий смысл. Очень способствовало чувству самоуважения и собственного достоинства. Меня Бог не обидел друзьями, я всегда был в гуще людей и событий, но внутреннее право судить по-своему, не склоняя головы перед авторитетами, основательно подпитывалось там, на даче, на задней верандочке, где мы сиживали с дедом и бабкой и где все, что бы со мной ни было, бывало безумно важным, и где я получал такую моральную поддержку, которой, как оказалось, мне хватило на всю оставшуюся жизнь. Раз тебя так любят, значит, ты чего-то стоишь. Носи это в себе и чувствуй – помогает.

Дед – приказчик в рыбной лавке отца с родственником, Симой Залманзоном. Орша, 1906 г.

Бабка, дед и первая их внучка Ира, конец 50-х гг.
Участок в Ильинке с высоченными, почти что прибалтийскими, соснами был запущенный, заросший черникой и мелким кустарником, с полным отсутствием товарного производства. Одна-две хилые грядки теткиной зелени, немного полудиких, полуодичавших цветов и полная свобода от рабства самообеспечения. Типичная дача городских жителей без малейшего желания возиться в земле, выращивать свои овощи или сажать свою картошку. Это была дача от слова давать, а не от слова производить.
Прошла от дома ты до лагерного сбора,
Судьба свела нас за обеденным столом.
И вот уже почти как две недели скоро
Как неразлучные товарищи живе-о-о-ом.
…Мы сидим с дедом и бабушкой на задней, непарадной, открытой веранде, мы только что поели и даже пропустили с дедом по стопочке. Я запеваю, а дед с бабкой подхватывают припев:
Эх, подружка, моя большая кружка,
Полулитровая моя.
Поишь меня, поишь меня ты крепким чаем,
За что тебя, за что тебя я уважаю.
Эх, подружка, моя большая кружка.
Полулитровая моя.
…Слова припева дед давно выучил, у бабы Берты это никак не получается, она подтягивает нам бессвязными, но мелодии не нарушающими повизгиваниями: «и-и-и-йех» или «а-а-а-а».

Мы с дедом на даче в Ильинке, 1967 г.
Идешь на завтрак, на обед или на ужин
Всегда со мной ты на брезентовом ремне.
Как альпинисту ледоруб в походе нужен,
Так на привале ты необходима мне-э-э-э.
Почему именно эта песня стала нашим семейным гимном на троих – уже не помню, но поем мы ее только втроем и, главным образом тут, на даче, поем самозабвенно, получая от этого огромное удовольствие.
«Эх, подружка, моя большая кружка…» – сосны высокие-высокие, до неба, а песня – ну, никак к случаю не подходящая: то ли туристская, то ли из студенческих военных лагерей, а я в этих лагерях ни разу не был, и даже откуда она – не помню.
Настанет день, и мы расстанемся с тобою,
Из лагерей мы возвратимся по домам.
Я подниму тебя дрожащею рукою,
Налью в тебя свои прощальные сто гра-а-а-ам.
Песня – форма, а содержание – это какая-то нерассуждающая любовь друг к другу, она не имеет отношения к словам, но она нуждается в пении просто так, прозой ее не выскажешь.
«Эх, подружка…» – мы идем с дедом к станции Ильинская, он всегда идет меня провожать. Идет легко, как молодой, и мы говорим друг другу что-то бытовое и неважное, но ни я не могу отказаться, чтобы он шел меня провожать, ни он не хочет расставаться со мной, пока жизнь дает еще минутку побыть вместе. У станции мы прощаемся, я еду в Москву, дед идет домой, к бабе Берте. Я даже не задумываюсь, как сильно и преданно мы любим друг друга в эти минуты.
Задумываюсь сейчас и пытаюсь описать то, что неописуемо. Кстати, песен хором на Сивцеве не пели. Такого в заводе не было, а вот на тебе: сколько вспоминается через песни.
А еще дед обожал читать газеты, обсуждать политические новости и играть в карты. В преферанс: с мамой, Сэмом и… то ли с Марком Ласкиным, то ли с Лазарем Хволовским. Или в ап-энд-даун – игру, в которую могли играть сразу человек восемь. Тут уж допускали и меня, и теток, и разграфляли лист: кто сколько взяток заказал, сколько угадал и взял, и сколько получил за это очков. И я часто выигрывал к явному расстройству и тайному удовольствию деда.
Берта Павловна никогда ни в какие карты не играла.
Бабушка Берта

Баба Берта. Свадебное фото, 1907 г.
Из предыдущего рассказа о несравненной бабкиной стряпне можно заключить, что бабка была в этом доме главной кухаркой. И это будет большая ваша ошибка. Бабка была в этом доме королевой. И поэтому никогда не возникал вопрос: «Кто главный?» Главных королев же не бывает. Только когда деда уже не стало, выяснилось, что кроме королевских черт, в характере Берты Павловны присутствуют и вполне житейские, разного достоинства, в том числе и не самые удобные в общежитии качества, и стало ясно, что, пока жив был дед, – это он своим поклонением и смиренным признанием высоких бабкиных достоинств как-то эти менее достойные ее качества сводил до незаметности. Бабка было человеком властным, но в присутствии деда – а отдельно от него я разглядел бабку только после его смерти – реализовала эту свою властность через поднятую и высоко почитаемую роль хозяйки дома.
Берта Павловна была человеком отчасти эгоистичным, охотно сосредотачивавшимся на своих желаниях, болезнях, намерениях, но при жизни деда все ее и желания, и болезни настолько стояли в центре мироздания, по крайней мере для деда, что было это совершенно незаметно и вылезло только после того, как деда не стало. Ну и потом, когда дед умер, бабке было уже за восемьдесят, так что проявление этих качеств, все, включая трех ее дочерей, принимали за возрастное. И, наконец, случилось с бабкой традиционное стариковское несчастье – в 83 сломала она шейку бедра. И сразу, без боя, сдалась, сделалась упрямой и капризной, и в конце-концов дочки так и не сумели заставить ее встать. Ее оскорбляли костыли, она ненавидела судно и горько жаловалась на жизнь, чего никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяла себе делать, пока рядом жил дед.
А пока он жил рядом, была она женщиной гордой, но при этом безмерно доброжелательной, и все острые углы ее характера, как оказалось, стирала-скрадывала дедова к ней нежная, не знающая сомнений, любовь.
Наступает время, и начинаешь сам в себе разбираться: что откуда взялось. И хотя чаще всего обнаруживаешь в себе причудливое переплетение отцовских и материнских черт, но кое-что во мне – напрямую от бабы Берты – это точно. Ну, скажем, в экспедиции, когда за неимением иного применения моим юным способностям меня заставили печь хлеб, обнаружилось, что тесто в формах у меня подходит чуть не в два раза выше, чем у научивших меня этому людей. Это-то уж точно от бабки доставшаяся энергетика, никому в семье это не удавалось, все три дочки готовили хорошо, а пекли средне, как все. А у меня кирпичи хлеба получались высокие, со светло-коричневой, хрустящей корочкой – как бабкины пироги. Да и вся моя неленивая любовь к кулинарному искусству от нее, от Берты Павловны. Было несколько коронных блюд, которыми я время от времени поражал воображение друзей. Одно из них – и по тем временам, когда банки крабов стояли на полках любого магазина вполне доступно – были «крабы запеченные». Однажды на даче, имея под рукой все необходимые ингредиенты, я изготовил это блюдо и подал на стол бабке с дедом. То, что это очень вкусная еда я знал и сам, но уж очень хотелось попотчевать родичей и повыпендриваться хоть самую малость тоже.
Бабка Берта готова была признать меня гением в любой области, только не в районе кухни. Она вежливо попробовала поданное яство и спросила: «Из чего ты это сделал?» Я подробно, как профессор профессору, объяснил ей, что на банку крабов полагается банка майонеза (если кто помнит, были такие 200-граммовые баночки под железной крышкой) и 150 граммов тертого сыра.
Бабка Берта взяла с тарелки еще кусочек, похмыкала и без малейших признаков восторга сообщила мне: «По отдельности тоже неплохие продукты».
Больше я Берту Павловну удивить кулинарными изысками не пытался.
Сестры Ласкины звали Берту Павловну «мамочка» и никак иначе, а дед – «Берточка», и только если надо было докричаться из большой комнаты в кухню: «Бе-эрта!» – с открытым приятным «а» и не менее протяжным «э». И только я звал ее «Ба!», звал с детства, и никто не посягал на эту мою привилегию. Бабка обожала вспоминать, как в Челябинске, в эвакуации, где она вынуждена была исполнять обязанности единственной моей няньки, я ходил за ней хвостом и на разные лады требовал: «Ба, читай! Ба, читай!» – видимо, с той поры и повелось.

Бабушка Берта и ее правнук – мой сын Женька, 1971 г.
Бабка никогда не работала и никогда не считала денег. О деньгах в доме не принято было говорить, хотя достаток в доме был средний, и накоплений ни от деда, ни от бабки не осталось никаких. Во встроенном шкафу хранился сервиз – всю мою жизнь один и тот же, однажды, когда средняя из дочерей – Сонюра – нуждалась в помощи, раз и навсегда дом избавился от серебряных ножей и вилок. Кстати, большая часть этого сервиза бесполезным грузом до сих пор стоит у старшей из дочек Ласкиных в шкафу, а мне пепельницей служит маленькая серебряная тарелочка с надписью: «Дорогому Самуилу Моисеевичу в день восьмидесятилетия. Семья Аграник. 15/III-1963 г.»
В середине шестидесятых у бабки начались возрастные проблемы со слухом, но гордость не позволяла ей в этом признаться, и, поскольку слуховые аппараты были тогда в зачаточном состоянии, бабка освоила несколько надменные вид и тон, позволявшие отчасти недослышать, что ей говорят собеседники, и величественно кивнуть, делая вид, что все поняла, просто это не то, что заслуживает серьезного внимания.
Выяснилось это в будни, а проявилось в день воскресного обеда осенью 1967 года. В тот день я впервые привел на Сивцев Вражек женщину, в которую был влюблен и на которой собирался жениться. Надо сказать, что кроме всех прочих достоинств Сивцев Вражек обладал еще свойством проявителя. Неорганичность, неспособность быть естественным, быть самим собой Сивцев выявлял почти мгновенно, потому что ничто в поведении самих его обитателей, ни в отношении их к новопришедшему или новоприведенной не побуждало ни гордиться, ни тянуться, вставать на цыпочки. Эта проверка Сивцевым была и поначалу очень важной, а с возрастом обретала еще большее значение, но это с одной стороны, а с другой – в силу моей уверенности в «эффекте Сивцева Вражка» я, подчас весьма легкомысленно, использовал Сивцев для налаживания более теплых и доверительных отношений с дамами. Ну согласитесь, если кавалер добивается от вас просто того же, что и другие кавалеры, это одно, а если он приводит вас в свое семейное гнездо, о котором вдохновенно и многословно рассказывает, в женщине, тем более в молодой женщине, возникают химеры серьезных отношений, что иногда делает их более податливыми, а иногда – и это тоже бывает – совершенно недоступными к употреблению, так серьезно начинают они смотреть на будущее. А иногда и без особой задней мысли получал я удовольствие, заключая с очередной барышней пари, что если она – хоть на минутку – почувствует себя неловко, хоть какой-то вопрос или замечание примет за бестактность – мы немедленно с Сивцева уходим. И не было случая, чтоб я проиграл пари. А парили со мной девушки разные, в том числе и случайные.
Но в тот день Сивцев знал, что женщина, с которой я приду на воскресный обед, – это моя судьба, да еще довольно известная актриса, да еще я был как раз на переломе биографии: уходил из «Художественной литературы» на кинематографическое поприще, словом, любимый внук привел в дом свою невесту, и этот факт слегка напрягал знакомящиеся стороны. Не забыть бы потом описать два важных обстоятельства: обстоятельство нашего с Олей Бган знакомства и историю моих бород. Они оба имеют прямое отношение к делу, но рассказ мой об этом дне основательно задержат. Поэтому только об одном из них, но кратко.
Бороду – первую – я отрастил в 16 лет, в экспедиции. Потом, по разным причинам, то отращивал ее, то сбривал. В описываемые дни был я безбород, и это очень нравилось бабе Берте, а я в духе Сивцева Вражка объявил, что борода моя – бабкина собственность, и вновь отпустить ее, чего очень хотела Ольга, я могу только с бабушкиного разрешения.
Встреча с Сивцевым прошла классно. Ольга с ее актерской непосредственностью произвела самое лучшее впечатление на всех моих родичей, все мы по случаю взаимного волнения выпили на рюмку-две больше, чем обычно. Мама и сестры готовили перемену: убирали остатки обеда и накрывали чай. Тут Ольга тихим таким клубочком подкатилась к бабке и что-то стала шептать ей на ухо. Мне-то слышно, а Берте Павловне – нет, но бабка держит марку, величественно помалкивает и только кивает.
«Ба, – говорю, – ты же не слышишь, что она у тебя просит, а киваешь. А она, между прочим, просит разрешения, чтобы я отрастил бороду. Я ей уже доложил, что бородой моей распоряжаешься ты».
Тут Берта Павловна по-королевски повернулась, и под оглушительный хохот всех присутствующих произнесла: «Я думала – жениться, это – пожалуйста. А бороду – никогда!» Берта Павловна ушла последней из дорогой моей четверки. И случилось это через девять лет после смерти деда. Кстати, гражданский брак дед с бабкой заключили уже после золотой свадьбы. Через пятьдесят лет после хупе. И дочки были их свидетелями.