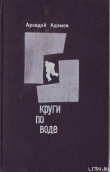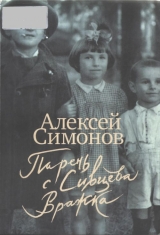
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Последний босс Гостелерадио

Л. П. Кравченко и редактор знаменитых перестроечных «Московских новостей» – Е. В. Яковлев
Речь пойдет о человеке, чья деятельность имела отношение к становлению независимого телевидения, даже если деятельность эта становлению способствовала невольно, через противодействие.
Итак, Леонид Петрович Кравченко – последний босс Гостелерадио СССР.
Очень красивый человек, высокий, импозантный, с хорошей речью, производящий впечатление человека умного, и не только производящий, а действительно человек умный. Отличный полемист, что мне неоднократно довелось испытать на себе. Человек с хорошей реакцией. Человек в принципе по доперестроечным меркам, вполне демократических убеждений, более того, по тем временам, я бы сказал, совершеннейший либерал. И его назначение в свое время заместителем председателя Гостелерадио, еще в бытность председателем господина Лапина, было актом для нас тогда достаточно знаковым. Впрочем, лично мои отношения с ним начались с конфликта.
Работал я тогда в Гостелерадио в творческом объединении «Экран», а новый зам или уже председатель Гостелерадио – боюсь наврать – как Мороз-воевода дозором обходил владенья свои, встречался с коллективами редакций отдельных подразделений Гостелерадио и, в частности, должен был встретиться с творческим объединением «Экран». Нас раз собрали – напрасно. Кравченко не пришел. Нас два собрали – напрасно. Кравченко не пришел. Когда собрали в третий раз, то было естественно предположить, что он не придет снова, ибо бог любит троицу. Но не прошло и получаса ожиданий, как Леонид Петрович в сопровождении директора «Экрана» – Бориса Михайловича Хессина – появился. Было это в Останкино в основном здании. Собралось нас человек сто. Леонид Петрович был представлен, поздоровался, сказал тронную речь и спросил, есть ли вопросы. Первый вопрос был у меня: «На что нам рассчитывать – таков будет стиль руководства, ибо нас собирали уже дважды, и начальство, дважды не придя и опоздав в третий раз на полчаса, не считает нужным извиниться? Или это случайность, и нам принесут извинения?» Надо отдать ему должное, не моргнув глазом, он попросил считать это случайностью и извинился. Квалифицированным начальником был Леонид Петрович.
Один из законов Паркинсона гласит, что человек останавливается в служебном росте, когда он переступил порог своей некомпетентности. Беда в том, что каждый раз это случается уже за порогом. Мне в жизни пришлось с этим столкнуться. Один случай был еще в школе. В воспоминаниях это описано подробно. Был замечательный завуч, душевный, толковый, знающий ребят, способный войти в положение, объяснить и объясниться. Потом в одночасье его назначают директором школы. И человека на глазах как подменили, он стал бюрократом, лишенным слуха к чужому мнению, навязывающим свои мысли, свои решения. А другой случай вспомнился, потому что рядом с Кравченко в момент, когда мы познакомились, стоял Б. М. Хессин – директор ТО «Экран». Когда его назначали в ТО «Экран», одна моя приятельница, работавшая вместе с ним до того в журнале «Кругозор», сказала: «Боже! Как вам повезло! Какого замечательного человека вам назначили, какого понимающего, какого тонкого, какого демократичного, какого прогрессивно мыслящего человека». И вот, назначенный из журнала «Кругозор» директором ТО «Экран», он наглядно продемонстрировал все издержки переступания порога некомпетентности. Куда что девалось? Ровно через два года эта самая моя подруга сказала: «Ты знаешь, какая-то странная вещь. Я недавно встретилась с Борей. Он очень сильно изменился». Т. е. этот шаг меняет не только отношение человека к окружающим, но и меняет его самого. Человек тайно ощущает, что это – не его уровень проблем, что он одного не знает, второго не понимает, а третьего не может, что ему непосильна эта ноша, он теряет себя и начинает ориентироваться не на свое мнение, а на воображаемое мнение вышестоящего, которое он автоматически числит истиной в последней инстанции, на оценки начальства и его предполагаемые решения. Он перестает быть самим собой, из него личность выходит, выветривается. Как у Евтушенко сказано: «Уходит любимая, словно воздух из легких уходит…» Вот примерно так, из человека уходит он «любимый». И остается внешняя оболочка, а содержание человеческое растворяется в необходимости чему-то соответствовать, казаться умнее и профессиональнее, чем ты есть на самом деле. Т.е. возникает ко всему прочему еще и недоверие к себе. Эти люди всегда ненадежны. Это люди неопределенных поступков, это люди, решения которых невозможно предугадать, потому что не знаешь, на чье мнение в эту минуту они пытаются себя запрограммировать. Принимая какую-нибудь картину у съемочной группы, Хессин представлял, как он ее сдает Лапину или кому-то из его замов – тому же Кравченко, к примеру, – поэтому дергался, как марионетка, и постоянно говорил чужим голосом. Вот это – порог некомпетентности.
Кравченко был абсолютно компетентен и в роли зама, и в роли председателя Гостелерадио. Он производил впечатление человека сохраняющего свой стиль жизни, поведения, мышления. Потеря компетентности ведет к потере точки опоры, а у Л. П. Кравченко, по моему разумению, такая точка опоры была – верно, как ему казалось, понимаемая политика, диктуемая партией и правительством. Он считал, что его направили в Гостелерадио с целью определенной либерализации ситуации, он вполне этому соответствовал, и доказательств тому более чем достаточно: и рождение «Взгляда», и появление всевозможных передач молодежного канала – сагалаевской «Лестницы», например, и т.д. и т.п. Это все так или иначе проходило в эфир с одобрения Кравченко, и не могло выйти на экран вопреки ему. Так что у него было ощущение верно понимаемой политики партии и правительства, и дальше – в пределах этой верно понимаемой политики – он чувствовал себя уверенно. Я думаю, что именно здесь и лежат корни той беды, которая с ним случилась в августе 91-го года, последствий которой он так никогда и не преодолел.
Для того чтобы с этой бедой было понятнее, вернусь немного назад. Года с 86-го мы виделись с Леонидом Петровичем уже в основном не в коридорах телевидения, где я формально числился режиссером, а на пленумах Союза кинематографистов и на разных других мероприятиях. Кинематографисты в то время немного опережали власть в своих устремлениях. Леонид Петрович шел с этой властью в ногу. Однако могу с печалью констатировать, что большинство наших «опережающих идей» носило соглашательский характер. Например, на пленуме Союза кинематографистов 1988 года, посвященного ТВ, я выдвинул идею создания на двух общесоюзных каналах ТВ двух врозь работающих дирекций, чтобы создать между ними конкуренцию и распределять деньги тому или другому каналу по завоеванному рейтингу. Видно, социализм с человеческим лицом все еще маячил передо мной. До революции на ТВ оставалось каких-нибудь два-три года. Так что особой прозорливостью я не отличался. Зато, как сейчас, помню выступление Кравченко, который положительно сделал из моей идеи «котлету». Лично мне он всегда импонировал. Ему были присущи интеллигентность, доброжелательность, некоторая суховатость. Я бы сказал – качественный чиновник, совершенно не чуждый культуре. Несколько позже к его биографии добавился один штрих, который свидетельствует о том, что мы в принципе – люди одного поколения и, скорее всего, одного исходного воспитания. Когда «Современник» только создавался, существовало что-то вроде совета зрителей или клуба поддержки. Иногда эта команда даже собирала деньги на декорации для спектаклей театра. Казначеем в этой команде был молодой журналист Леня Кравченко. А председателем совета – Александр Шерель, который мне это и рассказал. Если учесть, что я тоже с конца 50-х все свободное время проводил в «Современнике», мне этот штрих его биографии импонирует.
Но начиная где-то с года 90-го расхождение в скоростях демократического созревания между нами и властью становилось все очевиднее. А следом за властью и ТВ заметно отставало от событий. Михаил Сергеевич Горбачев стал совершать петли и закорюки, танцевать политическое танго – шаг вперед, два назад, шаг в сторону, два еще куда-то. И эти «два еще куда-то» ТВ должно было угадать и идти вместе с ним. После закрытия «Взгляда» ТВ уже стали именовать кравченковским ТВ, так уже говорили и даже кое-где писали. Прологом этого разлада и раздрая был Тбилиси, а потом Баку и Вильнюс, и ни слова правды не прорывалось на экран. Это слеза Тани Митковой сделала ее национальной героиней, а слова ее были написанными словами, которые она была вынуждена произносить. Но при всем моем неприятии кравченковского ТВ, внутреннего антагонизма по отношению к Кравченко лично у меня не было, я просто потерял к нему интерес. Мне он стал казаться человеком, отошедшим в прошлое.
Теперь, возвращаясь к вопросу о компетентности, могу сказать, что Леонид Петрович начал терять эту компетентность с того самого момента, когда перестал понимать ход мыслей власти, суть ее помыслов. Потому что при всех своих достоинствах, будучи человеком дисциплинированным и исполнительным, он привык двигаться по тем рельсам, которые были проложены партией, поставившей его на этот пост. Вдруг рельсы стали двоиться и троиться. Это и был роковой момент для Кравченко. Он перестал понимать, что ему надо делать. Т.е. он давал распоряжения, принимал решения, однако все они уже были продиктованы страхом неугадать, чего желает та самая власть, которая хочет быть демократичной, но с помощью танков сохранить Вильнюс, хочет открыться на Запад и одновременно посылает армию с саперными лопатками на Тифлисскую площадь. Он потерял точку опоры.
А потом был август 91-го: ГКЧП, танки и баррикады, незабываемое обилие лебедей по центральным каналам, трясущиеся руки Янаева, и вся эта пресс-конференция, и Горбачев, возвращающийся из Фороса. Когда прошло какое-то время, я сказал, и это было напечатано, что, с моей точки зрения, не вина, а беда Кравченко в том, как ТВ вело себя в эти августовские дни, что Кравченко – очень качественный «паровоз», и не его вина, что его поставили не на те «рельсы».
Прошло еще несколько лет. По слухам я знал, что Леонид Петрович работает в «Парламентской газете».
…Был Журналистский бал, он единственный раз проходил в Кремле, это я очень хорошо помню. Я вошел в почти пустой еще концертный зал, и ко мне с другого конца, раскинув руки, направился высокий элегантный блондин. И я с некоторым удивлением угадал в нем Кравченко, а потом обнаружил, что он меня обнимает. «Ты – единственный, кто понял, что со мной произошло», – сказал он мне. Ну, с одной стороны, мне это было приятно слышать. Но, с другой стороны, – обидно, потому что такое объяснение произошедшего очевидно. Кстати говоря, если задуматься о профессиональной стороне дела, то сегодня, с дистанции уже почти двадцатилетней, «Лебединое озеро» по всем каналам было не худшим решением телевизионного руководителя, каким бы безумием и идиотизмом оно ни казалось тогда. Особенно по сравнению с решением председателя ТРК «Останкино» Брагина два года спустя, когда, напуганный приближением макашевско-руцкой орды, он вырубил каналы совсем. Кравченко, с одной стороны, дал информацию стране о том, что в ней что-то произошло, с другой стороны, закрыл ту информацию, которую давать не мог. Когда он выпустил в эфир ГКЧП, то, видимо, не стоял в тот момент в аппаратной, как это бывает с начальниками телевидения по сию пору, потому что иначе представить себе, как режиссер трансляции – моя добрая знакомая Лена Поздняк – сумела выдать в эфир трясущиеся руки Янаева, – невозможно. Она это сделала, безусловно, без ведома Кравченко. Если бы он, как цепной пес, стоял в этот момент в аппаратной, он сумел бы это предотвратить. Во всяком случае, глядя на восемь мониторов, из которых выбирает следующую картинку телережиссер, всегда можно успеть сказать оператору, чтобы он быстренько сменил крупность и даже не смел приближаться на такую дистанцию к говорящему. Возможность такая была, и этой возможностью он не воспользовался, уж не знаю по какой причине. Предположить, что это не было жизненной ставкой, трудно, но факт остается фактом.
Леонид Петрович до сих пор никому этого не может объяснить, даже самому себе, потому что, видимо, драма умного человека в том, что он никак не может понять, как он – умница и профессионал – мог допустить подобную глупость. А настоящая драма заключается в том, что все-таки человек – не паровоз, и гордость быть «паровозом» – это, мягко говоря, гордость прошлого.
Беда, которая случилась с Л. П. Кравченко, позволила десяткам теле– и радиокомпаний, только-только выходившим в свои первые эфиры, невероятно укрепиться в общественном мнении. Это произошло с «Эхом Москвы» в Москве, это произошло с «НТН-4» в Новосибирске, «Томск-2» – в Томске. Эти ребята разными путями – по телефону, самолетом, по радио – получали из Москвы материалы о том, что в ней реально происходит, и выпускали их в эфир. В тот момент для провинции этот внезапно появившийся информационный маячок поднял престиж молодых и еще в сущности технически слабых, мало профессиональных, но сразу получивших право гордо именовать себя независимыми источниками информации, компаний. Поэтому беда Л. П. Кравченко стала большим счастьем для делающего первые шаги независимого коммерческого ТВ во всей России.
Браво, Засурский!
Упорная, прямая натура нехороша, но нельзя не любоваться натурами, которые при законных и нужных уступках времени имеют в себе довольно сил и живучести, чтобы отстоять и спасти свою внутреннюю личность от требований и самовластительных притязаний того, что называется новыми порядками, или просто модой,
П. А. Вяземский. Из «Записных книжек»

Мы с Ясеном Николаевичем на очередной конференции, 2004 г.
Если б я точно не знал, что, несмотря на почтенный возраст, вечный декан журфака МГУ, не имел удовольствия быть лично знакомым с князем Петром Андреевичем, я с пеной у рта доказывал бы, что портрет, князем нарисованный, писан с Ясена Николаевича Засурского.
Надеюсь, нам уже удалось приучить читателя к мысли, что выбор героев в этой книге никоим образом не претендует на объективную взвешенность. Пишу о тех, кого «Помню и люблю», или, точнее, о тех, кого люблю вспоминать.
В течение нескольких лет Ясен Николаевич был председателем 2-й лицензионной комиссии ФСТР, где я имел удовольствие (по некоторым причинам не могу назвать это честью) быть одним из двух его заместителей, дивиться деятельной мудрости его и огорчаться избирательностью ее применения.
Большинство ныне действующих журналистов прошло через школу Засурского. Удивительно другое: выпускники в 60-х и 70-х намного меньше ценили Засурского, чем сегодня, и такого безоговорочного авторитета, какой обрел он в последние полтора десятилетия, он никогда раньше не имел. «Законные и нужные уступки» времени господства коммунистической доктрины, особенно жестокого в такой сверхидеологизированной сфере, как подготовка журналистов, едва ли способствовали популярности Засурского у лучших – т.е. наименее зараженных этой доктриной – выпускников журфака. Это сейчас его полувековое деканство выглядит блистательной карьерой, когда-то оно казалось результатом отсутствия амбиций у человека в футляре. А ведь были, были амбиции и возможности реализовать их были, хотя бы через служение партийному делу в главной кузнице перспективных кадров – идеологическом отделе ЦК. Удержался и, оказалось, как мало кто из современников, сохранил себя для будущего. Диаматчики, истматчики, историки КПСС, марксистско-ленинские эстетики и партийные пастыри литературы и культуры, сколько их ринулось топтать и вытаптывать идеологическую ниву, еще недавно обеспечивавшую их хлебом насущным, каких рыжих и ряженых мы с вами за эти годы перевидали. А Засурский не менялся, он только перестал таить застенчивый скепсис, свойственный ему во все времена и ставший сегодня одной из выразительнейших черт его личности.
Наверное, ему есть о чем пожалеть, вспоминая, но не в чем каяться. В той школе он не был и не стремился быть первым учеником, если вспомнить шварцевского «Дракона». Что помогло ему «отстоять и спасти свою внутреннюю личность»? И какой отпечаток наложили на нее порядки и моды прошедшего времени? Всякий раз, встречаясь с ним, мысленно или воочию я задаюсь этими вопросами и – не будучи знаком с ним настолько коротко, чтобы спросить об этом его самого, – ищу свои ответы.
На вопрос «что помогло?» я, кажется, ответ знаю, по крайней мере часть ответа. Мой ответ – форточка. В закупоренной наглухо советской коммуналке жила и привилегированная группа людей, которым по тем или иным обстоятельствам – чаще всего профессионального характера – разрешалось жить с открытой на Запад форточкой. Дипломатов и разведчиков отставим в сторону, останутся переводчики и критики западных порядков, к коим и Засурский принадлежал. Поскольку я и сам с начала шестидесятых занимался переводами с английского, я эту среду знал, и неплохо.
Проветривание мозгов, даже вне зависимости от их качества, делало взгляд на окружающую действительность у кого более трезвым, а у кого и более критичным. Одним из самых первых продуктов самиздата были не пошедшие в печать переводы западных авторов. Сейчас в это почти невозможно поверить, но хемингуэевский «По ком звонит колокол» в переводе Калашниковой – толстенный машинописный том, принадлежавший моей маме, несколько десятилетий передавался из рук в руки как полуподпольная реликвия. Из этой среды рекрутировалась значительная часть диссидентства. Переводами начинали и Копелев, и Лидия Корнеевна Чуковская, и Бродский. Я не говорю, что форточка их на это обрекала, но наличие ее предрасполагало к лучшему, более объемному восприятию и пониманию происходящего внутри коммуналки. Разумеется, и эта среда не была однородной. Рассмотрим лишь одну из ее составляющих, ту, к которой, по моему рассуждению, принадлежал и Ясен Николаевич.
Исследователи западного образа жизни, язв капитализма, буржуазной культуры, они иногда невольно, а часто и вполне осмысленно, по велению ума и сердца, в облаках ими же напущенного идеологического тумана незаметно приоткрывали занавес, пропуская на якобы охраняемую ими территорию свежий ветер иной культуры, иных реалий, иных ценностей. И вопрос не в том, хороши или плохи были эти реалии и как они их оценивали, – просто любой геодезист скажет вам, что если опорные точки измерения расположены на одной только плоскости, нельзя вычислить ни высоту Монблана, ни кремлевских холмов. Скажем, первое представление о драматургии Ионеско и Беккета мое поколение получило из книги Бояджиева, посвященной критике западного театра.
Я рискну предположить, что если абсолютное большинство сограждан напоминало в те годы всех трех обезьян, олицетворяющих восточную мудрость «не вижу, не слышу, молчу», Засурский уподоблялся только третьей из них, и накопленная энергия невысказанности многое объясняет в его дальнейшей эволюции.
Поразительна способность Ясена Николаевича участвовать, не уподобляясь, присутствовать, но не ввязываться, состоять, но без проявлений активности, – едва ли она благоприобретенная и относится только к деятельности его в новейшие времена. Скорее, это напоминает отработанную до изощренности технологию жизненного поведения. Когда-то мне довелось услышать от Анатолия Эфроса: «Я не отказываюсь ни от одного творческого предложения, ненужные отпадут сами собой». На любом собрании (конференции, круглом столе и т.д., и т.п.), посвященном проблемам журналистики, положению СМИ, свободе слова, новейшим фиоритурам законодательства и прочая, вы всегда обнаружите неяркую, не привлекающую к себе особого внимания, подчеркнуто скромную фигуру Засурского. С такой же уверенностью можно утверждать, что он либо появится не сначала, либо пробудет не до конца, аккуратно и неярко, но по делу выскажется и через некоторое время исчезнет, редко доводя свое участие до подписания протестов, воззваний или резолюций – я уже, кажется, упоминал о застенчивом скепсисе его, он словно всегда на перепутье: не участвовать неловко, участвовать – смешно.
Поразительно, но с годами, особенно по мере того, как благоприятные перемены вновь стали оборачиваться пустыми надеждами, у Деда – таково одно из известных мне прозвищ Ясена Николаевича – все чаще обнаруживается мускулатура в выступлениях и готовность к подписанству, то ли возраст притупляет чувство самосохранения, то ли уже не хватает сил сдерживать много лет попираемый, но не потерянный совсем темперамент.
Лицензионную комиссию, в которой мы состояли, поставили чем-то вроде демократического забора, нашими лицами обращенного к общественному мнению, огораживающего от нескромных взглядов территорию ФСТР [20]20
ФСТР – Федеральная служба РФ по телевидению и радиовещанию.
[Закрыть], где принимались за нашей спиной многие решения. Довершая портрет Ясена Николаевича, мне хочется рассказать историю, как мы с ним из этой комиссии решили выйти.
История с забором проявилась не сразу и не для всех. Внешне значительные заседания комиссии в зале заседаний коллегии бывшего Гостелерадио на Пятницкой могли долго поддерживать в ее членах, во всяком случае, в тех, кто лично не был заинтересован в принимаемых решениях, иллюзию осмысленности своего в ней участия. Но, как говорится, сколько веревочка ни вейся… наступил момент, когда участие грозило обернуться соучастием, а примирение с участью забора могло сказаться на собственной репутации. Было это примерно за год до ликвидации. Поговорили мы с Ясеном Николаевичем и решили, что оставаться уже неприлично, особенно на этом настаивал я, но и у Засурского не было по этому поводу серьезных возражений. Ничто не мешало мне сделать это в одиночку, но моя отставка не дала бы нужного резонанса, важно же было не просто уйти, а уйти скандально, с публичным изложением причин, лишив комиссию самой возможности дальнейшего функционирования.
По договоренности с Засурским я написал проект совместного письма на имя тогдашнего председателя ФСТР Валентина Лазуткина, но не узко служебного, а отчетливо обращенного вовне, и передал его Засурскому, который взял несколько дней на размышление.
Ясен Николаевич сказал, что в письме все его устраивает, но, может быть, оно еще преждевременно. Потом по некоторым причинам ему не с руки было его подписывать, потом… словом, прошло несколько месяцев, я переписал письмо, заменив местоимения со множественного числа на единственное, и вышел из комиссии. Как я и предполагал, мое сольное выступление не привлекло должного внимания публики, а еще через полгода комиссия тихо скончалась в процессе очередной реорганизации органов управления отраслью. Ничьей репутации эта история не очернила, и конец ее, как, видимо, и предполагал Ясен Николаевич, никак не прозвучал, исторический колокол ни по ком не прозвонил.
Бедный-бедный Ясен Николаевич, как неуютно и неловко чувствовал он себя в те месяцы, когда я, пусть и без особого рвения, и тоже испытывая неловкость, приставал к нему с этим «нашим письмом». Каких-то сто восемьдесят лет назад в дни декабристского восстания родился так называемый синдром Трубецкого, хорошо известный, судя по цитируемой мной записи, Вяземскому. Суть его была в том, что, побуждаемый героическими чувствами, модными в преддекабрьскую пору, дружескими привязанностями и заемным радикализмом, князь Трубецкой соглашается возглавить штаб Декабрьского восстания, т.е. берет на себя обязательства или стремится совершить поступки в угоду «самовластительным притязаниям моды», попирая свою истинную сущность, а 14 декабря не выходит на Сенатскую площадь. В нашем случае бытовая заурядность не может скрыть очевидного сходства, мотивов и поступков. Громкое хлопанье дверьми – не в характере Ясена Николаевича. Придание своей персоне исторического значения, пусть даже в истории бюрократического учреждения, каковым и была ФСТР, – чуждо ему. И он, переступив временную неловкость, сделал так, как, наверное, делал всегда – не стал примерять наполеоновскую треуголку, – и ушел без скандала, тихо и не демонстративно, огорчив меня, но оставшись верным себе.
Браво, Засурский!