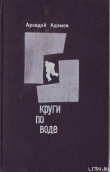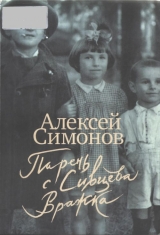
Текст книги "Парень с Сивцева Вражка"
Автор книги: Алексей Симонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Судя по всему отец присылал им с дедом по 2 тысячи ежемесячно. А дед, ругая Алиньку за расточительность, ограничивал ее в средствах.
«…Из 2000 я ежемес. посылаю 300 р. Люле ( старшей сестре в ссылку. – А. С.), оплачиваю комнату, прачку, редко но все же покупаю керосин по 50 р., но это невероятно трудно достать, и стоишь перед возможностью очутиться без чая, т.к. электр. в н[ашем] доме выключено. В общем пришли, пожалуйста, денег вне ежемес. присылки. Папа давал только 1½ мес. на молоко, когда я брала в день по 1 л., а так он считает, что он мне дал в долг, когда у меня раз не хватило на сахар. <…> Родной, чувствуешь ли ты, как мне неприятно об этом тебе писать, но я вынуждена это сделать, т.к. денег не хватает».
Но даже если все в порядке, даже если бабка стала наконец получать выписанную ей Красную Звезду, все-таки:
«… И все не то, что хочется. Ну, да ты инженер челов. Душ, должен меня понять. Ведь слишком много всего накопилось за 1½ г. разлуки! Отец уязвлен тем, что ты ему не ответил на письмо об Алешке и не отвечаешь вообще, но оч[ень] тронут вниманием, заботой и посылкой. Милый друг, как я жду твоего письма из М[осквы]. Сколько ведь ты повидал и перечувствовал! Ты прав – я в исключ[ительно] хороших условиях и сейчас, с получением Кр. Зв. близка к твоим переживаниям, но ни радио, ни твоя такая дорогая мне, последняя, дивная во всех отношениях книжка, чтение пьесы, все это не исключает желания теплых строк, недавно написанных и быстро дошедших».
А вот чтобы представить себе, что Алинька имеет в виду под «теплыми несколькими строками», приведу ее письмо, написанное после возвращения из Москвы, куда она ездила повидаться с сыном. Это уже 44-й, относительно спокойный год.
«Кирюня, родной,
Какая же ты удивительная свинуха, между нами говоря, – была я в Москве, был у меня там сын и сын милый, теплый такой, близкий и бесконечно дорогой сердцу. А сейчас, как ножом отрезало! Я понимаю: я почувствовала тебя, твое, так сказать, внутреннее дыхание и бытие, чем жив близкий мне человек. Это очень много, почти все. Я и не прошу, сердце мое, бумажных длинных излияний, они мне не нужны. Мне только хочется несколько строк: как самочувствие, какая новая работа – начал ли пьесу, о кот. шла тогда речь в ЦК Комсомола, как с театром – устроилось ли помещение, где и как был на фронте, п[о]ч[ему] в Кр. Зв. так словно тебя и в природе не существует. Как складываются отношения с новым ред[актор]ом [5]5
Незадолго до этого редактором «Красной звезды» вместо друга К. М. – Ортенберга стал генерал Никольский.
[Закрыть]и что с О[ртенбергом]. Видишь, 2–3 слова в ответ на готовый опросник! А любится, надеюсь, хорошо, как при мне. Ну, голубчик, так уж раскачайся, а то мамке грустно, она хандрит, а отец суров безмерно, и мне порой холодновато.И еще такая гнустность: до сих пор тете Варе Тр. не дано денег на отправку посылки тете Люле и на ящик для упаковки, и не возвращена кастрюля „Чудо“, кот. я брала для Вали. Очень безобразно, что и насчет этих хоз. дел надо беспокоить тебя».
Ну а на самом деле, как жилось Алиньке, насколько обоснованными были ее обиды, которые так легко принять за капризы. Так ли ласкала ее эта, сравнительно с другими, обеспеченная жизнь? Мне уже случалось писать, что отношения с родными, кровными, у отца складывались зачастую совсем не по-родственному. Меня в полную меру он стал воспринимать лет с 15, когда я более или менее сформировался как личность и отношения из родственных, т.е дающих какие-то мифические права на его внимание и время, перешли в разряд дружеских, пусть с огромной дистанцией в возрасте, но дающих право непредвзято, без всяких дополнительных «родственных» послаблений относится к человеку.
Мое ощущение, что деда Сашу отец любил в том числе и за то, что тот никогда ничего у отца не просил и ни в чем от него (как, впрочем, и от кого бы то ни было) старался не зависеть. Маму свою любил, но считал ее претензии на постоянную связь излишними, и только под давлением, по обязанности снисходил к ее недомоганиям, преувеличенным чувствам и не менее преувеличенным требованиям к нему, равно как и к ее собственным амбициям. Его внутренне возмущало право матери вмешиваться в его личную жизнь, настаивать на исключительности ее к нему и его к ней отношений, оценивать и его самого, и результаты его работы, и без всякого стеснения или внутренней неловкости делиться с ним своими оценками. Его раздражала ее ревность к женам, жизненным успехам. И он далеко не всегда умел это от Алиньки скрыть.
Видимо, именно в этом природа конфликта, о котором написано несколько писем. Идет 1947 год, отец достиг всех степеней известности. Он в той самой поре «общественной востребованности», о которой он потом скажет Лазарю Лазареву: «Эта страсть к общественной деятельности, она меня чуть не погубила как писателя». А старики, они, что ж, они сыты, устроены, здоровы. Ну и слава богу.
Как и всякая сильная страсть, а любовь Алиньки к моему отцу была именно страстью, она подвержена трагическим переживаниям по кажущимся мне случайным и почти бессмысленным поводам. Тогда возникает на одном и том же месте масса противоречивых чувств и поступков, как в этом случае.
28 ноября 1947 года отцу исполнилось 32. Он не считал эту дату юбилейной и хотел бы от празднования оной увильнуть, о чем честно, хотя и не лично заранее предупредил мать и отчима. 25-го он получил первый афронт от бабки:
«Кирюня, родной мой!
Что это опять происходит, словно дурной сон, из которого никак не можешь проснуться?! Зачем этот жестокий и нелепый план встречи дня твоего рождения, которого я так ждала в надежде на самое естественное, самое законное для сердца матери – быть в этот день с тобой, хотя бы частично – в часы, с которыми у меня столько связано в жизни самого дорогого, самого важного и, к сожалению, самого больного. Столько воспоминаний милых, грустных, забавных, забот, как бы украсить его для тебя, этот день, иногда с таким невероятным трудом осуществлявшихся. Неужели же ты забыл все это? Нашу комнату на Садовой в тяжелые годы Гражданской войны… Тогда это была почти неосуществимая мечта о своих собственных салазках. Я как живой вижу перед глазами мешочек из бархата, который тебе хотелось иметь, для чего – уже не помню, но в это время тебя пленяли яркие кисеты. Твой уголок, отдельный совсем, у Матвеевны, с твоей детской мебелью. Монастырскую нашу келью с твоим уголком, с партой у окна, чудесную комнатку на отдельной квартире у Ананьиных. Наконец Саратов, Петровку, первый год в Москве, высокий мальчик в черной кавказской рубахе с бесчисленными пуговками, ее тоже тебе очень хотелось, продажу вещей в Торгсине, чтобы купить желаемое. Отдельные наши комнаты и опять Петровка и день рожд., когда ты от Аты пришел ночевать ко мне. Как я была счастлива тогда подарить такие крупные и важные вещи, как первая пижама в вашей семейной жизни. Я специально брала тогда считку бумаг и считывала по ночам, с риском разбудить отца, а ты знаешь, что это тогда значило?! Он выключил лампу, позже вывернул, и я работала последнюю ночь со свечкой, но доработала. И сколько среди этих 32 дней рождения таких, когда мне бывало тяжко или одиноко невыносимо, когда я страшилась за тебя в годы войны и болезней, обижалась всей болью сердца, на кот. способна мать. Что греха таить – бывало нам с тобой нелегко, не в укор будет сказано теперешнему папе, твои отношения с кот. меня так радуют последние годы. И вот теперь, в 47 г., когда нет сейчас войны, заграничн. командировок, больницы, расстояний, кот. бы нас разделяли, а впереди 3-месячная разлука, Валя передает нам о назначенной тобой нам встрече 27-го между конц.[ертом] в ЦДРИ и ночным отъездом на дачу, где ты хочешь именно в этот день обязат.[ельно] писать стихи. Встреча на час, опять наспех, на ходу, нелепая, как отбытие номера. Приезд, который не только не устраивает, но глубоко расстраивает нас с отцом, обижает. Говорю от имени нас обоих – нам это слишком больно, мы этого не заслуживаем. Для тебя приятное местопребывание – дача, где твоя рабочая обстановка, вдохнув этот воздух, я как-то хоть несколько дней сохраняю ощущение тебя, твоего кабинета, вижу тебя мысленно. Нам с папой хочется приехать к тебе туда 28-го и именно в то время, когда ты родился, пусть от 5 до 7, раз тебе так понадобилось именно перед отпуском писать стихи, два часа, мы думаем, у тебя для обеда и отдыха найдутся, просто побыть с тобой, услышать, увидеть тебя, немножко узнать о ближайших планах. Неужели это нельзя, мы можем приехать поездом.
Родной, как бы я хотела, чтобы ты понял, почувствовал меня, как ты умеешь это в отношении выдуманных тобой людей, которые живут настоящей жизнью в твоих книгах. Пойми, это то самое твое: „она звала, а ты не прибежал“. Это очень страшно для обоих.
Не пришла сама, п.ч. боюсь не сдержаться.
Будем ждать твоего ответа.
Мама»
27-го, когда стало ясно, что сын стоит на своем, он получил открытку, подписанную «Родители», написанную рукой бабы Али:
«Кирюша!
В вечер твоего отъезда Валя передала нам, что ты хочешь с нами встретиться по случаю твоего рождения не в день рождения, а сегодня между и и 12 ч. в[ечера], между концертом в ЦДРИ и отъездом на дачу, куда ты едешь специально писать стихи.
Считаем это отбытием номера, ненужным нам, да, думается, и тебе, а для нас еще и оскорбительным. Предпочитаем ждать того дня, когда у тебя будет настоящая потребность нас видеть и ты приедешь за этим сам.
Родители»
И вечером того же дня – письмо от матери, смягчающее все сказанное ранее, пытающееся извинить его молчаливую бестактность.
«Кирюня!
Валя звонила нам в вечер твоего отъезда. Я много перестрадала и передумала с тех пор и вот сегодня говорю тебе от чистого сердца: поступай, как считаешь правильным, как лучше и легче для тебя, так пусть и будет. А не написать тебе я не могла того, что написала,– это как крик при боли: я хоть частично выговорилась, и мне стало легче. Поэтому прими это, „прими на дружбу“, как ты мне написал на самом дорогом мне подарке – своей книге. И еще дай мне досказать несколько слов. У нас с тобой много бед из-за неестественности и редкости наших встреч, краткости их. А ведь мысленно, особенно ночами, когда я не сплю или просыпаюсь, всегда с мыслями о тебе, я так много говорю и пишу тебе. И еще одно: подумай над тем, что я говорила тебе о том, как летит время, которого не остановишь. Это к тому, что я, естественно, уйду из жизни раньше тебя и мы не знаем когда. Поэтому мне всегда так больно, что мы с тобой обкрадываем себя, лишая себя наших встреч. Родной! Ведь ничего нет страшнее непоправимого. И еще одно, и глупое и трогательное одновременно: я так берегу все знаки твоего внимания, что у меня все еще живет щеточка для ламповых стекол, которую ты подарил мне мальчиком.
Ну вот и все. Горячо обнимаю тебя, мой дорогой и единственный.
Мама»
Я тоже присутствую в этой переписке как постоянный повод для упреков отцу за его ко мне невнимание, граничащее с безразличием. То бабкины тревоги, что я остался на зиму без шубки, то напоминание об обещаниях отца прислать мне танк в подарок, то просто незримым и не слишком воспринимаемым адресатом укором.

Наши редкие встречи проходили в дружеской обстановке. 1944 г.

Не знаю, кто в чью жизнь входит, но мы впервые вместе на майской демонстрации в колонне Союза писателей, 1954 г.
Отец в первые полтора десятка лет оставался для меня чем-то вроде Сталина. Его не было, но грозное и влиятельное присутствие его в жизни ощущалось. А я, в свою очередь, если и играл в этих отношениях какую-то роль, то, скорее, роль трогательного малолетнего несмышленыша, молчаливого напоминания о невыполненном отцовском долге. И, как я теперь понимаю, мне эта роль даже отчасти нравилась, по крайней мере подсознательно. Я к ней, похоже, приспособился – эдакий крохотный страдалец-всепрощенец. Останься мы с такими исходными один на один – ничего бы из будущих наших отношений не вышло. Мы бы оба так и закостенели, он – в образе великовозрастного преступника, я – в образе малолетней жертвы. Поэтому именно Алиньке и деду Саше я обязан тем, что, когда у отца дошли до меня сердце и руки, я оказался к этому готов и открыт. Они эту дверь придерживали для него и для меня, не давая ей захлопнуться. И когда настало время, он вошел в мою жизнь, не скажу легко, но вошел, не останавливаемый моим внутренним сопротивлением.
■
Прежде чем закрыть занавес над этой частью моей семейной истории, хочу задать сам себе непростой вопрос: как так получилось, что бабки и деды мои, такие показательно, я бы сказал, демонстративно, разные: происхождение, род занятий, судьбы до, после и в результате революции, идеалы и идолы, гражданские и семейные – все, через всю вторую половину своей жизни пронесли не замутненную ничем, искреннюю и последовательную любовь друг к другу?
Ну какие были объединяющие их особенности биографий? Все четверо из многодетных семейств – это, конечно, кое-что определяет, особенно если учесть относительное малолюдство в следующем поколении. Недолгий брак их детей, единственным вещественным итогом которого было мое рождение? На фоне всех катаклизмов времени – слабый узел, узелок, скорее, но ведь именно он сработал, мертвой хваткой сцепив в семью всю разбегающуюся центробежную русскость одних и всю центростремительную еврейскость других.
Отцова половина – идеологизированная: понятия офицерской чести, государственной ответственности, перемена жизненных стандартов, при сохранении себя в качестве надежного «державного» оплота. И материнская – материалистическая, торгово-частная, расположенная к соглашательству или молчаливому диссидентству.
Отцовы дед с бабкой в политике и идеологии святей папы римского: я уже вспоминал, в какой восторг пришла Алинька по прочтении лживой насквозь, казенно-патриотической пьесы «Чужая тень». Можно вспомнить и другое ее письмо, как она пошла голосовать в демонстративно безразличной к этому всенародному празднику Риге, в 1948 году. Какое возмущение вызывало у нее бытовое, наплевательское отношение к этому важному ритуалу государственности – Дню выборов в Верховный Совет, как гордится она тем, что «не склонила головы», а гордо пронесла ее сквозь всеобщее равнодушие латышей,– таких, как ножом по стеклу, царапающих бестактностей более чем достаточно в огромной переписке ее с отцом.
Рассуждая о двух мирах, я ведь в сущности рассуждаю о комбинации собственных генов, как они сложились в результате. И насколько это существенно.
Я никогда не был отпрыском «неполной семьи». Братство Сивцева Вражка, включавшее обоих дедов и обеих бабок обеспечивало моему детству и юности ту страховочную сетку любви, куда я валился из-под купола жизни, когда пытался проделать трюк, связанный с отцовской фамилией или отцовским присутствием. Неприсутствие отца компенсировалось до 15 лет этой семейной музыкой, в которой первой скрипкой – всю мою жизнь – была моя мать.
Моя мама и ее отражения

Моя мама. Говорят, мы непохожи. По-моему, это неправда, 1946 г.
Мы охотно рассуждаем о влиянии известных лиц, героев, политиков и поэтов на их окружение и мало думаем о том, что в жизни, а не только в физике Ньютона, действует закон всемирного тяготения и влияние известного А на неизвестное Б в принципе равно влиянию неизвестного Б на известное А. Просто в большинстве написанных нами биографий это трудно или невозможно обнаружить.
Да, известные люди оставляют свои следы в истории страны, в науке или культуре, их жизнеописания – это тропки, протоптанные биографами от одного общеизвестного следа к другому, поиски новых следов и утверждение их в качестве общеизвестных. Но ведь и участок территории, где найдены многочисленные следы чужих биографий, может сам по себе быть поднят до значения биографии, если удастся понять, почему именно здесь, почему именно так и отчего столь густо запечатлелись на этой терра инкогнита следы безусловно вошедших в культурный обиход имен.
Вот о чем я думал, разбирая всё, что осталось от мало кому известной биографии моей матери, перетряхивая полки шкафов и ящики стола и комода. Одно дело – входить в архив, где, каким бы непрезентабельным ни был интерьер, все равно возникает ощущение, что ты кончиками пальцев прикасаешься к истории и испытываешь законный и благоговейный трепет. А я входил в дом, где жил много лет, где и потом, переехав, бывал почти ежедневно, и пыль на шкафах ничего общего не имела с благоговейной пылью истории, а была просто пылью, которую мой старший сын, проживающий в этих двух комнатах, не удосужился стереть ни разу после бабушкиной смерти. Я отложил борьбу с пылью на потом, вытащил старый бумажник с документами – огромный черный лопатник, наверное, еще в нэповские времена принадлежавший деду, две папки, письма, врассыпную заложенные на полке между постельным бельем, и старомодную дамскую сумочку, и отдельные бумажки, там и сям засунутые между журнально-газетными вырезками и многочисленными рукописями. Я разложил их в более или менее хронологическом порядке и добавил некоторые общеизвестные публикации и свои комментарии. Я очень любил мать. Но мне хотелось написать о том, как ее любили другие. И за что. Потому что о том, за что ты любишь свою мать, написать нельзя. Как это – «за что?»
Из метрики: «Ласкина Евгения Самуиловна родилась 25 декабря 1914 года в городе Шклов Оршанского уезда Могилевской губернии. Отец – Ласкин Самуил Моисеевич…»
Из «Второй книги» Надежды Яковлевны Мандельштам:
«…Отец Жени, маленький, вернее, мельчайший коммерсант, растил трех дочерей и торговал селедкой. Революция была для него неслыханным счастьем – евреев уравняли в правах, и он возмечтал об образовании для своих умненьких девочек. Объявили нэп, и он в него поверил. Чтобы лучше кормить дочек, он попробовал снова заняться селедочным делом и попал в лишенцы, потому что не смог уплатить налога. Вероятно, он тоже считал на счетах, как спасти семью. Сослали его в Нарым, что ли. Ни тюрьма – он попал в период, когда, „изымая ценности“, начали применять „новые методы“, то есть пытки без примитивного битья, – ни ссылки его не сломали. Из первой ссылки он прислал жене письмо такой душераздирающей нежности, что мать и дочери решили никому постороннему его не показывать. Жизнь прошла в ссылках и возвращениях, потом начались несчастья с дочерьми и зятьями. Дочери жили своей жизнью, теряли мужей в ссылках и лагерях, сами погибали и воскресали. История семьи дает всю сумму советских биографий, только в центре стоит отец, который старел, но не менялся. В нем воплотились высокая еврейская святость, таинственная духовность и доброта – все качества, которые освящали Иова. „У него добрые руки“, – сказала Женя…»
Это о происхождении. Но вообще-то для детей биографии родителей начинаются с их, детей, рождения. Остальное – так, преддверие, дымка юности предков.
Вот и для меня, впрочем, как и в доступных мне сегодня документах, всё начинается с фотографий в Солотче и с надписи на книге отца «Настоящие люди». Это первые и едва ли не единственные фотографии, где мои родители запечатлены вместе. А надпись гласит:
«Увы, утешится жена
И друга лучший друг забудет,
Но в мире есть душа одна…
Вот по этому поводу и дарю тебе книжку.
19 ноября 1938 г. Кирилл» .
Стало быть, они еще не женаты, а время переломное: подписано – «Кирилл», а на обложке – «Константин Симонов». Значит, только что, в преддверии славы и выхода первой книжки стихов, он сменил имя с непроизносимыми для него «р» и «л» на более удобное для произношения – Константин.

Единственное качественное фото, где отец с матерью вместе, весна 1939 г.

Женя Ласкина – председатель профкома Литературного института, 1937 г.
И это кроме всего прочего, обрекло меня пожизненно отвечать на недоуменный вопрос: «Почему вы Кириллович, если ваш отец Константин Симонов?»
Затем «Свидетельство о браке». Сопоставление дат позволяет предположить, что именно «проект меня» повлиял на моих легкомысленных родителей. Предыдущие свои браки ни отец, ни мать законом не освящали. Итак, свидетельство от 10.01. 1939 г., и до моего появления на свет остается ровно семь месяцев, почти день в день. Кстати, в «Свидетельстве…» никаких следов «Константина».
Теперь семь записок в роддом. А было, по контексту, еще больше, и связано такое изобилие их с тем, что рожала мать трудно: извлекали меня щипцами, и продолжалось это несколько дней.
Я привожу записку, самую мне понравившуюся и заодно дающую представление о том, что делают поэты, когда у них появляются дети.
«Женя, родная моя. Ну, кажется, ты сейчас не то покормила, не то еще кормишь сына. Говорил с доктором – говорит все хорошо. И что ребенок понемногу оправляется от пережитых им потрясений. Напиши, как он тебе нравится и что он из себя представляет. Напиши, когда тебя переведут и когда сможешь звонить. Я сегодня на радостях заложил фундамент поэмы и теперь буду писать каждый день. Меня надули с книжками, и я достану их лишь к вечеру. Пока посылаю Форсайтов – это совершенно обаятельная книжка – я ее за эти дни прочел. Посылаю также свою последнюю карточку – снимался вчера на радостях, узнав, что у сына все в порядке. Малыш мой, как ты себя уже ведь совсем хорошо чувствуешь? Да? Тебе передают привет 2 мама 2 папа 2 сестра 2… И еще куча всяких людей… Все очень, очень хорошо, и я вдруг обнаружил, что перед лицом этого хорошо меня вдруг перестали волновать будущие мелкие житейские трудности. Бог с ними.
Малыш мой – очень хочется услышать твой голос и увидеть твою наверное похудевшую морду. Целую твои лапы. Расскажи, какой сын и как ест – если плохо – значит, ты мне все-таки изменяла – это, на мой взгляд, самый верный критерий. Родная моя, жму лапы. Спроси, можно ли тебе передать еврейскую печенку.
Костя».
Вот за этот год он и стал Костей из Кирилла окончательно. Сын – это я. А поэма – «Ледовое побоище».
Не успел я появиться на свет, как мой отец отбыл на свою первую войну, на Халхин-Гол, где и написал стихотворение «Фотография» – одно из трех, официально посвященных женщинам:
Я твоих фотографий в дорогу не брал.
Все равно и без них, если вспомним – приедем.
На четвертые сутки, давно переехав Урал,
Я в тоске не показывал их любопытным соседям.
Кто любит Симонова – все помнят, что «Жди меня» посвящено В. С, а вот кому посвящены эти стихи, не помнит почти никто. Между тем посвящение «Е. Л.» – это как раз мама, Евгения Ласкина.
…Я не брал фотографий в дорогу, на что они мне?
И опять не возьму их. А ты, не ревнуя…
Насчет ревности не знаю, а фотографий, к сожалению, осталось мало, так я и не узнал, было ли это просто плодом поэтического воображения, или они в войну потерялись.
Отец с матерью развелись в 1940-м, когда мне был год. И хотя в отличие от «Свидетельства о браке» «Свидетельство о разводе» так и не обнаружилось в семейном архиве, сам этот факт житья с отцом врозь был для меня непреложным с самого начала жизни.
В 1941 году мать, единственная из трех сестер Ласкиных, получила высшее образование. Вот «Диплом об окончании отделения критики Литературно-Творческого Института Союза Советских Писателей СССР». Дата выдачи – 15 июля. По всем предметам – «отлично», по основам марксизма-ленинизма – «хорошо». Отличной успеваемости по этому предмету мать так и не достигла, но прояснится это окончательно только к шестьдесят девятому году, и речь об этом впереди.
С этим только что полученным дипломом мать в сентябре сорок первого вывезла все наше семейство в эвакуацию и начала работать на Кировском заводе в городе Челябинске в системе Наркомата танковой промышленности.
В сорок втором получила медаль «За трудовое отличие», в сорок пятом – «Знак Почета» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Лежат орденские книжки и книжки отрывных денежных купонов, на пять рублей каждый, с пометкой: «Отделяется кассой, производившей выплату». Наградные к тем орденам и медалям полагались. Но мать их почему-то стеснялась брать – купоны все целы.
Матери я в войну не помню. Из всей эвакуации сохранилась в памяти одна картинка. Это, видимо, зима с 1942 на 1943 год. Значит, Челябинск.
Города нет, не потому что нет, а просто памяти зацепиться не за что.
В пустоте – снег, почему-то вечер и две клетки посреди двора с налипшим на ржавчину инеем. В одной клетке ходит и воет волк, не страшный, но похожий все-таки на волка – морда к луне и вой, который только виден, потому что в памяти звука нет.
И вторая клетка – с мертвыми лисятами. Замерзли, поэтому и думается, что лисята, а не лисы. Смерзлись в комок. Рыжие с белым.
– Почему же, баба, не пустили волка к лисятам? Они бы грелись вместе.
– Нельзя. Он бы их съел.
Из эвакуации мы вернулись летом 43-го – это знаю по рассказам. А мать оставалась на Урале до 45-го.
В итоге – копия приказа по Главному управлению снабжения Министерства транспортного машиностроения от 19 февраля 1948 года № 40-к за подписью заместителя министра Н. Жерехова: «Начальник отдела сортового проката и труб тов. Ласкина Е. С. подала заявление о том, что она по специальности литературный критик и занимаемая ею должность начальника отдела проката труб не соответствует ее квалификации, в связи с чем приказываю: освободить тов. Ласкину Е. С…» и т.д. – всего шесть пунктов, из которых выясняется, что она заодно была и начальником отдела чугунов, ферросплавов, лома и цветных металлов, что для литературного критика, видимо, следует считать неслабой карьерой.
В том самом черном бумажнике я нахожу девять писем и открыток, написанных булавкоголовчатым экономным почерком Смелякова, на всех вполне приличный адрес Подмосковья. Это его письма из лагеря.
Первое – то, которое я хочу здесь привести, – написано в мае 1945 года. Последующие восемь являют дивную силу поэтического воображения не в стихах, а в жизни. Видимо, этот роман так и остался в письмах, и мать потом всю жизнь неловко себя чувствовала с Ярославом по этой причине. Впрочем, выдумать такое мне тем более легко, что ни одного ответного письма матери история не сохранила, потому что архив Смелякова, насколько я знаю, погиб.
Письмо без марки, сложено военным треугольником: «Просмотрено военной цензурой 197 728».
30.05.45:
«Милая Женечка (надеюсь, мне после воскрешения разрешено обращаться к Вам с нежной фамильярностью), милая Женечка – Вы меня обрадовали и огорчили своим письмом. Обрадовали гораздо больше, чем огорчили. Главное дело, Вы пишете, что я, наверное, и не вспомнил о Вас ни разу. Грубая ошибка. Я вспоминал о Вас, пожалуй, не реже, чем Вы. У меня отличная память, я даже помню, как Вы записывали мой стишок про девочку Лиду. Интересно, потеряли ли Вы его? По-моему – нет. И Вы далеко не „не привлекательно“ выглядели в моих воспоминаниях; скорее, я сам сделал несколько неловкостей, если не по отношению к Вам, то в Вашем присутствии. Кстати, раз уж пошло на воспоминания, то у меня однажды болела голова, и Вы гладили мою голову – это было замечательное средство от головной боли. У нас его нет сейчас и когда еще оно будет? Я спрашивал о Вас у единственного человека из довоенного мира, которого мне пришлось увидеть,– у Сергея Васильева. И он сообщил, что Вы на Уральском заводе прекрасно работали и даже награждены медалью, что меня обрадовало. Но я понял его так, что Вы и сейчас там. Оказывается, нет. Вы у себя в семье, сын Ваш наверно стал уже гигантским ребенком – он был велик по-старинному еще тогда, в 41 году. Меня растрогало, что Вы даже помните день моего отъезда. Спасибо Вам, дорогая. Я мало изменился за это время, хотя внешне, наверно, постарел: у меня нет ни потребности, ни возможности заглядывать в зеркало. Стал опытнее тем тяжелым опытом, свойственным не поэтам, а людям иного порядка, и все-таки остался поэтом – очевидно, это во мне неистребимо. Сейчас я пишу свою большую вещь – повесть в стихах. Кажется, получается – и это вся моя радость. Пишу урывками, но пишу. Когда окончу, пришлю экземпляр Вам – читайте и не забывайте меня. Я все-таки этого стою. Мне хотелось бы, чтобы Ваше письмо было не последнее. Я рассчитываю на длинную переписку. Я не писал почти никому, кроме матери (послал одну открытку в „Знамя“). Не хотелось писать. А Вам почему-то захотелось, и я сразу же взялся за ответ. Хоть за это простите мне мои прегрешения. Ну, будьте здоровы и энергичны. Авось, мы с Вами еще встретимся. Это было бы прекрасно! Вот и Вам один восклицательный знак в ответ на Ваши, моя милая. Целую Вас почтительно и длинно
Ваш Ярослав».
Большая вещь – это, видимо, первое упоминание о поэме «Строгая любовь». А других неясностей здесь, по-моему, и нет.
Теперь наконец можно сказать, что «с войной покончили мы счеты», и заняться последующей, сугубо мирной, жизнью.
Увы, от сорок восьмого до пятьдесят пятого года никаких официальных документов архив не сохранил. Ни следов поступления в Радиокомитет в сорок восьмом, ни увольнения из него в разгар борьбы с космополитами в пятьдесят первом. Хуже того, нет в архиве и писем с пятидесятого по пятьдесят третий год, когда арестованная и осужденная моя тетка Софья Самойловна отбывала свои первые годы в Воркуте. Зато одно из первых моих собственных памятных событий относится именно к этим годам.
Почему дети не запоминают то, что, с родительской точки зрения, должны были и даже обязаны были запомнить, и наоборот, – почему совершенно забытые родителями разговоры или случаи становятся краеугольными камнями формирующегося характера и мировоззрения детей, сказать не берусь. Но то, что это именно так, – для меня несомненно и как для сына своих родителей, и как для отца своих детей.
Я сейчас перескажу один разговор, который я подслушал не по умыслу, а по недосмотру, по чисто географическим обстоятельствам: мы жили с мамой в одной, довольно большой, комнате, в коммуналке, и все, что говорилось в ней с расчетом, что я сплю, становилось мне известным, если вдруг я не засыпал как мертвый к 10 часам вечера. Я тогда был полноценным «жаворонком» и вставал не позднее шести утра, как заведенный.
Отец приехал, когда я уже спал. Был это, боюсь соврать, 52 или 53 год, когда впервые прошел слух, что к сидящим в лагерях стали допускать посетителей. Скорее, 53-й – после смерти друга всех советских заключенных – такое послабление выглядит более логичным. Мать собиралась ехать в Воркуту, к своей сестре Соне, уже третий год сидящей в известном по «Архипелагу ГУЛАГ» месте под названием «Кирпичный завод». В преддверии этого отъезда она вызвала отца для разговора, свидетелем которого я стал. Речь шла о моем ближайшем будущем.
Излагаю в форме прямой речи не потому, что готов поручиться за каждое слово, а потому, что смысл разговора, в то время для меня совсем не ясный, я потом многократно прокручивал в памяти, и смысл этот постепенно прояснялся – как переводная картинка, когда смываешь с нее очередной слой бумажных катышков.