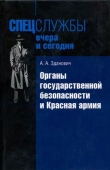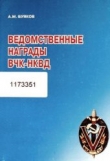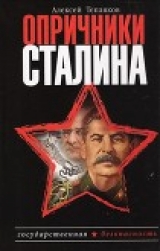
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)
«…Бежал в Китай»
Любопытно взглянуть на политическую благонадёжность аппарата, доставшегося Николаю Николаевичу от предшественника. Не все сотрудники карательного ведомства являли собой образец большевистской бдительности и непримиримости к врагу…
Сразу после приезда Алексееву пришлось разбираться с фактами связи работников Томского оперсектора ОГПУ с ссыльными троцкистами. Всё это было, разумеется, сильно раздуто, но закончилось для некоторых чекистов печально.
25-летний уполномоченный Нарымского оперсектора ОГПУ Матвей Толстыкин был арестован по делу «томской организации троцкистов» и в июне 1932 г. счёл за лучшее покончить с собой в камере. Алексееву пришлось ещё и краснеть на бюро крайкома за своих нерасторопных подчинённых, давших ускользнуть из-под следствия «активному троцкисту». В особую папку бюро крайкома 5 июня 1932 г. по докладу полпреда подшили решение «поручить т. Алексееву привлечь к ответственности лиц, ответственных за недостаточный надзор за арестованным. …Тщательно расследовать все материалы о прямых или косвенных связях отдельных чекистов с троцкистами… Оперативные действия согласовывать с тов. Эйхе».
Связи чекистов со злейшими врагами партии были расследованы. Практикант Томского оперсектора ОГПУ коммунист В. И. Гордеев был обвинён в том, что получил от троцкиста Колесникова письмо ссыльного виднейшего оппозиционера Христиана Раковского и, зная о существовании в Томске «троцкистской организации», не сообщил об этом. В мае 1932 г. Гордеева исключили из партии, арестовали и дали три года лагерей (правда, потом освободили досрочно). Новый полпред ОГПУ пытался расширить круг обвиняемых в связях с троцкистами чекистов, но не особенно преуспел. Райуполномоченный Нарымского оперсектора ОГПУ в Кривошеинском районе М. И. Новичков – чекист с десятилетним стажем – в июне 1932 г. был арестован в связи с троцкистским делом, но в сентябре его освободили с отказом от обвинений. Сотруднику Томского оперсектора ОГПУ В. К. Иванову повезло меньше – в 1933 г. он был арестован и осуждён по 58-й статье на три года концлагеря[88]88
АУФСБ по НСО. Д. П-8918. Л. 221–222 об.
[Закрыть].
Решительная чистка аппарата от сочувствовавших Троцкому оперативников (реальных или придуманных) не позволила Николаю Николаевичу почивать на лаврах проявленной высокой бдительности. Довольно скоро его ждал оглушительный в своей неожиданности удар. Самым ошеломляющим происшествием для отдела кадров полпредства ОГПУ и лично Алексеева стало, без сомнения, скандальное бегство 30-летнего оперативника Барнаульского оперсектора ОГПУ М. А. Клеймёнова – это в самый разгар репрессий, когда каждый сотрудник оперсектора был следователем по делу громадных «белогвардейского заговора» и «заговора в сельском хозяйстве», когда весь аппарат работал темпами, близкими темпам 37-го, когда даже секретарь оперсектора А. В. Копейкина выполняла функции не только ведения делопроизводства и учёта агентуры, но и держала на связи группу осведомителей, «освещавших» духовенство![89]89
Тепляков А. Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири… С. 513–515.
[Закрыть] Мало того. Следствие выяснило, что Клеймёнов и ряд его сторонников планировали поднять вооруженное восстание в Бийске.
Михаил Клеймёнов внешне выглядел чекистом абсолютно типичным – крестьянского происхождения, с начальным образованием и опытом низовой руководящей работы. Именно из таких и шло до середины 1930-х пополнение «органов». Алтайский уроженец и член компартии с 1925 г., он после мобилизации в армию служил в качестве оружейного мастера в 28-м Ойротском кавпогранотряде ОГПУ. Потом демобилизовался, работал в кооперации, организовал коммуну в родном селе, стал инструктором Троицкого райкома партии, а в 1930-м Бийским окружкомом ВКП (б) оказался выдвинут на чекистскую работу. В 1930–1933 гг. произошёл очень резкий скачок в численности карательного ведомства, и люди, подвизавшиеся на низовой партийно-комсомольской и профсоюзной работе, стремительно выдвигались на оперативные должности. Клеймёнов работал в Бийске и Барнауле, а потом, насмотревшись на то, как чекисты «работают» с его земляками, решил сбежать.
Осенью 1960 г. он, вспоминая молодость, рассказывал следователю Алтайского УКГБ, что в 1933 г. на Алтае свирепствовали голод и произвол властей: «Крестьянство выражало недовольство. Органы ОГПУ производили много арестов. Следствие велось с грубым извращением законов, сопровождалось избиениями и фальсификациями. Настроение крестьянства и произвол в органах ОГПУ со стороны отдельных работников вызвали и во мне протесты и возмущения». Активистом Михаил Антонович не был: характерно, что в декабре 1932 г. его фамилии не оказалось в обширном списке награждённых оружием и часами в связи с 15-летием «органов». Но избежать крещения кровью ему не удалось.
Клеймёнов не упоминал о своём участии в казнях осуждённых, но документы об этом существуют. Начальник оперсектора И. А. Жабрев сознательно вязал свой аппарат кровавой порукой, одновременно воспитывая у следователей чувство безнаказанности: сами арестовали сотни крестьян по поддельным справкам о кулацком происхождении, сами пытали, сами и расстреляли. Все концы в воду. На молодого чекиста явно глубоко повлиял расстрел 327 осуждённых по заговору в «сельском хозяйстве» в ночь на 28 апреля 1933 г., в котором участвовало 37 сотрудников Барнаульского оперсектора ОГПУ. На акте о расстреле остались подписи 10 основных исполнителей, в том числе и Клеймёнова. Возможно, среди обречённых он в ту ночь встретил кого-то из своих знакомых. Кстати, в те же недели в Барнауле прошли массовые казни и осуждённых по «белогвардейскому заговору». Клеймёнов осознал, что ему предстоит заниматься такими делами и далее. После мыслей о самоубийстве пришла идея «дезертировать» из системы.
Согласно справке из следственного дела на Клеймёнова, он «в 1933 г. в Троицком и Бийском районах организовал к-р повстанческие организации для свержения советской власти. После того как восстание этой организации, назначенное на 1 августа 1933 г., не состоялось, Клеймёнов бежал в Китай». Чекисты долго потом вспоминали этот казус и ругали друг друга за потерю бдительности: «По делу изменника органов НКВД Клеймёнова имелись сигналы ещё в 1932 г., но отдел кадров это просмотрел».
На самом деле Клеймёнов не был настоящим заговорщиком, у него были только намерения. Летом 1933 г. он встретил своего старого друга С. О. Суспицына, приехавшего в Барнаул из Бийска на совещание районных пожарных инспекторов. Обсудив, что вытворяют власти с народом, друзья задумались о том, что они могут противопоставить этим преступлениям. Суспицын заявил, что знает несколько человек, готовых поднять восстание, и предложил Клеймёнову примкнуть к ним и возглавить мятеж. Тот согласился, после чего написал воззвание, в котором призывал крестьянство к вооружённому выступлению. Суспицын обещал через три дня приехать и начать действовать. Не дождавшись Суспицына в указанный срок, Клеймёнов, обдумав ситуацию и поняв, что восстание будет обречено, решил отказаться от выступления и бежать за границу. Воззвание он уничтожил.
Клеймёнов и примкнувший к нему брат Суспицына – М. О. Суспицын – на попутной машине, а затем на подводах добрались до Горного Алтая, желая уйти в Китай. (Также скрылись и позднее были объявлены в розыск ещё два человека.) Чтобы выиграть время, Клеймёнов послал в оперсектор телеграмму о том, что получил травму и задержится в районе. Перебираясь через горы, беглецы повстречали напавших на них охотников-казахов и разбежались, потеряв друг друга.
В итоге экс-чекист не смог перейти границу и жил на нелегальном положении под фамилией Проскуряков в Казахстане и Саратовской области до 1948 г., пока не был вычислен, пойман и осуждён (среди обвинений значилась и попытка вновь уйти за кордон). Бывшие же его коллеги были уверены, что Клеймёнов благополучно обосновался в Китае и торгует там чекистскими тайнами[90]90
ГАНО. Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 7. Л. 109; Политические репрессии в Алтайском крае 1919–1965. – Барнаул, 2005. С. 318.
[Закрыть]. Неприятность для всего аппарата ОГПУ в целом была очень серьёзная – побег за границу оперативного работника неизбежно компрометировал начальство. Такой факт не мог не вызвать нареканий на Алексеева, убранного из центрального аппарата как раз в связи с делом «изменника», пусть и придуманного.
Тем более что фактическое дезертирство – под разными предлогами – ряда оперативников из ОГПУ не исчерпывалось казусом с Клеймёновым. Даже закалившиеся в фабрикациях крупных политических дел следователи порой старались покинуть «органы». Вот один из заметных авторов «белогвардейского заговора» – Москвитин из всё того же Барнаульского оперсектора ОГПУ. В 1933-м он сфабриковал дела на 53 человека, из которых троих расстреляли, шестерых упрятали на десять лет в лагеря, а 23 дали по пять лет. А уже в ноябре 1933 г. Москвитина исключили из партии «за потерю классового чутья, дезертирство с учёбы и работы из органов ОГПУ»[91]91
АУВД по НСО. Ф. 19. Кор. 39. Т. 2. Л. 758; ГАНО. Ф. П-460. Оп. 1. Д. 2. Л. 88; Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 15. Л. 133–140, 107.
[Закрыть].
Но замечательные успехи чекистов края, провёдших масштабнейшие дела и расстрелявших к исходу лета 1933 г. значительно более тысячи «врагов народа», перевесили на тот момент бегство одного из рядовых оперработников. Работавший до мая 1933 г. начальником Барнаульского оперсектора ОГПУ И. А. Жабрев был, как уже говорилось выше, переведён в Новосибирск на должность начальника СПО полпредства и сохранял свою новую, куда более ответственную, должность более трёх лет. И сам Алексеев, насколько известно, не был наказан и продолжал работать в Новосибирске ещё полтора года.
«Самодур с интеллигентским душком»
Полученные щелчки обязывали Николая Николаевича держать ухо востро и пресекать малейшие кадровые ошибки. А их хватало. В 1933 г. участковый комендант Тарской спецкомендатуры Сиблага ОГПУ Д. Ф. Нестеров – хозяин над тысячами раскулаченных – был разоблачён как скрывший своё происхождение. В приказе Алексеева от 11 декабря 1933 г. Нестеров фигурировал в качестве кулака, подлежащего немедленной «экспроприации».
Мстислав Ерофеев – уполномоченный ЭКО полпредства ОГПУ – активно участвовал в фабрикации «заговора в сельском хозяйстве», во главе группы оперативников курируя «вскрытие» его барнаульского филиала. По мнению своего начальника М. А. Волкова-Вайнера, Ерофеев показал себя не только хорошим чекистом, но и самодуром с «интеллигентским душком». Этот «душок», проявившийся в неподобающих разговорах, и сгубил активного чекиста. Летом 1934 г. на чистке М. И. Ерофеев был вычищен из партии как «сын крупного торговца, как двурушник (в тесном кругу товарищей вёл беспринципные разговоры о возникновении контрреволюционной организации в сельском хозяйстве как результате неправильной политики партии, одновременно старался прикрыть свои политические взгляды хорошим проведением следствия по этим группировкам), карьерист…»
Потом его восстановили, снова исключили, опять исключили-восстановили; летом 37-го он был окончательно изгнан из ВКП (б) за былую критику совхозов и связь с врагами народа. Во время чистки в 1934 г. исключили из партии и секретаря Секретно-политического отдела Д. К. Грищенко – «за скрытие соцпроисхождения из кулацкой среды, политическую пассивность и безграмотность»[92]92
ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-12097. Л. 34; ГАНО. Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 8. Л. 67; ЦДНИОО, Ф. 18. Оп. 2. Д. 14. Л. 507.
[Закрыть].
На исходе 1934 г. кадровики Алексеева разоблачили ещё одного пробравшегося в «органы» врага. Им оказался скрывший родственников-«кулаков» чекист немецкого происхождения Б. Кооп, в первой половине 30-х годов работавший начальником Немецкого райотдела ОГПУ-НКВД на Алтае. Он верно служил режиму и однажды попал в опасную ситуацию: при раскулачивании в с. Гальбштадт 2 июля 1930 г. вспыхнуло короткое и бескровное восстание, во время которого Коопа на несколько часов арестовали и взяли в заложники.
Но этот эпизод не помог ему в 1934-м, когда Коопа сделали козлом отпущения и разоблачили как затаившегося кулака: 23 октября на бюро райкома ВКП (б) в присутствии секретаря крайкома К. М. Сергеева и замначальника Особого отдела УНКВД ЗСК К. Ф. Роллера по постановлению крайкома «за бездеятельность в борьбе с саботажем хлебопоставок и отсутствие борьбы с кулацкими элементами» чекист был выведен из бюро, исключён из партии и снят с работы. Дополнительно его обвинили в кулацком происхождении и допущении некоего «предательства» в аппарате райотдела. Изгнанный из НКВД, Кооп не позднее лета 1938 г. был осуждён как участник «фашистской организации».
В 1934 г. сотрудники управления НКВД вскрыли истинную классовую сущность начальника Иконниковского райотдела ОГПУ-НКВД П. В. Воробьёва. Он, оказывается, происходил из богатых крестьян, служил добровольцем в белом карательном отряде И. Н. Красильникова, скрывал сведения о дяде – жандарме и участнике Муромцевского крестьянского восстания, расстрелянном в 1930-м. В 1932 г. чекист «допустил искривление ревзаконности, выразившееся в истязании людей в милиции»; также он имел ранее строгий партвыговор с предупреждением за незаконное приобретение оружия. В декабре 1934 г. Воробьёв был исключён из партии как чуждый элемент[93]93
ГАНО. Ф. П-175. Оп. 1. Д. 157. Л. 138, 140; Ф. П-3. Оп. 2. Д. 575. Л. 112 об., 192 об. – 193.
[Закрыть].
А вот нахальство начальника Купинского райотдела НКВД И. У. Абрамовича, попавшегося на шпионаже за партактивом, не вызвало негативной реакции у полпреда. В сентябре 1934 г. бюро Купинского райкома ВКП(б) отметило «исключительно антипартийный поступок» Ивана Абрамовича, «который, объективно пойдя по поводу слухов и клеветы обывательско-мещанских элементов», установил слежку за квартирами секретаря райкома, председателя райисполкома и начальника политотдела МТС с целью выявления фактов пьянства с их стороны.
Бюро заявило, что начальник райотдела неправильно информировал своё начальство и попросило Алексеева «разъяснить тов. Абрамовичу объекты слежки». Десять дней спустя полпред сообщил Эйхе, что все сообщения о скандальном поведении районного начальства подтвердились, а данных «о слежке со стороны Абрамович[а] не имею». Любопытного чекиста со временем просто перевели в другой райотдел.
Введение должностей заместителей начальников политотделов по работе ОГПУ-НКВД в совхозах и МТС обострило ситуацию с кадрами. В некоторых районах оказалось по семь-восемь таких чекистских заместителей, что очень заметно повлияло на рост численности оперсостава. Новое пополнение нужно было спешно обучать. Но прежде всего его надо было получить – во многом за счёт местных ресурсов. Крайком 27 августа 1934 г. по письму Алексеева постановил: «Учитывая крайне напряженное состояние с кадрами для управления НКВД по краю, поручить т.т. Волкову и Яскерович разработать порядок по проведению отбора работников для управления НКВД… в количестве 75 чел.». Месяц спустя крайкомом была утверждена разнарядка по мобилизации 75 чел. по районам края[94]94
Там же. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 369. Л. 61.
[Закрыть].
«Применял физическое воздействие»
О том, какая полицейщина процветала в чекистских рядах, говорит один красноречивый эпизод. Первомайской ночью 1933 г. чекисты с помощником начальника раймилиции ст. Тайга много часов наблюдали за подозрительным сборищем в доме машиниста Полицкого, семейство которого увлечённо играло в лото. Под утро они не выдержали и ринулись штурмовать дом: один выбил раму, влез в окно, выпалил в потолок и заорал: «Ложись!», другой ворвался в дверь. Как писал в ОГПУ и крайком секретарь райкома Чугунов, «конечно, всё перерыли, перепугали старых и малых, всех 8 чел. арестовали» и освободили только на следующий день. Проигнорировав вызов на бюро райкома, чекисты затем упрямо повторяли: «А зачем они собираются в квартире и трезвые сидят всю ночь?»[95]95
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 168. Л. 19; ГАНО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 8. Л. 111; Д. 5. Л. 63. Д. 8. Л. 167.
[Закрыть]
Любой арестованный считался заведомо виновным и подвергался жестоким допросам в случае отказа признать вину. А требовали признаний в том, что подследственный состоит в какой-либо заговорщицкой или хотя бы «вредительско-саботажнической» организации. Большинство чекистов служили ревностно и ради раскрытия очередной «организации» не жалели усилий. Тем более не жалели арестованных. Информация М. А. Клеймёнова о распространённости избиений арестованных в начале 1930-х гг. полностью подтверждается и материалами реабилитационных расследований 1950-х гг., и более ранними ведомственными проверками.
Пыточное следствие процветало и подчас самых «активных» приходилось осаживать. В июле 1932 г. были наказаны несколько сотрудников Анжеро-Судженского райгоротделения ОГПУ: особист Митрофан Соболев, сверхштатные уполномоченные Дмитрий Линов с Пантелеймоном Селивановым, а также Лазарев и Комосько. За участие в пытках арестованных 7 сентября 1932 г. Коллегией ОГПУ Соболев был осуждён на три года лагерей, но через 16 месяцев освобождён. Остальные получили по 15 суток ареста: Линов благополучно проработал в «органах» ещё 20 лет, Селиванова понизили до участкового коменданта, но одновременно он был избран в состав Анжеро-Судженской горКК ВКП (б), получив право вести следствие по проступкам коммунистов.
Череда наказанных за нарушения законности в первой половине 30-х годов весьма и весьма внушительна. Помощник уполномоченного Бирилюсского райаппарата ОГПУ Салопов «при допросе арестованного применял физическое воздействие» и пытался его застрелить при якобы «попытке к бегству». Раненный выжил, а Салопов в 1932 г. был арестован и отдан под суд Коллегии ОГПУ. Оперработник Барабинского райотдела ОГПУ С. Я. Труш в 1932 г. отделался 15-суточным арестом «за неправильные методы следствия»[96]96
РГАНИ, Ф. 6. Оп. 2. Д. 467. Л. 63; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 369. Л. 110; Ф. 911. Оп. 1. Д. 8. Л. 111; Д. 143. Л. 60; Ф. 1027. Оп. 8. Д. 57. Л. 113; Д. 22. Л. 19.
[Закрыть].
Оперативник Топчихинского райаппарата ОГПУ А. П. Предвечный также «отличился» при допросах арестованных. «За подтасовку материалов, запугивание обвиняемых… и насильственные незаконные действия» краевой суд в июле 1933 г. постановил привлечь зарвавшегося алтайского чекиста к уголовной ответственности. Но пять дней спустя за нарушения законности ему вынесли от полпредства административное взыскание… и Предвечный спокойно продолжил службу, постепенно продвигаясь наверх. Краевой суд, таким образом, остался при своём мнении, которое никого не интересовало.
Уполномоченный Мариинского райотдела ОГПУ Тимофей Соколов к 1933 г. получил за грубость девять взысканий (по одному за каждый год службы: три выговора и шесть арестов), оказавшись в итоге исключённым из ВКП (б) и уволенным – за грубость и угрозы при допросах, а также избиение милиционера. В марте 1934 г. прокурор Томского оперсектора ОГПУ передал на расследование в оперсектор материалы на сотрудников Тяжинского райотдела ОГПУ, которые вымогали признания, угрожая арестованным расстрелом «через 2 минуты». В конце 1934 г. в УНКВД имелись сведения об избиении арестованных в Шипуновском райотделе и присвоении чекистами их вещей[97]97
АУФСБ по НСО. Д. П-17386. Т. 7. Л. 499–504.
[Закрыть].
В апреле 1934 г. аппарат особоуполномоченного составил обвинительное заключение на группу оперработников Старобардинского райаппарата ОГПУ: П. Ф. Рябова, В. И. Бужерю, И. А. Леонтьева и заместителя начальника политотдела маслосовхоза № 171 по оперработе Г. А. Михайлова. В 1933-м они ударно выполняли особо важное поручение начальства – найти тех, кто хранит у себя золотые изделия, и добиться полного изъятия ценностей. Для этих целей начальники райаппарата Рябов, а затем и Бужеря использовали неотапливаемый сырой подвал и конюшни, где неделями держали алтайских крестьян, заподозренных в утаивании ценностей.
Они арестовывали без санкции прокурора и издевались как могли: допрашивали целыми днями, не давали хлеба и воды, избивали. Особенно усердствовал уполномоченный Иван Леонтьев – новичок, работавший в ОГПУ с 1932 г. и отчаянно старавшийся выслужиться. Так, в августе 1933 г. по подозрению в хранении золота были арестованы три человека, в том числе М. Бжицкий и В. Чашалов – старик 85 лет. Их держали в подвале на голой земле, а на допрос Леонтьев волок их за бороды. Устав бить, Леонтьев приказывал арестантам самим хлестать друг друга по щекам. Начальник райаппарата Павел Рябов, грозя застрелить, наставлял на Бжицкого ружьё.
Не выдержав, Бжицкий «признался», что золото у него есть и хранится в подвале. Леонтьев сделал обыск и, ничего не найдя, избил Бжицкого, а потом за ногу выволок несчастного во двор здания райаппарата. Тот, не в силах идти, на четвереньках кое-как дополз до арестного помещения. Проведя несколько дней без питья, Бжицкий у каких-то рабочих выпросил воды, напился и сразу почувствовал себя плохо. Его поспешили освободить и Бжицкий, привезённый домой, умер на следующий же день. Также Леонтьев и Рябов запугивали расстрелом С. Иванову, подозревавшуюся в хранении «кулацких вещей».
Г. А. Михайлов в декабре 1933 года пьяным вызвал на допрос гражданку Суртаеву и, требуя золото, сначала выбил ей зуб, а потом оглушил, ударив рукояткой нагана. Тут присутствовавший при допросе начальник райаппарата Владимир Бужеря сказал, что так делать нельзя. Тогда Михайлов отвёл Суртаеву в ледяной подвал, избил и, забрав одежду, оставил сидеть в одном белье. Бужеря с Леонтьевым также мародёрствовали, отобрав у арестованных ботиночную кожу и самовар. Чекисты признали свою вину. Только Леонтьев отрицал факт мародёрства, заявив, что Рябов как начальник просто разрешил ему взять кое-что из чужого имущества.
Из Новосибирска обвинительное заключение было направлено в Коллегию ОГПУ, которая в мае 1934 г. вполне снисходительно осудила Рябова на два года лагерей. О привлечении к уголовной ответственности остальных сведений нет, но, вероятно, их ждала сходная участь [98]98
ЦДНИОО. Ф. 14. Оп. 2. Д. 53. Л. 233; ЦДНИТО. Ф. 206. Оп. 1. Д. 18. Л. 122–123; АУФСБ по НСО. Д. П-6352. Л. 23, 42.
[Закрыть].
В остальных оперативных подразделениях творились аналогичные преступления. Работавший в Омском оперсекторе ОГПУ С. А. Тихонов не позднее мая 1934 г. Коллегией ОГПУ был осуждён на 10 лет концлагеря за «грубое нарушение революционной законности». Чтобы получить такой срок, нужно было совершить нечто весьма выдающееся. Помощник поселкового коменданта Тельбесского спецпосёлка (Кузбасс) Сиблага Шестопалов в конце 1932 г. избил и изнасиловал ученицу. Был арестован, но вскоре освобождён и в итоге отделался партвыговором. Несколько менее повезло Г. Ф. Крекову – коменданту того же Тельбесского спецпосёлка Сталинской райкомендатуры ОГПУ. За дебош и попытку изнасилования трудпоселенки он был исключён из партии Горно-Шорским РК ВКП (б), а в октябре 1933 г. краевая контрольная комиссия постановила привлечь Крекова к уголовной ответственности.
Алексеев прекрасно знал, как работают его подчинённые и старался взыскивать только с тех, кто не мог хорошо скрывать свои преступления. Некоторые наказания выглядели именно острасткой. Так, когда прокуратуре стало известно, что оперативник СПО В. А. Парфёнов, участвовавший в фабрикации дела о терроризме на троих новосибирских студентов техникума, угрожал одному из арестованных расстрелом, полпред в сентябре 1933 г. велел его символически арестовать на трое суток с исполнением служебных обязанностей[99]99
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 206. Л. 130; Оп. 2. Д. 395. Л. 44.
[Закрыть].