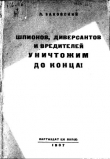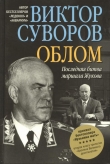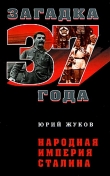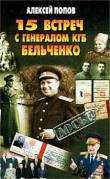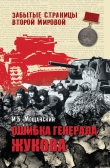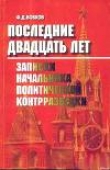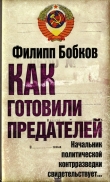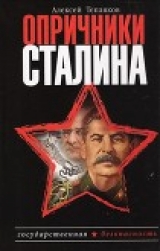
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
«У вас слабые нервы…»
Об авторитете Миронова среди его коллег говорит тот факт, что в Новосибирск из Москвы был доставлен легендарный строитель Турксиба Владимир Шатов, категорически отказывавшийся давать показания («за вызывающее поведение на следствии» в Москве ему дали пять суток карцера). Миронов хорошо знал В. С. Шатова по работе в Казахстане и, по свидетельству Агнессы Мироновой, специально встретился с заключённым. Наверняка Шатов заверял чекиста в своей невиновности, но после этой встречи инженера-строителя особенно активно «взяли в работу».
Мироновские «орлы» – их было несколько, включая одного из самых эффективных следователей управления НКВД Я. А. Пасынкова – с мая 1937 г. усиленно допрашивали Шатова как японского шпиона, стараясь пристегнуть к «заговору» бывшего алтайского партизанского командира И. Я. Третьяка, ибо Шатов до революции, как и Третьяк, жил в США, но не добились ничего. Лишение сна и пищи не помогло. Так и не сломленный Шатов (за «антисоветское поведение на допросе», выразившееся в попытке ударить следователя стулом, его снова посадили в карцер, теперь уже на 20 суток) был расстрелян 11 октября 1937 г. за некую «националистическую деятельность»[237]237
Павлюков А. Е. Ежов. Биография. – М., 2007. С. 288–291.
[Закрыть].
Политическая обстановка Мироновым понималась правильно, несмотря на определённые маскировочные шаги, предпринимавшиеся его патроном. Известно, что Ежов в своём выступлении на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) формально отмежевался от практики массовых арестов как «изжившей» себя. При этом он ссылался на статистику арестов 1935 и 1936 гг., из которой следовало, что 80 % арестованных органами НКВД привлекались не по политическим делам, а за бытовые и должностные преступления, хулиганство, мелкие кражи и т. п.
Однако пафос выступлений на пленуме был вполне однозначным, а его инструкции, адресованные НКВД, требовали усиления репрессий. Слова Ежова были поняты правильно: нужно арестовывать прежде всего не уголовников, а «врагов народа», и побольше. Поэтому сразу после февральско-мартовского пленума Миронов стремительно бросился фабриковать огромные дела, заметные в союзном масштабе. Начальники УНКВД тех регионов, где также концентрировалась крестьянская ссылка (Северный край, Урал, Казахстан) не догадались сочинить дел, масштабом напоминавших пресловутое дело «РОВСа». Здесь Миронов оказался передовиком. Обладавший верным чекистским чутьём, он не ограничился РОВСом, а решил представить Ежову материалы о разветвлённом заговоре в краевом руководстве, обеспечив в мае-июне 1937 г. «выход» и на партийно-советскую верхушку, и на военных, и на самих чекистов.
После того как сменивший Каруцкого В. М. Курский буквально за несколько недель разоблачил «троцкистский центр» и представил семерых сибиряков на большой московский процесс «Антисоветского террористического центра» (где главными фигурантами были Пятаков, Радек, Сокольников и Муралов), Миронов должен был сочинить нечто не менее выдающееся. Награда обещала быть королевской, ибо начавшаяся чистка НКВД от кадров Ягоды освобождала множество вакансий.
Пример В. М. Курского показывал, что отличившийся местный начальник мог рассчитывать на место руководителя отдела в центральном аппарате НКВД с последующим выдвижением на пост замнаркома (правда, этот пример имел и обратную сторону – уже в июле 1937 г. свежеиспечённый ежовский заместитель Курский, которому Сталин вдруг предложил занять пост наркома внутренних дел, счёл за благо покончить с собой).
Однако Миронов не сразу стал чемпионом по масштабам репрессий. Его показания на следствии наглядно говорят о том ежовском давлении, которое на рубеже 1936–1937 гг. испытывали региональные начальники НКВД. Сразу после его приезда в Новосибирск в начале декабря 1936 г. Миронову стал ежедневно звонить начальник Секретариата союзного НКВД Я. А. Дейч, заявляя, «что все края и области развёртывают дела, а Западная Сибирь после отъезда Курского «спит», что Николай Иванович [Ежов] недоволен этим». Дейч утверждал, что начальник Ленинградского УНКВД Л. М. Заковский, начальник УНКВД по Свердловской области Д. М. Дмитриев, начальник УНКВД по Азово-Черноморскому краю Г. С. Люшков и другие дают развёрнутые «блестящие дела». В Новосибирск поступали вороха копий протоколов допросов из других регионов и центрального аппарата, причём «преимущественно показания рассылались те, по которым якобы вскрывались антисоветские группировки и организации внутри парторганизаций».
Миронов, прибыв на февральско-мартовский пленум ЦК 1937 г., встретился с Ежовым и заявил ему, что «Курский и, особенно, Успенский втянули почти весь оперативный аппарат в фабрикации фиктивных протоколов и создали такое положение, когда действительные дела по серьёзной контрреволюции невозможно расширять, т. к. неизвестно, по кому будешь бить, ибо с ними переплетены «липовые» дела на совершенно невинных людей. Ежов мне на это ответил: «У вас слабые нервы, надо иметь нервы покрепче. Успенский и Курский достаточно себя зарекомендовали, и западносибирский аппарат – самый здоровый. Наоборот, мы у вас заберём много людей, переросших уже рамки начальников отделов, и возьмём их на выдвижение…»».
А Фриновский, выслушав тогда же Миронова, заявил: «Что ты занимаешься философией и ревизией дел – это не в почёте, и Николай Иванович справедливо недоволен. Ты уже не новый начальник в Западной Сибири, и пора уже показывать товар лицом. Сейчас темпы такие, когда надо показывать результаты работы не через месяцы и годы, а через дни». Он спросил меня, понимаю ли я, что теперь нужно. Я ответил, что понимаю»[238]238
Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области. Вып. 1. – Новосибирск, 2005. С. 421–423.
[Закрыть]. Вернувшись в Новосибирск, Миронов немедленно стал готовить дела о «правотроцкистском заговоре» в руководстве края и организации РОВСа.
Выступая на пленуме Запсибкрайкома ВКП (б), Миронов 17 марта 1937 г. каялся за то, что чекисты проспали активность врагов и объяснял это тем, что в 1928–1932 гг. «органы» действовали методами «массовых операций», отчего «растеряли значительную часть своей агентуры, приобрели же навыки поверхностной борьбы с контрреволюцией, у нас тогда был термин «стричь», и мы «стригли» контрреволюцию; глубокие же корни контрреволюции мы уже и в тот период не вскрыли… Несмотря на то, что мы специально, исторически созданы для борьбы с классовым врагом, эта успокоенность секретного аппарата немножко испортила нас… у многих вскружились головы; всё это привело к загниванию отдельных работников…[…] Мы сняли 11 террористических групп троцкистов, 3 террористические группы правых, ставивших перед собой задачу совершения терактов над Робертом Индриковичем [Эйхе] и над теми членами правительства и Политбюро ЦК ВКП (б), которые будут приезжать в Западную Сибирь.
[…] Мы посадили 28 чел. своих сотрудников по краю, связанных с троцкистами, непосредственно троцкистов или правых… Мы посадили Третьяка – бывшего командира Алтайской партизанской дивизии; посадили и небольшую группу его командиров… Третьяк по заданию японцев должен был создать автономную республику, в которую входили бы: Хакасия, Тана-Тувинская республика, Ойротия, Монголия – автономная республика японской ориентации… Правые у нас очень сильны, сильны, как подпольная организация… наиболее сильная группа правых была в Крайплане и Сталинске. Я вам, товарищи, могу откровенно сказать, что мы только начали по существу борьбу с правыми; мы в значительной мере не добили троцкистов. […] У нас имеется 11 районов… там установлены группы правых, куда входит большая часть руководящего состава райисполкомов. […] Почти нет таких организаций в крае, я их перечислю, где не были бы вскрыты троцкистские организации, правые и эсеры… в числе арестованных… имеется 68 руководителей учреждений и организаций…»[239]239
АУФСБ по НСО. Д. П-5030. Т. 3. Л. 15.
[Закрыть]
Ощущая давление со стороны своего покровителя Фриновского, Миронов на исходе весны 1937 г., арестовав сначала всех отбывавших ссылку эсеров и меньшевиков, одновременно форсировал минимум полдесятка масштабных дел: ликвидацию «ровсовского заговора», призванную разгромить всех «бывших»; ликвидацию «правотроцкистского заговора» в среде руководства Запсибкрайкома ВКП (б) и крайисполкома, «военно-фашистского заговора» в СибВО (в конце мая 1937 г. Миронов лично допрашивал бывшего сибирского военного Е. М. Косьмина-Увжия, специально этапированного в Новосибирск с Северного Кавказа[240]240
Там же. Д. П-3659. Л. 43.
[Закрыть]); а также массовые дела «контрреволюционеров-сектантов» и бывших красных партизан. Эти дела стремительно захватили руководителей предприятий, включая крупнейшие военные заводы, городское и сельское партийно-советское начальство, интеллигенцию, а также многие тысячи рядовых граждан.
Таким образом, Миронов мог считать себя человеком, с опережением шедшим в правильном направлении во всём, что касалось репрессий. С местным руководством в лице властного Эйхе (привыкшего к большой самостоятельности) Миронов также смог поладить – больше методом кнута, чем пряника. Пряником были ритуальные упоминания о подготовке терактов над Эйхе, которые выбивались из большинства «террористов», кнутом – давление, в том числе с помощью директив союзного НКВД, с целью получить санкции на арест номенклатурных чиновников, нередко относившихся к ближайшему окружению первого секретаря.
Эйхе порой сопротивлялся, звонил в Москву с жалобами на Миронова и его подручного С. П. Попова, ведь каждый арестованный сотрудник краевого аппарата был знаком кадровой недобросовестности Эйхе. Надо полагать, в ЦК предпочитали слушать чекистов, а не Эйхе. И в итоге секретарь крайкома налагал однообразные резолюции: дескать, с арестом такого-то члена бюро крайкома согласен. А люди Миронова сочиняли очередной заговор против Эйхе, обвиняя арестованных в том, что они при посещении первым секретарём театра планировали уронить ему на голову стальную балку весом два с половиной центнера, обёрнутую в целях маскировки «куском сценичного полотна»…[241]241
Тепляков А. Г. Процедура: Исполнение смертных приговоров в 1920 – 1930-х годах. – М., 2007. С. 62.
[Закрыть]
Воспитание чекистов
В отношении своих кадров Миронов также оказался сторонником классической политики кнута и пряника. Многих оперативников, согласных на масштабные фальсификации, он выдвинул на руководящие должности, добился выделения им множества наград и званий. Мироновские замы и начальники отделов – Григорий Горбач, Серафим Попов, Дмитрий Гречухин – уже летом и осенью 37-го возглавили управления НКВД в Омске, Барнауле и Красноярске.
Горбач был особенно жестоким чекистом: прибыв в Омск, он сразу добился от Ежова и Сталина увеличения расстрельного лимита для тройки в 9 (!) раз. Получив после отъезда Миронова в свои руки УНКВД по Запсибкраю, которое в чекистском соревновании по числу арестованных и раскрытых «контрреволюционных организаций» к тому времени вышло на второе место по СССР, Горбач почти год усиленно наращивал террор – так, что его подчинённые не всегда успевали закапывать трупы расстрелянных[242]242
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 249, 252, 282; АУФСБ по НСО. Д. П-3964. Л. 1-170.
[Закрыть]. Оказавшись на излёте карьеры в Хабаровске, он успел расстрелять на Дальнем Востоке тысячи и тысячи людей. Впрочем, и Попов с Гречухиным старались не отставать от Горбача, заработав на массовом терроре сначала ордена и депутатские звания, а потом – и неизбежную пулю в затылок.
Из других мироновских выдвиженцев можно отметить М. И. Голубчика и А. С. Скрипко, делавших карьеру в Отделе контрразведки, И. Я. Бочарова, возглавившего «органы» в Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области, В. Д. Монтримовича, назначенного начальником Кемеровского горотдела УНКВД, А. Р. Горского, ставшего помощником начальника СПО. Бывший разведчик и особист А. П. Невский стал начальником Транспортного отдела ГУГБ НКВД Томской железной дороги, а его заместителем был назначен старый чекист-транспортник Г. М. Вяткин.
Головной болью для Миронова стало назначение в Сибирь бывшего коменданта здания правительства в Кремле А. Б. Данцигера, потерявшего должность после доносов и спроваженного подальше от Москвы. В ноябре 1936 г. Данцигер был снят с кремлёвской должности в связи с обвинениями в неблагонадёжности и скрытии происхождения. С января 1937 г. он работал врид начальника Отдела охраны УНКВД по Запсибкраю, а затем возглавлял оперативно-чекистский отдел УИТЛК. За несколько дней до своего отъезда Миронов приказал арестовать Данцигера – по полученным из Москвы материалам – за былую связь с осуждёнными «шпионами»: помощником инспектора адморгуправления полпредства ОГПУ по Московской области М. А. Капустиным (своим подчинённым в Москве, расстрелянным в ноябре 1933 г.) и учёным секретарём наркомтяжпрома СССР П. В. Шаровым[243]243
Без грифа «секретно». Сост. И.Н. Кузнецов. – Новосибирск, 1997. С. 135, 136, 139, 146–154; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 804. Л. 1.
[Закрыть].
В мае 1937 г. по инициативе партруководства Ойротской АО Миронов заменил руководство местного НКВД. За недостаточное рвение в разоблачении «врагов народа» были сняты начальник облуправления Г. А. Линке, начальники отделов Я. А. Пасынков и А. А. Романов. Линке оказался убран с оперативной работы, а Пасынков с Романовым, сделав нужные выводы, стали вскоре активистами «Большого террора»[244]244
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 251–252; Тепляков А.Г. Портреты сибирских чекистов… С. 91; ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-5700. Т. 7. Л. 130.
[Закрыть].
Весной 1937 г. Миронов выделил передовые отделы управления – СПО и КРО, а также подверг критике руководство Транспортного и Особого отделов. Транспортный отдел много занимался охраной грузов, и эти чисто милицейские функции мешали ему как следует взяться за врагов народа. На оперсовещаниях транспортников их коллеги прямо называли «не чекистами, а недоразумением». Ряд подразделений этого отдела действительно забросили оперативную работу: так, работники отделения ДТО станции Новосибирск занимались только обеспечением охраны грузов.
Начальник управления и его заместитель Г. Ф. Горбач 13 мая посетили Транспортный отдел и остались, по словам последнего, очень недовольны расслабленностью работников, которых возглавлял бывший разведчик и особист А. П. Невский: «в 12 часов ночи мы не встретили не только сотрудников, но не нашли даже и ключей от комнат… в самом аппарате, как заявил т. Миронов, неразбериха». В ответ замначальника Транспортного отдела Г. М. Вяткин сокрушённо признал, что три десятка следователей за последний месяц от «массы арестованных» получили всего 22 протокола признательных показаний, поскольку явно «самоуспокоились после троцкистского дела», успешно проведённого ранее. Вскоре Невский, учтя критику Миронова, развернул аппарат чекистов-транспортников на самые широкие репрессии.
Гораздо суровее Миронов в той же середине мая отнёсся к особистам, возглавляемым помначальника управления М. М. Подольским. Того никак нельзя было отнести к мягким чекистам: в бытность начальником Томского горотдела НКВД он активно фабриковал крупные дела, а работая в Особом отделе СибВО, мог вбежать в кабинет к следователю с криком: «Дайте ему (арестованному – А. Т.) вёдерную клизму!» Но Подольский и его заместитель А. Н. Барковский оказались, по мнению Миронова, совершенно беспомощными при вскрытии военного заговора в СибВО. Ликвидировать контрреволюцию в аппарате и частях округа было обязанностью именно особистов, а они, не имея достаточно агентуры в офицерской среде, фабриковали в основном дела на рядовых военнослужащих, что категорически не устраивало Миронова.
Из-за слабости позиций Особого отдела основные следственные действия с арестованными командирами СибВО были поручены начальнику СПО С. П. Попову и его лучшим подчинённым вроде Г. Д. Погодаева, К. К. Пастаногова и М. И. Длужинского. Миронов, оценивший усердие Попова в фабрикации крупных дел, назначил его врид начальника Особого отдела и отправил особистов на стажировку к следователям СПО. (Несколько недель спустя – после назначения Попова начальником Барнаульского оперсектора НКВД – куратором особистов стал глава Контрразведывательного отдела Д. Д. Гречухин.)
Шаг с передачей аппарата особого отдела в руки Серафима Попова полностью себя оправдал: основные следователи СПО быстро добились признания со стороны военных в заговорщицкой деятельности. Сталин и Ежов по достоинству оценили усердие сибиряков: в начале июля 1937 г. большая группа работников УНКВД была награждена орденами. Миронов, а также уже покинувшие Сибирь Курский и Успенский как руководители получили ордена Ленина, остальные семь чекистов – Красной Звезды и Знак Почёта. С. Попов, узнав, что его представили к ордену Красной Звезды, устроил сцену Миронову, потребовав себе более высокую награду. И Миронов уступил, в результате чего Попов, как и сам начальник управления, получил орден Ленина[245]245
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 703. Л. 99; Д. 825. Л. 13; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 74. Л. 162; АУФСБ по НСО. Д. П-8918. Л. 426; Д. П-2553.
[Закрыть]. 5 июля краевая «Советская Сибирь» вышла с портретами десяти чекистов-орденоносцев на первой полосе.
«Я ненавижу эту работу…»
Одновременно с ростом карьер отличившихся оперативников, начиная с конца 1936 г., шел процесс непрерывной очистки рядов от сомнительных элементов. Чекистов обычно изгоняли за неподходящее происхождение, службу в армии Колчака, критические разговоры, бытовую связь с репрессированными лицами и пьянство. Так, оперативник Транспортного отдела С. А. Гудзенчук в начале 1937 г. был уволен из НКВД как «морально разложившийся» и «чужак», арестован и осуждён на полтора года заключения (с заменой на условное наказание) за дискредитацию власти и «расконспирацию методов работы органов НКВД». Тогда же были изгнан из «органов» спившийся начальник оперпункта НКВД ст. Белово М. М. Галушкин и начальник Белоглазовского РО УНКВД Л. С. Михайликов – как «пробравшийся враг», скрывший родственника-попа.
Миронов решительно продолжил линию своего предшественника В. М. Курского на аресты тех работников, которых можно было бы обвинить в связях с злейшими врагами партии – троцкистами. Таких оказалось немало. Сразу после приезда Миронов раскритиковал своих подчинённых за медлительность в раскрытии «заговоров» и поставил задачу энергично выявлять «троцкистских шпионов и предателей» среди тех, чьи биографии давали повод для нужных «зацепок».
В январе 1937 г. за плохую работу по выявлению врагов и антисоветскую агитацию был арестован и затем осуждён начальник Венгеровского РО НКВД Д. И. Надеев. В феврале были арестованы за былые симпатии к троцкизму особист Г. Л. Кацен и работник СПО Б. И. Сойфер. Арестованный в Барнауле за служебные преступления (пьянство, расконспирация, связь с врагами народа) активный особист Н. М. Толочко был весной 1937 г. разоблачён как скрытый антисоветчик и осуждён на 7 лет заключения. Начальник Барзасского РО УНКВД С. М. Вакуров был арестован в мае или июне 1937 г. как «злейший троцкист» и год спустя умер в тюрьме. Оперативника Отдела пожарной охраны УНКВД С. Ф. Мочалов арестовали 17 июня 1937 г. и осудили за «шпионаж» на 20 лет лагерей[246]246
Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири… С. 492–493.
[Закрыть].
Фактической чисткой аппарата управления стало грандиозное закрытое партсобрание, длившееся 16 апреля и с 18 по 21 апреля 1937 г. Прямо на этом собрании был арестован (а впоследствии расстрелян) оперативник аппарата особоуполномоченного А. И. Вишнер. После хора обвинений в том, что он в 1924 г. перебежал румыно-советскую границу с вражескими целями, Вишнер потерял самообладание: «Решать судьбу людей под впечатлением, экспромтом, не разобравшись как следует, нельзя. […] Я ничего не путаю… Что вы искусственно пришиваете дело? Что вы из меня искусственно хотите сделать врага?»
В ответ прозвучала реплика с места: «За оружие не хватайся». Тут же оперативник Д. Т. Кононов, который только что был отведён при голосовании в члены парткома после заявления коллеги о том, что Кононов «в отдельной папочке» хранит свои «антипартийные» газетные статьи (в 1944 г. Кононова за пыточное следствие осудят на 10 лет), заявил: «Мы все видели, как Вишнер, выйдя из себя, оскорбляя собрание, хватался за оружие. Предлагаю президиуму изъять оружие у Вишнер[а]»[247].247
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 249; АУФСБ по НСО. Д. П-568. Л. 15, 24; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 74. Л. 162; Ф. П-460. Оп. 1. Д. 2. Л. 22, 52–56; Д. 326. Л. 11, 12.
[Закрыть]
В том же апреле 1937 г. были исключены из компартии бывшие начальники отделений КРО в Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком М. И. Ерофеев и Э. А. Фельдбах. Первый поплатился за давнюю критику совхозов и «связь с врагом народа», второй – «за двурушничество и происхождение из белогвардейской семьи». Прежние заслуги не помогли; так, по словам врид начальника Отдела кадров УНКВД Г. И. Орлова, несмотря на «хорошую ведомственную работу по борьбе с врагами народа, у Ерофеева были всё время колебания…»[248]248
ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-12276. Л. 59.
[Закрыть]
Среди многих чекистов, особенно в начальный период массовый операций, было заметно неверие в дела, фабрикуемые их коллегами-передовиками. Не все оперработники были психологически готовы к «массовым операциям», даже имея за спиной такие масштабные фальсифицированные дела, как пресловутые «заговоры» 1933 г. Еще до июльских повальных арестов, с которых началось репрессирование всех тех лиц, которые находились в агентурной разработке или хотя бы проходили по учётам, некоторые чекисты показали себя либо «примиренцами», либо недостаточно расторопными следователями, не торопящимися применять «новые» методы следствия, хорошо, впрочем, известные многим оперработникам. Те, кто умело скрывал физические меры воздействия и добивался с их помощью требуемых результатов, обычно получали поощрения. Колебания своего аппарата Миронов пресекал с корнем, арестовав многих неблагонадёжных.
Часть чекистов понимала, что служит беспощадной карательной системе, и пыталась покинуть «органы» задолго до начала «массовых операций». Вот характерные выдержки из дневника помощника оперуполномоченного Усть-Калманского РО НКВД Евдокима Васильева, обнаруженного во время его ареста 12 марта 1937 г.:
Декабрь 1935 г. «При допросе одного из арестованных по делу хищения хлеба он ответил: «У меня 6 душ семьи, на трудодни в нашем колхозе ничего не досталось, поэтому я вынужден был пойти на преступление украсть хлеб». С его аргументами я вполне согласен. На его месте я так же бы поступил. Преступление мы ростим сами, потом с ним боремся».
«С тех пор как у меня по недоразумению задержали партбилет, с тех пор как пришлось мне переехать в Москву учиться, я дрянно очень дрянно чувствую себя. Всё перевернулось вверх дном. Всё пошло оборвалось в какой-то омут. Мне стало страшно, всё [стало] ненужное. То, что я считал святыней, оно стало для меня отвратительно, я ненавижу эту работу и тех, кто работает [в НКВД].
На днях подал рапорт, в котором настаиваю о моём увольнении, но кажется, это будет безрезультатно. Ах, как бы я желал, чтобы удовлетворили мою просьбу. Моё (особенно за последнее время) мировоззрение далекое от того, где я стою. Поэтому, только поэтому я должен уйти». Е. А. Васильев был осуждён за антисоветскую агитацию и впоследствии погиб в заключении[249]249
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 252–253; ГАНО. Ф. П-460. Оп. 1. Д. 224. Л. 31; Д. 2. Л. 37, 38, 55, 56, 141–142.
[Закрыть].
Особенно беспокоили начальство случаи открытого отказа участвовать в фабрикации дел. Оперуполномоченный КРО Сталинского горотдела НКВД Е. А. Смоленников был в апреле 1937 г. арестован после того как прекратил дело на семерых финнов, обвинявшихся в шпионаже, и заявил своему непосредственному начальнику И. Б. Почкаю о несогласии с фабрикацией дел. На общем партсобрании один из коллег перечислил «преступления» Смоленникова в следующем порядке: «На негласную работу в аппарат НКВД он тащил врагов народа. Ряд дел, которые он вел, сводил на нет. […] Говорил, что следователи не должны требовать признания от врагов». Хотя Смоленникова быстро осудили на 8 лет лагерей, для начальства его протест стал опасным сигналом.
Однако и после арестов некоторые оперработники проявляли порой «оппортунизм» в следствии. В июле-августе 1937 г. на партсобраниях в КРО и УГБ УНКВД обстоятельно разбиралось дело опытного оперативника А. В. Кузнецова, чье поведение стало настораживать начальство ещё с ноября 1936 г., когда он заявил М. И. Голубчику, что некоторые следователи «нечестно поступают» с арестованными и «записывают в протоколы больше, чем они сами показывают». Затем Кузнецов о том же самом заявил парторгу КРО С. И. Плесцову.
Коллеги же упрекали Кузнецова в том, что он не доводит следственные дела до конца, не смог добиться «признаний арестованных по Кемеровскому химкомбинату, которых добился молодой работник Деев». Кузнецов, имевший несколько наград за былое участие в фабрикации серьёзных дел, оправдывался как мог: «От других арестованных я добился признания о созданных ими повстанческо-диверсионных группах на транспорте, в Бийске, в Ойротии, на Чуйском тракте. Все трое они мне дали показания больше чем на 40 человек. Все же сделал я по сравнению с другими меньше».
Для лета 1937 г. подобные темпы разоблачения «врагов», действительно, были уже неудовлетворительны. Миронов подытожил: «…Боролся ли Кузнецов вообще с врагами народа? Боролся, но в этой борьбе у него ноги дрожали. …Враг прикинется божьей овечкой, у Кузнецова же ноги крепко не стоят, он и колеблется. […] Настроения у отдельных работников о неверии в проводимые дела есть. Кузнецов оказался рупором у засоренной части работников, поддался этим настроениям…» В итоге партком вынес Кузнецову строгий выговор с предупреждением за «оппортунистические колебания, выразившиеся в проявлении элементов неверия в виновность врагов народа» и предложил 35-летнему Кузнецову, усиленно жаловавшемуся на болезненное состояние, уйти на пенсию[250]250
ГАНО. Ф. П-460. Оп. 1. Д. 2. Л. 101; АУФСБ по НСО. Д. П-12265. Л. 1; Д. П-8918.
[Закрыть].
Логика репрессий требовала жертвоприношений и в собственно чекистской среде. Заговорщицкие организации одна за другой начали вскрываться среди работников (чаще второстепенных) самого управления НКВД. Чекистов «пристёгивали» к разным шпионским организациям, обычно представляя их поставщиками наисекретнейших сведений из аппарата госбезопасности – об арестах, кадрах, агентуре. Особенно легко арестовывали чекистов, родившихся в Прибалтике, Польше, Германии. Обилие в их биографиях щекотливых моментов делали работников госбезопасности нерусского происхождения верными кандидатами на арест.
В мае-июне 1937 г. аппарат СПО вскрыл повстанческо-диверсионные организации в Отделе трудовых поселений и Торгово-производственном отделе УНКВД. Впереди были аресты многих оперативных работников основных отделов, а также периферийных чекистов, но основная их часть была репрессирована уже после Миронова. К середине 1937-го «допросы третьей степени» применялись очень широко. Красноречиво выглядит заявление 21 августа замначальника Отдела кадров УНКВД Г. И. Орлова: «Дальше мы должны отметить как позорный факт это то, что у следователей, работающих со шпионами, эти шпионы выбрасываются из окон. Это говорит за потерю бдительности чекистами-коммунистами». Здесь, скорее всего, имелся в виду случай с чекистом Б. И. Сойфером, который 3 августа 1937 г. выбросился из окна кабинета следователя (ему посчастливилось выжить после падения с третьего этажа, отделавшись переломом позвоночника)[251]251
АУФСБ по НСО. Д. 3282. Л. 1, 8, 186, 187.
[Закрыть].
Одновременно Миронов довольно строго наказывал тех чекистов, которые попадались на пыточном следствии и других явных нарушениях законности, особенно если информация об этом выходила за пределы края. Так, письма крестьян, которых пытали в Карасукском райотделе НКВД в 1936–1937 гг., достигли контролирующих инстанций в Москве, и Особоуполномоченный НКВД СССР В. Д. Фельдман велел Миронову разобраться. В результате начальник райотдела А. П. Черемшанцев и его помощник И. И. Пилипенко за жестокие избиения и издевательства над арестованными по 58-й статье (ими набивали комнату и держали на ногах без еды и воды по несколько дней, иногда больше недели) были осуждены на пять и три года лагерей соответственно. В деле были сведения, что Черемшанцев периодически содержал на своей квартире и поил без устали работников спецколлегии краевого суда во главе с бывшим чекистом М. И. Жучеком, которые затем штамповали приговоры по делам, подготовленным РО НКВД, но этот эпизод чекисты расследовать не стали…[252]252
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 250; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 828. Л. 30.
[Закрыть]
Работник оперпункта НКВД ст. Болотное П. К. Клоков в марте 1937 г. с трудом избежал уголовной ответственности за принуждение свидетелей к нужным ему показаниям. В мае начальник Каргатского РО НКВД П. М. Тетерин жаловался в письме Миронову на 10-суточный арест: без согласования с УНКВД Тетерин взял под стражу зоотехника Ларичева, а тот покончил с собой. Обиженный наказанием чекист просил уволить его из «органов», на что получил резкий ответ Миронова, который, впрочем, пообещал: «Исправьте недочёты, и я отменю взыскание». В том же мае 1937 г. бюро крайкома заслушало письмо Миронова о нарушениях законности судебно-следственными работниками Барабинского района и постановило направить в район прокурорскую проверку[253]253
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 247; ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 459. Л. 3-23, 24, 44, 47; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 28. Л. 2–4; Д. 74. Л. 166.
[Закрыть].
Миронов активно противодействовал попыткам прокуратуры войск НКВД проявлять либерализм в отношении арестованных чекистов. При этом он заново отправлял в тюрьму как «антисоветчиков», так и нарушителей законности. Начальник особого отделения оперчекотдела УИТЛК С. М. Новицкий в 1936 г. сфабриковал дело о шпионаже на шестерых заключённых, у которых полгода, «всячески издеваясь», вымогал признания. В начале 1937 г. он был освобождён военной прокуратурой из-под стражи, но уже в феврале оказался вновь арестован в связи с протестом С. Н. Миронова перед Прокурором СССР и в итоге получил 10 лет заключения.
Оперативник Барнаульского ГО УНКВД А. М. Максимов, арестованный ещё в сентябре 1936 г. за хранение дома секретных документов (личные и рабочие дела агентуры, дела-формуляры на ссыльных оппозиционеров) и антисоветскую агитацию, был оправдан по политической статье. В январе 1937 г. его освободили как отбывшего наказание за время содержания под стражей. Но по настоянию УНКВД приговор был опротестован, а Максимов возвращён в тюрьму. Несмотря на то, что в июне 1937 г. прокуратура вновь прекратила дело, Максимов не был освобождён и в конце концов по ст. 58–10 УК получил 5 лет ИТЛ[254]254
РГАЭ. Ф. 8153. Оп. 3. Д. 124 (л. д.); ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 74. Л. 169–170; Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 93. Л. 193.
[Закрыть].
Многие чекисты за полгода мироновского руководства были изгнаны и осуждены за различные служебные злоупотребления. Многолетний начальник АХО УНКВД В. С. Григорьев был обвинён в развале работы Томской трудкоммуны (7 млн руб. убытка в 1936 г.) и в конце 1936 г. арестован. В 1937-м он был освобождён, но вскоре вновь арестован, осуждён за служебные преступления на 3 года лагерей и работал начальником отделения Горшорлага НКВД[255]255
Алексеев В.В. Гибель царской семьи: мифы и реальность. – Екатеринбург, 1993. С. 53–82; Яковенко М.М. Агнесса… С. 92–94.
[Закрыть]. Чистили при Миронове и аппарат тюрем, где атмосфера вседозволенности постоянно порождала изощрённые издевательства над заключёнными.
При Миронове в марте 1937 г. был на всякий случай уволен из «органов» очень известный в своё время человек – член коллегии ВЧК К. А. Стоянович-Мячин (известный как В. Яковлев), перевозивший царскую семью в апреле 1918 г. из Тобольска в Екатеринбург. В 1930-х гг. он трудился на заурядных должностях в системе Сиблага, но в итоге был вынужден проститься с НКВД и уехать из Сибири – навстречу неизбежному аресту.
Венцом же «работы» Миронова с чекистами, подлежавшими устранению, стала одна спецоперация, которая благодаря Мироше получила неожиданное продолжение. В июне 1937 г. Миронов поучаствовал в крайне деликатном деле по аресту своего однофамильца Л. Г. Миронова, возглавлявшего в союзном НКВД ведущий отдел – Контрразведывательный. Опального чекиста, близкого к Ягоде, Сталин послал в начале апреля во главе спецгруппы в Сибирь и на Дальний Восток для «выявления и разгрома шпионско-вредительских троцкистских и иных групп на железных дорогах… и в армии». Командировка была долгой и продлилась до начала июня. Когда начальник контрразведки, возвращаясь с Дальнего Востока, вместе со свитой прибыл с каким-то поручением в Новосибирск, Сергей Наумович участвовал в организации Льву Григорьевичу коварной ловушки.