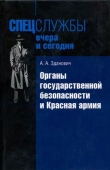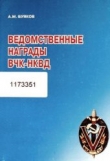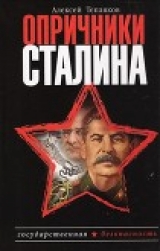
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
В конце июля 1937 г. опербригада работника СПО П. И. Молостова, в значительной степени составленная из курсантов межкраевой школы НКВД, ходила по предприятиям и стройкам, выясняя у администрации наличие «антисоветского элемента» – без всяких протоколов, ограничиваясь записями типа «антисоветски настроен», «кулак» и т. д. Затем шли аресты. Люди Молостова ночью оцепили огромную площадку строительства оперного театра и в течение трёх дней арестовали до двухсот рабочих (арестов было бы ещё больше, но многим потенциальным жертвам удалось бежать через заборы). Среди чекистов шли разговоры, что это была не оперативная работа, а просто какая-то охота, когда энкаведешники бегали по баракам, где жили строители, и хватали тех, кто значился в наскоро изготовленных списках. Рядовой сотрудник Транспортного отдела Г. Б. Румшевич руководил опергруппой поменьше и заявлял потом, что «операцию провёл успешно, репрессировав до 50 человек к-р элемента»[273]273
Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири… С. 357; АУФСБ по НСО. Д. П-4421. Т. 5. Л. 280–281; Д. П-7557. Л. 288..
[Закрыть].
В ходе разработки операции было запланировано послать ответственных сотрудников управления на места во главе бригад следователей, чтобы придать операции должное ускорение и воспитать местных оперативников, которые, в отличие от сотрудников УНКВД, не имели примера в виде начальников отделов, сразу воспроизводивших московские схемы и методы следствия. В июле 1937 г. в Прокопьевск из УНКВД приехал начальник отделения СПО Е. Ф. Дымнов, который привез с собой готовую схему, начертанную на большом листе ватманской бумаги. Вечером весь оперативный состав был кратко проинструктирован, а затем брошен на аресты: «Ночью к зданию городского отдела были подогнаны около 15 грузовых автомашин с вооруженной охраной. По указанию Дымнова мы выехали на поселок Южный, где в основном жили спецпоселенцы, и, зайдя в их квартиры, подвергли аресту всех мужчин. Ордеров на арест у нас не было, так как не знали, кого будем арестовывать, брали всех подряд… свыше 200 человек.
Сразу же по приезде с операции ночью арестованных распределили между оперативными работниками, и нас заставили писать (по заранее заготовленной форме) постановления на арест, вернее, об избрании меры пресечения и ордера на арест. В это время руководством городского отдела, видимо, с участием Дымнова, был составлен список всех арестованных, которых вписали в заранее заготовленную схему повстанческой организации. Выписки из этой схемы были выданы каждому оперработнику, и было предложено писать протоколы допросов арестованных в соответствии с этой схемой… Как правило, первые два-три дня арестованные отказывались подписывать протоколы. Тогда некоторые оперативные работники подвергали арестованных избиению или вели длительные допросы без обедов и сна. Была организована внутрикамерная обработка арестованных, чтобы склонить их к подписанию протоколов».
В конце июля 1937 г. несколько опергрупп под руководством сотрудников управления УНКВД (среди них был, например, капитан-пограничник С. Т. Марченко) прибыли в Колпашево и принялась арестовывать и затем сплавлять арестованных на баржах. Тогда же 20 курсантов новосибирской Межкраевой школы ГУГБ НКВД были переброшены в Бийск, где начальник оперсектора Г. Л. Биримбаум инструктировал их «не стесняться в средствах и методах», т. к новая обстановка позволяет игнорировать нормы УПК. Если, как заявлял оперативник Г. А. Скалыбердин, в Бийском оперсекторе начинающие чекисты писали по два-три листа протоколов в день, то осенью в аппарате Особого отдела СибВО норма была в 15–20 страниц, и если справка на арест выходила неубедительной, то начальник отделения приходил в ярость и лично показывал, как надо придумывать эффектные показания[274]274
Щит и меч Кузбасса. – Кемерово, 2003. С. 479–480; АУФСБ по НСО. Д. П-8426. Т. 1. Л. 12, 29; Д. П-6681. Т. 3. Л. 214–218.
[Закрыть].
Сразу после начала «массовых операций» Миронов велел начальникам оперсекторов сводить всех бывших белых офицеров, «кулаков» и бандитов в ячейки РОВСа, всемерно раздувая его численность. До весны 1938 г. Мироновым и его преемниками в ЗСК – Новосибирской области было арестовано 24.383 «ровсовца», относившихся преимущественно к так называемым «бывшим людям»: белым офицерам, чиновникам царского и колчаковского времени, «раскулаченным», торговцам, священникам, а также тем лицам, которые ранее уже подвергались репрессиям. Подавляющая часть прошедших по РОВСу – 21.129 чел., или 87 % – была расстреляна[275]275
ЦА ФСБ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 1678. Л. 430
[Закрыть].
В течение августа – ноября 1937 г. чекисты планировали провести «кулацкую операцию». Основная работа по поиску «кулаков» выпала аппаратам районных отделений НКВД, где на «антисоветский элемент» велись нередко многочисленные агентурные разработки. Сводка в УНКВД от Сузунского райотдела НКВД от 24 апреля 1937 г. сообщала о разработке организаций «Американцы» (шпионской) и «Беляки». На 1 мая 1937 г. Асиновский РО УНКВД имел 8 разработок по «контрреволюционным организациям». Начальник Змеиногорского райотдела НКВД М. А. Дятлов 13 июля 1937 г. сообщал в Запсибкрайком ВКП (б) о вскрытии двух контрреволюционных групп в 1936 г. и аресте 30 «врагов» в первой половине 1937 г.
Но были примеры и иного рода. Перед началом операции начальник Немецкого РО УНКВД ЗСК К. Г. Кестер заявил руководителям раймилиции, что «все кулаки и фашисты были арестованы ещё в 1933 г., поэтому в данное время в Немецком районе арестовывать не придётся». Многие райотделы НКВД, где была слабо поставлена агентурная работа, не имели на учёте сколько-нибудь значительного числа «враждебных элементов»[276]276
Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири… С. 349; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 823. Л. 24–25; Д. 743. Л. 138.
[Закрыть]. Поэтому новая кампания для провинциальных чекистов с чисто технической стороны оказалась непростой.
Составленные в райотделах списки подлежавших аресту в оперсекторе сводились в единый большой список, который затем заверялся в управлении НКВД. Арестованных в рамках национальных операций отправляли в областной центр или оперсектор, с «кулаками» разбирались на месте. Начальник Татарского РО НКВД Т. Ф. Качин (по сообщению секретаря РК ВКП (б), «по разоблачению и выкорчёвке вражеских сил в районе» вёл «беспощадную борьбу») аресты поручал милиции и арестованных направлял в Куйбышевский оперсектор НКВД; дела же на «кулаков» оформлялись в самом райотделе.
Новосибирский оперативник С. П. Чуйков в 1940 г. писал, что документы на аресты оформлялись по большим спискам, подписанным начальством отдела, где были только установочные данные и компромат (офицер, кулак, участник к-р организации) без указания на его источник. Прокурор на списке писал, что «арест с № 1 по №№ санкционирую». Составленные в страшной спешке данные часто были ошибочны – чекисты приходили туда, где давно уже не жил подозреваемый, или он уже был арестован, или этот адрес вообще не существовал. Начальник КРО УНКВД по Новосибирской области Ф. Н. Иванов в июле 1939 г. показал, что на тройке «никогда вопрос по существу дела не разбирался, дела сваливали в приёмной, а тройка решала вопрос по одной повестке…» [277]277
АУФСБ по НСО. Д. П-8139. Л. 303; Д. П-4505. Л. 355; Д. П-4784. Л. 208.
[Закрыть]
Милиция также самым активным образом участвовала в репрессиях, арестовывая и допрашивая бесчисленных «врагов народа». Например, И. Л. Петров с июля 1937 г. по март 1938 г. работал помощником уполномоченного Змеиногорского райотдела милиции и был награждён четырьмя премиями от УНКВД по ЗСК и Алтайскому краю: «особенно проявил себя в… изъятии контрреволюционного элемента в кампанию 1937 г., беспрерывно находился на данной работе как по изъятию, [так] и оформлению следственных дел»[278]278
ЦХАФАК. Ф. П-1465. Оп. 1. Д. 8. Л. 29.
[Закрыть].
В августе 1937 г. руководство краевой милиции во главе с А. К. Альтбергом предлагало план оперативно-следственных мероприятий по материалам на работников Заготзерно «в направлении вскрытия организованного контрреволюционного вредительства с выходом на Краевой центр», всем ГОМ и РОМ давалось указание разработать оперзадания о реализации имеющихся агентурных дел и материалов по пунктам «Заготзерно». Сотрудники милиции активно участвовали и в массовых расстрелах, проявляя к жертвам не меньший садизм, чем их коллеги-чекисты[279]279
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 859. Л. 24; Тепляков А.Г. Процедура… С. 75.
[Закрыть].
Необходимо отметить, что масштабы чистки «социально-вредных» были близки к чисткам «врагов народа». За январь – ноябрь 1937 г. в Новосибирске было изъято около 7.000 чел. «социально-вредного и уголовно-преступного элемента», из которых около 5.000 к концу года были уже осуждены тройкой (видимо, имелись в виду работа как тройки УНКВД, так и милицейской тройки). Арестовывали облавами ранее судимых, бездомных, неработающих (как и при чистке больших городов в 1933-м); также не брезговали арестовывать и тех, кто приходил в милицию просто заявить об утере документов.
Милицейская тройка судила в Новосибирске по 35-й статье, каравшей за принадлежность к «социально-вредному элементу» (т. е. безработных, бездомных и т. п.) сразу по 300 и более человек. В Новосибирске к ноябрю 1937 г. проживало 464 тыс. чел.; таким образом, в течение второй половины 1937 г. было «изъято» (учитывая, что среди арестованных были уголовники-«гастролёры» и приезжие бродяги) до 5 % взрослого мужского населения[280]280
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 255; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 78. Л. 5; Ф. 1020. Оп. 4а. Д. 5. Л. 290.
[Закрыть].
Милиция работала точно так же, как и НКВД – хватала людей по набору компрометирующих признаков, часть арестованных передавала «соседям» для расстрела, а других судила сама с помощью тройки как социально-вредных. Характерно, что начальник милиции УНКВД по Ивановской и Новосибирской областям М. П. Шрейдер и тридцать с лишним лет спустя считал, что эта мера – внесудебное осуждение по приказу № 00447 – в отношении уголовников была совершенно правильной и могла бы применяться для борьбы с преступностью и в 1970-е гг.[281]281
Шрейдер М.П. Воспоминания чекиста-оперативника //Архив НИПЦ «Мемориал» (Москва). С. 96.
[Закрыть]
Активная агентурная работа в связи с размахом террора потеряла прежнее значение. Дела успешно фабриковались и без какой-либо серьёзной агентурной проработки. Из показаний осуждённых чекистов П. А. Егорова и Н. А. Сурова известно о провокациях с обнаружением оружия мифических заговорщиков (подобные факты известны и для начала 1930-х гг.). Так, пресловутый С. П. Попов во время командировки в Нарым специально закопал оружие для инсценировки последующего обнаружения и документирования арсенала «повстанческих организаций»[282]282
Гришаев В.Ф. Реабилитированы посмертно (К истории сталинских репрессий на Алтае). – Барнаул, 1995. С. 35; АУФСБ по НСО. Д. П-2743. Л. 268.
[Закрыть].
О сведении личных счётов и использовании доносов в ходе арестов доказательно говорить сложно, ибо «сигналы» с мест зачастую спрятаны в тома так называемых оперативных материалов, которые не выдаются исследователям. Начальник Томского горотдела НКВД И. В. Овчинников отмечал, что «размах операции и огромная волна заявлений в ГО давали несравненно более, чем самая идеальная агентурная работа». Такие факты говорят о большой доносительной активности населения, хотя значительная часть заявлений была наверняка спровоцирована чекистами и исходила от агентуры.
В чекистской практике самым распространённым явлением оставалась наглая подделка документов – и подписей арестованных, и справок о кулацком или офицерском прошлом, о якобы имевшейся судимости. Руководитель Ояшинской раймилиции П. Л. Пилюга в 1958 г. показал, что начальник РО Филатов в июле 1937 г. получил пакет из УНКВД ЗСК, собрал оперсовещание с участием милиционеров и объявил о директиве относительно изъятия всего антисоветского элемента. Филатов разбил район на участки и поручил их оперативникам и милиционерам. Райком партии мобилизовал несколько коммунистов помогать – те собирали компрматериалы и допрашивали свидетелей. Пилюга отмечает, что свидетелями были в основном сексоты, которые хорошо знали, какие показания следует давать и охотно подписывали любые протоколы, так как знали, что в суд их не вызовут. Председатели сельсоветов, бывшие одним из излюбленных чекистами объектов вербовки, давали нужные справки, некоторые из них были особенно активны[283]283
АУФСБ по НСО. Д. П-8125. Т. 4. Л. 213–214 об.
[Закрыть].
При производстве массовых арестов у молодых оперативников проявлялись подчас нормальные человеческие реакции: одни могли добиться у разгневанного таким либерализмом начальника разрешения отпустить готовую родить женщину, другие, увидев перед собой инвалида без обеих ног, «испугались и ушли». Другие получали удовольствие от осознания своей власти и безнаказанности, возможности присваивать ценности во время обыска, изощрённо издеваться над приговорёнными к расстрелу. Оперативники делились на обласканных начальством активистов, получавших награды, премии и квартиры своих жертв, и остальных. В чекистской среде в обиходе были циничные клички – например, «борзописец», «колун», «смертельный колун». Барнаульского чекиста Т. К. Салтымакова называли «дядя-мухомор», поясняя, что от него «добровольно умирали люди»[284]284
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 80. Л. 5, 9; ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 673. Л. 7.
[Закрыть].
Фантазия следователей-фальсификаторов подогревалась прямыми установками руководства, лично вносившего в протоколы допросов обширные дополнения. Лексика чекистов отразила это обстоятельство. Работник СПО УНКВД ЗСК С. С. Корпулев в письме в ЦК ВКП (б) писал: «Не случайно в лексиконе начальников отделов появилось такое выражение: «В этот протокол надо добавить пару бомбёжек, кусочек террорка, добавить повстанчество, привести несколько фактов диверсий – тогда он будет полноценным».
Методы допроса массы арестованных были соответствующими. Бывший оперативник Ленинск-Кузнецкого горотдела НКВД А. И. Савкин показал, что арестованных держали сутками сидя и стоя без еды и сна, и что он не помнит ни одного из них, кто бы подписал признание без физического и морального воздействия. А следователи от бессонницы «доходили до такого состояния, что не могли здраво рассуждать, и лично я был в таком состоянии, что своей жене не верил, что она советский человек»[285]285
АУФСБ по НСО. Д. П-8213. Л. 389, 395; Д. П-4421. Т. 5. Л. 422–423.
[Закрыть].
К августу 1937 г. УНКВД по Запсибкраю вышло, как отметил Ежов, на второе место в общесоюзном соревновании по темпам разгрома «вражеского подполья». По словам одного из руководителей КРО, на деле РОВСа, «как некоторые следователи говорят, [они] «набили себе руку» до того, что заканчивали допросы на 5–6 человек в сутки. […] «Колунство» было символом оперативных качеств работника. Были просто «колуны» и «смертельные колуны» – это такие следователи, от которых, как говорили, сам чёрт не уйдет без признания».
Самую активную роль в терроре играл первый секретарь крайкома. О судьбе «бывших людей» у Эйхе было мнение, абсолютно не расходившееся с точкой зрения руководства НКВД. Однако вместе с «массовой операцией» стремительно разворачивался террор и против номенклатурной верхушки края. Перед самым отъездом Миронов вырвал у Эйхе согласие на арест входивших в состав ЦК ВКП (б) второго секретаря крайкома партии В. П. Шубрикова и председателя крайисполкома Ф. П. Грядинского – они были арестованы 9 и 10 августа 1937 г., за несколько дней до выхода приказа НКВД СССР о немедленном откомандировании Миронова в Улан-Батор. В те же дни были схвачены заведующий крайздравотделом М. Г. Тракман, секретарь крайкома комсомола Н. Г. Пантюхов, другие члены крайкома партии[286]286
Тепляков А.Г. Машина террора: ОГПУ-НКВД Сибири… С. 358; АУФСБ по НСО. Д. П-3659. Л. 141.
[Закрыть].
Первый секретарь хоть и неохотно, но отдал Миронову многих своих доверенных лиц, занимавших ответственные посты, Эйхе пришлось согласиться с унизительной для него идеей, что «правотроцкистские заговорщики» годами действовали под самым носом у бдительного секретаря крайкома. Активность Эйхе, Миронова, а также их преемников в уничтожении руководящих кадров региона настолько не вызывала сомнений у Сталина, что он ни разу не счёл нужным послать в Западную Сибирь кого-то из членов высшего руководства для подстёгивания репрессий.
Как руководитель тройки Сергей Миронов до середины августа 1937 г. успел вместе с Робертом Эйхе и прокурором Игнатием Барковым приговорить к расстрелу в Новосибирске до полутора-двух тысяч человек (к 9 августа было арестовано 12.686 чел., осуждено тройкой – 1.487, расстреляно – 1.254). Часть расстрелянных (порядка 10 %) составили представители преступного мира, которым, наряду с общеуголовными, предъявлялись и политические статьи УК: так, 9 августа 1937 г. за бандитизм и антисоветскую агитацию был осуждён к высшей мере наказания житель Кыштовского района А. С. Духович.
На казнях самых видных «заговорщиков» начальник управления присутствовал лично, подписываясь под актами о расстрелах, как, например, в случае с теми, кто прошёл по делу бывшего партизана И. Я. Третьяка. Расстрелами в городах занимались специально созданные опергруппы, руководимые начальствующим составом. Так, в Кемеровском горотделе НКВД осужденных расстреливала бригада под руководством помощника начальника горотдела Н. А. Белобородова, в Сталинске акты о расстрелах подписывал начальник ГО НКВД А. С. Ровинский.
Большинство жертв «массовой операции» было расстреляно, но значительную часть уничтожили гораздо более жестокими способами. Бывший начальник Куйбышевского оперсектора УНКВД Л. И. Лихачевский в августе 1940 г. показывал: «Осуждено к ВМН за 1937–1938 годы было ок. 2-х тысяч чел. У нас применялось два вида исполнения приговоров – расстрел и удушение… Всего удушили примерно 600 чел.». Среди работников барнаульской тюрьмы перед войной ходили рассказы о том, как в 1937–1938 гг. проходило уничтожение приговорённых к расстрелу: их пытали, а потом «убивали ломом и сваливали в большую яму».
Согласно показаниям начальника Учётно-статистического отдела УНКВД Ф. В. Бебрекаркле, первоначально Миронов заявлял, что так называемый «особый период работы» продлится недолго[287]287
Тепляков А.Г. Процедура… С. 58–59, 74; АУФСБ по НСО. Д. П-777. Л. 83.
[Закрыть]. Он полагал, что «кулацкая операция», на которую Ежовым было первоначально выделено четыре месяца, решит вопрос с ликвидацией основных кадров «пятой колонны», и не думал, что эта бойня окажется прелюдией небывалых чисток. Его разговор со своим преемником Горбачом, состоявшийся весной 1938-го (о нём ниже), подтверждает версию об определённой «недальновидности» Миронова, доселе отлично ориентировавшегося в нюансах карательной политики и шедшего с опережением.
Диктатор Монголии
К 15 августа 1937 г., то есть за три недели с момента начала так называемой «массовой операции», в Запсибкрае было арестовано 13.650 человек (для сравнения: в Белоруссии – 7.894, в очень крупной Омской области – 5.656). Деятельность Миронова была признана образцовой, но для новой работы, которую для чекиста подыскал Сталин, был необходим формально штатский человек.
Получив сначала звание комиссара госбезопасности 3-го ранга, а потом и орден Ленина за сибирские дела, Миронов приказом от 15 августа 1937 г. неожиданно был зачислен в действующий резерв НКВД и получил секретное задание ехать в Монголию на смену только что арестованному послу (и одновременно разведчику) В. Х. Таирову, обвинённому в сговоре с японской военщиной с целью захвата МНР. На сборы дали три дня. Повышение было очевидным; вельможный Эйхе заискивающе прощался с Мироновым, надеясь на его возможную протекцию, и уверяя Агнессу в том, что они-де отлично сработались с Сергеем…
Правда, по дороге в Монголию ему пришлось испытать стресс, столкнувшись с ситуацией, когда явно пытали «своих». На каком-то полустанке Миронов с женой слышали душераздирающие вопли истязаемого. Этим пытаемым, как догадался Миронов, был его предшественник на посту полпреда, выдающийся советский разведчик Таиров, которого везли в одном из вагонов (арест Таирова долго скрывали от советских военных в МНР и монголов; Сталин лично 23 октября 1937 г. разрешил Фриновскому сообщить об изъятии Таирова органами НКВД военной верхушке, «но без того, чтобы монголы знали об этом»)[288]288
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. – М., 2004. С. 403, 652.
[Закрыть]. Такое открытие не вдохновляло, но на общем состоянии Миронова не особенно отразилось, хотя сам Сергей Наумович предпочитал ломать видных арестантов не вульгарными побоями, а при помощи проверенных способов – длительных ночных допросов, угроз, лживых обещаний, провокаций, а также так называемых выстоек, когда жертве сутками не давали садиться.
По пути в Монголию чекистский поезд остановился в Иркутске, где Миронов присутствовал при том, как Фриновский избивал допрашиваемого партийца. После экзекуции, видя подавленность Миронова, высокопоставленный палач не преминул блеснуть столичной осведомленностью – сообщил, что товарищ Сталин приказал бить врагов, пока те не сознаются… Видимо, этим избиением Фриновский передавал передовой опыт недостаточно просвещённым местным кадрам.
Кстати, другой ежовский заместитель – Лев Бельский, приехав в Новосибирск осенью 1937 г., сразу спросил: «Арестованных бьёте?» Местные чекисты, видимо, сочли надёжным промолчать о масштабных избиениях, которые практиковались с самого начала «массовых операций», но Бельский тут же дал установку: «Бейте, мы (т. е. центральный аппарат НКВД – А. Т.) бьём». Воспоминания Агнессы о рассказе Миронова относительно действий Фриновского подтверждаются опубликованными показаниями иркутского чекиста, присутствовавшего вместе с Мироновым при избиении Фриновским одного из арестантов[289]289
Яковенко М.М. Агнесса… С. 97–98; Папков С.А. Сталинский террор в Сибири… С. 269.
[Закрыть].
Преодолевая свои эмоции, Миронов чувствовал себя выделенным для великой цели очищения СССР от остатков эксплуататорских классов, приобщённым к элите государства, поручившей ему вершить суд и расправу над тысячами и десятками тысяч. А монгольская командировка придавала его полномочиям международный характер.
Миронов понимал, что Сталин облёк его исключительно высоким доверием, назначив полпредом СССР в Монголии. Большая малонаселённая страна, пограничная с Китаем, где интересы Советского Союза столкнулись с интересами крайне агрессивной имперской Японии, представляла для вождя народов особую ценность. Все намёки на пятую колонну там должны быть выполоты столь же тщательно, как и в СССР.
На Дальнем Востоке пахло войной; машина с Мироновым и его семьёй от Улан-Удэ 600 километров ехала по дороге, вдрызг разбитой только что вошедшим в Монголию корпусом И. С. Конева. Монголия фактически была оккупирована, а всё ее руководство вскоре перестреляно в рамках борьбы с «гендуно-демидовским заговором» (П. Гендун был премьер-министром, а Демид – главкомом монгольской армии). Террор в МНР оказался намного более разнузданным, нежели в Советском Союзе.
В Улан-Батор вместе с новым полпредом прибыл замнаркома внутренних дел Михаил Фриновский, 13 сентября отправивший Ежову шифровку об аресте – с согласия Х. Чойбалсана и А. Амора – видного деятеля Энзона (якобы «английского резидента, перевербованного японцами») и его помощника Дамдина, а также о планах разгрома «ламской тибетской колонии» и проникновении «в сеть английской связи на Тибет и японской на Хайлар (Маньчжурия)»… В том же сентябре 1937 г. после посещения Фриновским и Мироновым Улан-Батора были введены – по предложению Фриновского – особые тройки для быстрого расстрела «врагов народа».
Миронов к этим карательным делам имел прямое отношение, выступая в качестве непосредственного руководителя истребления «врагов монгольского народа». Полпред Советского Союза в Монгольской Народной республике был не столько полномочным представителем, сколько фактически полномочным правителем этой страны, реально ставшей просто одной из республик СССР. Диктаторские полномочия Сергея Наумовича хорошо видны из его докладных в Москву. Террор, который развязал этот «дипломат», был чудовищен.
Полпред, разумеется, не замедлил быстро разобраться с сомнительными монгольскими чекистами. Уже 18 октября Миронов сообщал в НКВД (не в НКИД!) о вскрытии «большой контрреволюционной организации» в системе МВД Монголии и получении сведений от первого заместителя премьер-министра Чойбалсана насчёт показаний на прокурора МНР Борху и посылке их премьеру Амору для постановки вопроса об аресте. Да, так и было: первый вице-премьер сообщает советскому послу сведения, выбитые чекистами на прокурора, а посол направляет их главе монгольского правительства.
В феврале следующего года Миронов предлагал арестовать новых заговорщиков и просил «срочно помочь инструкторами». Этих инструкторов у Миронова было множество, и немалая часть из них, кстати, потом пошла под суд вместе с полпредом. 3 апреля 1938 г. он сообщил Фриновскому о результатах своей работы: арестовано по «заговору» к 30 марта 10.728 чел., среди которых преобладали ламы (7.814), а также буряты с китайцами (две тысячи), министерские чиновники и старшие офицеры (500 чел.) и феодалы (322 чел.). В планах Миронова было арестовать за апрель дополнительно четыре тысячи лам, а позднее – ещё две тысячи. К исходу марта уже было осуждено к расстрелу 6.311 чел., что составляло порядка 3 % взрослого мужского населения Монголии… Всего монгольские тройки в 1937–1939 гг. осудили более 25 тыс. чел., приговорив к смерти свыше 20 тыс., или 80 % [290]290
Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. – М., 2003. С. 610–611; Архивы Кремля и Старой площади. Документы по «делу КПСС». – Новосибирск, 1995. С. 19, 20; Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и технология его исполнения. – М., 2003. С. 40, 70; Звягинцев В. Трибунал для героев. – М., 2005. С. 143.
[Закрыть]. Таким образом, Монголия потеряла до 10 % мужского населения.
Убыв весной 1938 г. из Улан-Батора на большое повышение в Москву, Миронов оставил в МНР своим преемником выдвинутого им ещё в Сибири человека – бывшего помначальника КРО УНКВД по Запсибкраю М. И. Голубчика. Тот продолжил линию Миронова, а в положенное время был снят и осуждён по «сталинскому списку» к высшей мере наказания.
Для массовых карательных акций 30-х годов характерен их выход за национальные границы. В первой половине 30-х годов монгольские власти по указаниям из Москвы арестовывали и высылали в СССР русских эмигрантов, а советские чекисты во множестве арестовывали на территории МНР как русских, так и монголов с бурятами, после чего вывозили их в СССР для расправы. В 1937–1938 гг. на территории МНР были выявлены свои «враждебные национальности», в связи с чем, наряду с монголами, с помощью НКВД активному истреблению подверглись китайцы и буряты[291]291
Павлюков А.Е. Ежов… С. 389.
[Закрыть]. Дирижёрами террора в Монголии стали С. Н. Миронов и М. И. Голубчик, исполнителями – многочисленные советники и инструкторы НКВД, прикомандированные к МВД МНР. Отметим, что советские чекисты приняли активное участие в массовых репрессиях и на территории Тувы.
Вот некоторые из попавших под вполне заслуженное (но зачастую мягкое) наказание кадров, помогавших Миронову и Голубчику в истреблении монголов и арестованных в основном летом 1939 г.:
Советник НКВД в Монголии Л. Б. Кичков был осуждён 21 февраля 1940 г. (в один день с Мироновым!) за массовые аресты партийно-государственных деятелей и граждан МНР. 22 февраля 1940 г. расстреляли и инструктора восточного отдела МВД МНР лейтенанта ГБ В. Л. Светлова-Хейфеца, арестованного в мае 1939 г. (впоследствии реабилитирован). Ф. Я. Яковлев, в 1936–1939 гг. работник МВД МНР, арестован в июне 1939 г. и осуждён Военной коллегией Верхсуда СССР на 15 лет за антисоветскую деятельность. А. П. Алексеев, в 1937–1939 гг. начальник отделения особого отдела 57-го особого корпуса в МНР, в июле 1939 г. арестован за нарушения законности и осуждён Военной коллегией Верхсуда СССР на три года заключения[292]292
Арестова Л. Иностранцы //Человек и закон. 1992, № 2; Забайкальские областные ведомости (Чита). 1998. № 11. С. 10; РГАНИ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 601. Л. 73; Д. 732. Л. 70.
[Закрыть].
Советник МВД МНР с мая 1938 по июнь 1939 г. К. Я. Шустов был осуждён на 15 лет за антисоветскую деятельность. Бадма Будаев, бурят, с конца 1937 г. и по день ареста работал в Монголии инструктором при МВД МНР. Арестован в 1939-м и получил 8 лет лагерей (реабилитирован). Другой бурят, Д. Р. Цыдендамбаев, с 1936 г. работал по линии НКВД СССР в МНР, был репрессирован. А. Н. Лобиков, в 1936–1939 гг. инструктор МВД Монголии, в июне 1939 г. был исключён из партии за развал шифрработы, выполнение директив об истреблении монгольских кадров, вскрытие писем в адрес инструкторов МВД и в Москву; осуждён на три года заключения[293]293
РГАНИ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 460. Л. 56; Оп. 2. Д. 1905. Л. 112; Оп. 3. Д. 496. Л. 97–98; Д. 601. Л. 72.
[Закрыть].
Инструктор МВД МНР Н. И. Спирин был арестован в январе 1939 г. и осуждён Особым совещанием НКВД на три года заключения как участник антисоветской организации, ставившей целью необоснованными репрессиями озлобить население МНР против народно-революционного правительства. С этой целью он проводил массовые аресты командиров НРА, фальсифицировал дела, применял извращённые методы следствия. Инструктор погранвойск НКВД в МНР К. Н. Зайчук был арестован в июле 1939 г. и в следующем году Военной коллегией Верхсуда СССР осуждён на 10 лет; освобожден в 1950 г.
Заодно с чекистами-советниками пострадал и комдив Н. Н. Литвинов, командир 7-го конного корпуса, с сентября 1937 г. работавший военным советником Главкома Монгольской Народно-Революционной армии. Арестованный в 1939 г. как участник контрреволюционного заговора в МНР, Литвинов оказался осуждён на 8 лет – за то, что «попал под личное влияние полпредов СССР в МНР Миронова и Голубчика, впоследствии разоблачённых в антисоветской заговорщицкой деятельности, не вскрывал действительных причин крайне тяжёлого положения Монгольской Народно-Революционной армии и не принимал, как военный советник, мер к их устранению»[294]294
Там же. Оп. 2. Д. 732. Л. 70; Д. 816. Л. 57, 73; Оп. 3. Д. 330. Л. 192.
[Закрыть].
…Агнесса в своих мемуарах приводила колоритные детали монгольского быта, не без ужаса вспоминая о местных нравах: «А гигиена! Кому приспичит, просто присаживается под забором на корточки, правда, халатом прикроется. Увидит меня, приветствует любезнейшим образом, а сам… Приказ был – прогонять всех из-под заборов, устраивать уборные». Но монголы отказывались копать землю, считая ее телом бога, и даже мертвецов не зарывали, а вывозили в степь, в долину смерти… Агнесса слала родичам с диппочтой посылки, набитые шоколадом, тканями и пачками денег, щеголяла на дипломатических приемах невероятными туалетами, которые жёны монгольских сановников раболепно копировали. «Жила, как зажмурившись», – вспоминала она впоследствии о своей шикарной жизни[295]295
Яковенко М.М. Агнесса… С. 102–103, 105, 112.
[Закрыть].
Наконец, Миронов завершил основной разгром «врагов», передал бразды сменщику и убыл в Москву – фактическим заместителем наркома иностранных дел по Дальнему Востоку. По пути в столицу он остановился в Новосибирске, где встретился с начальником управления НКВД Григорием Горбачом. Тот сообщил Миронову, что к апрелю 1938 г. им было арестовано по три состава районного и областного руководства. Миронов показывал: «Я спросил у Горбача, неужели всё это безнаказанно проходит, ведь этого скрыть от широких масс невозможно (хотя сам Миронов совершенно не боялся, что монгольские массы узнают об исчезновении практически всех руководителей страны и тысяч лам – А. Т.). Он ответил, что я отстал от современных темпов»[296]296
АУФСБ по НСО. Д. П-8213. Л. 388.
[Закрыть].
Конечно, «бывшие» должны были быть уничтожены. Но арест трёх составов партийно-советского начальства Миронов воспринял как что-то экстраординарное: дескать, одно дело – какие-то кочевые монголы, другое дело – непрерывный террор у себя дома в течение почти года. Не слишком ли? Для разгрома всех заговорщиков достаточно было поменять руководство один раз, но никак не трижды…
По воспоминаниям Агнессы Мироновой, даже правая рука Ежова Фриновский при ней рассказал Миронову, как при случае посмел осведомиться у Сталина, не слишком ли много крови? На что Сталин, усмехнувшись, велел Фриновскому не беспокоиться: «Партия всё возьмёт на себя!» Однако не исключено, что в тех словах Сергея Наумовича была и ревность к своему бывшему заму Горбачу, который чересчур много чистил уже после Миронова, разоблачая тех, кого тот счёл проверенными. Ведь Горбач к тому времени расстрелял как румынского шпиона даже оперсекретаря управления НКВД и лихого разведчика периода гражданской войны Л. И. Макова, ранее состоявшего при Миронове… [297]297
Яковенко М.М. Агнесса… С.104; АУФСБ по НСО. Д. П-6195. Л. 1-191.
[Закрыть]