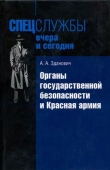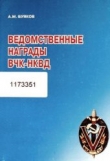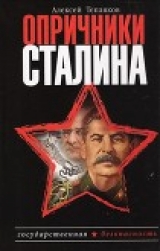
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Возвращение в Европу
Усердная работа Сыроежкина в последние месяцы его сибирской карьеры не получала заметного отклика от начальства: после именного маузера в 1930 г. он не удостоился каких-либо наград. Подавление Чумаковского восстания тоже не принесло ему лавров. Сыроежкин неустанно мотался по Сибири до самого своего отъезда: так, в июне-июле 1932 г. он целый месяц провёл в командировке в Томске[338]338
ГАНО. Ф. 911. Оп. 1. Д. 8. Л. 95.
[Закрыть] – явно в связи с фабрикацией какого-то немаленького дела. Отъезд главы чекистов Сибири Л. М. Заковского весной 1932 г. в Белоруссию, который сразу забрал с собой главу особистов СибВО А. К. Залпетера, поначалу не внёс изменений в судьбу Григория. Вероятно, он со временем всё же смог упросить своих начальников взять его к себе.
Перемещение Сыроежкина в Минск произошло в ноябре 1932 г. Получив должность начальника 2-го отделения Особого отдела ОГПУ БССР, он занялся привычным делом – поиском и «выкорчёвыванием» врагов. Известно, что Сыроежкин участвовал, по официальной версии, в «ликвидации крупных организаций буржуазных националистов». Охота на интеллигенцию принесла чекисту признание. За вскрытие в 1933 г. мифического «Союза освобождения Белоруссии» Григорий был награждён золотыми часами, а в следующем году его повысили до помощника начальника республиканского Особого отдела[339]339
Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России… С. 362–364.
[Закрыть].
Вхождение в обойму доверенных людей Заковского стало для Сыроежкина хорошим карьерным трамплином. Когда Заковского в декабре 1934 г. перевели в Ленинград, Григорий с удовольствием последовал за ним, после девятилетних странствий снова обретя возможность работать в знакомом пограничном округе. И работа напоминала прежнюю, хотя теперь была сопряжена с куда большим накалом политических репрессий.
Согласно официальной версии, Сыроежкин в Ленинграде «руководит и лично участвует в ликвидации шпионских и террористических групп, созданных германской разведкой» (разумеется, существовавших лишь в воображении НКВД). Заковский провёл широкую чистку приграничного округа от всех лиц, считавшихся потенциально опасными. Уже весной 1935 г. из пограничных областей Ленинградской области и Карельской АССР было выслано 22,5 тыс. человек. Чекисты Особого отдела ЛенВО отчитались за ликвидацию в течение 1935 г. целых 13 крупных организаций и 136 «террористических групп», а также 56 резидентур всех возможных разведок: японской, корейской, польской, латвийской, эстонской, финляндской… Очевидно, что Григорий имел прямое отношение ко многим из этих фальсификаций.
Сыроежкин крепко осел в Особом отделе ГУГБ НКВД ЛенВО, постоянно выезжая с тайными заданиями за рубеж – в Германию, Норвегию, Финляндию, Швецию. Там он встречался с агентурой, в том числе с таким важным осведомителем НКВД, как бывший организатор кронштадтского восстания С. М. Петриченко. Сыроежкин был на очень хорошем счету и, будучи первоначально представленным к званию капитана госбезопасности, получил весной 1936 г. – скорее всего, благодаря покровительству Заковского – звание майора госбезопасности, что соответствовало чину комбрига. Год спустя свежеиспечённый комбриг отправился воевать с франкистами в Испанию, где проявил себя храбрым и расторопным инструктором-диверсантом партизанского корпуса.
В 1938 г. основные руководители советской разведки уже были либо расстреляны, либо арестованы. От них получили необходимые компрометирующие материалы и на советника Сыроежкина. Есть сведения, что Сыроежкин в Испании высказывал сомнение в деле Тухачевского, но эти сообщения авторов-чекистов малодостоверны, поскольку из них также следует, что Сыроежкин якобы обвинял в репрессиях Лаврентия Берию, который на самом деле появился в союзном НКВД много позже, в разгар испанской работы Григория, и никакого отношения к делу маршала не имел…
Советника в конце концов отозвали. Он прибыл в Москву, поселился в гостинице и принялся ждать развязки. Думал ли 38-летний Григорий, что его жизнь заканчивается? В расстрельном списке на 134 чекиста, подписанном Сталиным 20 августа 1938 г., его фамилия стояла под номером 111. Сибирско-белорусские начальники Сыроежкина – арестованные в апреле Заковский и Залпетер – тоже значились в этом списке.
Ещё целых полгода Григорий, не подозревавший, что любимый вождь давно согласился с его расстрелом, был на свободе. Мало того, он получил за испанские дела орден Ленина! Такая задержка с арестом Сыроежкина известными материалами никак не объясняется. Только 8 февраля 1939 г. за ним пришли. И вот тогда лубянские костоломы отыгрались на волоките с арестом. Следствие продолжалось менее трёх недель, велось ударно и известными методами, что предопределило быстрое признание Григория в антисоветской деятельности. Сам умевший быстро получить признание от очередного «врага», он хорошо понимал, что выхода нет и сопротивляться следствию бессмысленно.
Логика лубянских коллег была ему вполне доступна: раз начальники поголовно оказались врагами, то их подчинённый тоже подлежит чистке. И уже 26 февраля Сыроежкин предстал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР. В эту ночь на её заседаниях были приговорены к высшей мере состоявшие в Политбюро В. Я. Чубарь, С. В. Косиор, П. П. Постышев, а также ряд видных чекистов… Почётную компанию высокопоставленных смертников пополнил и «польский шпион» Сыроежкин, расстрелянный немедленно по вынесении приговора.
Ровно 19 лет спустя, в феврале 1958 г., состоялась реабилитация – та же Военная коллегия Верхсуда постановила считать Сыроежкина невиновным. Самые страшные свои дела он совершил на рубеже 20 – 30-х годов, а в эту эпоху прокуроры с расследованиями практически не совались. Поэтому награждённый орденом Ленина испанский советник, о котором уцелевшие коллеги говорили только хорошее, логично и легко превратился в героического чекиста-разведчика. О Сыроежкине были написаны книга и многочисленные очерки, где практически ничего не говорилось о том, чем он на самом деле занимался в Сибири, Белоруссии и Ленинграде.
Сотрудники госбезопасности подробно писали об его участии в операции по обезвреживанию Савинкова и испанской командировке (в недавней малограмотной книжке красноярского полковника КГБ В. М. Бушуева «Грани. Чекисты Красноярья от ВЧК до ФСБ» на голубом глазу повествуется, как Сыроежкин героически погиб при исполнении интернационального долга, совершая подвиги «над небом Испании»!), а целое десятилетие между этими страницами оставалось тёмным пятном[340]340
Сталинские расстрельные списки. – М., 2002; Бушуев В.М. Грани… С. 211
[Закрыть]. Только в «Очерках советской внешней разведки», вышедших в 1996 г., авторы рискнули вскользь заметить, что, дескать, неизвестно, были ли шпионами «разоблачённые» при участии Сыроежкина якутские торговцы. В остальном действия Сыроежкина трактуются его наследниками как исключительно высокополезные и героические.
Последний штрих в посмертную канонизацию Сыроежкина – выпуск от имени ФСБ России именной почтовой марки, появившейся в апреле 2002 г. На ней портрет героя-чекиста и… ошибочная дата смерти. Очень по-советски!
Забытый резидент Александр БАРКОВСКИЙ
Пока в распоряжении историков имеется не так уж много документов о смутной фигуре разведчика и контрразведчика Александра Барковского-Шашкова (1895–1938). Впрочем, их достаточно для первоначального наброска биографии этого примечательного человека, за свою особую службу награждённого орденом Красной Звезды и парой золотых часов. Правда, плоховато обстоит дело с выяснением начального периода разведывательной деятельности Александра Николаевича: в анкетах 1930-х гг. он не распространялся об обстоятельствах своего попадания в ряды «бойцов невидимого фронта», о закордонной деятельности и о том, что какое-то время носил фамилию Шашков – вероятно, чекистский псевдоним, необходимый для безопасной нелегальной работы за рубежом.
Пристрастные следователи на Лубянке заставили старшего лейтенанта госбезопасности и орденоносца рассказывать фантастические подробности о своём приходе в советскую разведку. По возможности отделив истинные факты от лжи, необходимой ежовским следователям, мы получим кое-какие интересные данные.
Анкета спецназначения и автобиография говорят, что Александр Николаевич Барковский был поляком, уроженцем местечка Завихост Сандомирского уезда Родомской губернии, и происходил из мещанского сословия. В 1914 г. умер его отец-служащий; как раз тогда Барковский окончил сандомирскую гимназию и поступил в Варшавский политехнический институт. В 20-летнем возрасте, в сентябре 1915 г., Барковский в связи с войной и эвакуацией института бросил учёбу и поступил добровольцем в российскую армию. Сначала он служил в 72-м Тульском полку (уже в декабре став юнкером), но вскоре был направлен в Виленское военное училище, которое окончил в Полтаве, получив в мае 1916 г. звание прапорщика.
Направленный на Южный фронт, свежеиспечённый офицер весьма индифферентно отнёсся к падению самодержавия. С февраля революционного 17-го Барковский служил подпоручиком и помощником командира батальона. Армия разваливалась, входившие в её состав представители нацменьшинств охотно вступали в различные национальные соединения. В августе-сентябре 1917 г. Александр Барковский в г. Ровно записался – через «Союз военных поляков» – в 1-й инженерный Польский полк. Он должен был ехать в Бобруйск, но тут встретил своего знакомого – большевика Гусарского (тогда заместителя председателя, а впоследствии – председателя военно-революционного комитета Особой армии), который убедил офицера вернуться в свой 4-й самокатный (то есть велосипедный) батальон.
Батальон базировался под Ровно и был сильно большевизирован; в декабре 1917 г. Барковского выбрали комбатом. Велосипедисты дрались с петлюровцами и немцами, под натиском которых вместе с частями 126-й пехотной дивизии отступили в Киев. В феврале 1918 г. молодого комбата перевели сотрудником для поручений при штабе Южного фронта в Полтаве и Харькове. Карьера энергичного поляка оказалась связана с первыми месяцами существования советской военной контрразведки и разведки.
С июля 1918 г. Барковский служил в Военконтроле (армейской контрразведке), а затем был переведён в Регистрационное (разведывательное) управление Южного фронта. Его работа была чрезвычайно далека от кабинетной: Барковский воевал в партизанском отряде Прокофия Тарана в Северной Таврии и не раз забрасывался в тыл к белым. Будучи настоящим офицером, он смог внедриться в известный Дроздовский полк, отчаянно дравшийся с красными. В 1920 г. Барковского перевели в Разведотдел штаба РККА и как гласного, а потом и конспиративного работника посылали в Турцию и на Балканы[341]341
ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-5485. Т. 2. Л. 96.
[Закрыть].
Там он работал, вероятно, по линии борьбы с белой эмиграцией, ибо военные структуры белых, созданные за кордоном, крайне беспокоили чекистов в течение всех двадцатых годов. Барковский стал одним из представителей многочисленной группы контрразведчиков и разведчиков польского происхождения, подвизавшихся в ОГПУ и Разведупре с легкой руки Феликса Дзержинского, охотно зачислявшего земляков в структуры госбезопасности. Даже бывшие сотрудники польской разведки, будучи перевербованными, продвинулись на советской службе, работая в иностранном отделе, подразделениях контрразведки и особых отделах. К тридцатым годам поляков удалили из центрального аппарата и щедро разбросали по периферии. Например, в середине 1930-х гг. в особых отделах Новосибирска и Омска на руководящих постах по соседству работали поляки и бывшие разведчики А. Н. Барковский и Ю. И. Маковский.
Зарубежная работа Барковского в Европе продолжалась до 1923 г., после чего нашего героя перебросили на восточное направление. Он был направлен в Читу, где активно действовал мощный разведывательный отдел Разведупра Пятой армии, наводнивший соседний Китай своей агентурой. Барковский, прибыв в Читу, сразу получил ответственную должность: в мае 1923 г. он стал начальником сектора в Разведотделе штаба Пятой Краснознамённой армии и начал работать против белогвардейцев в Китае. Его вскоре повысили, и Барковский стал врид помощника начальника Разведотдела Штарм-5. Так что его секретная и не очень долгая работа в Болгарии была оценена очень высоко, да и в Чите он продвинулся быстро. Но в кадрах военной разведки Александр Николаевич не задержался.
В те времена работники невидимого фронта легко переходили из Разведупра в ОГПУ и обратно. Так и Барковский стал работником Иностранного отдела ОГПУ: с февраля 1924 по июнь 1925 г. бывший офицер находился в разведкомандировке по линии ИНО ОГПУ в северо-восточном Китае, базируясь в крупных приграничных городах Маньчжурии – Сахаляне (Хэйхэ) и Цицикаре[342]342
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД в 1936–1946 //Минувшее. Вып. 21. – СПб., 1997. С. 283.
[Закрыть]. С июня 1925 г. вернувшийся на родину резидент почти два года применял свой опыт работы на Востоке в качестве уполномоченного полпредства ОГПУ по Дальневосточному краю в Хабаровске, располагавшего крупным разведывательным отделом. Работы хватало: белоэмигранты постоянно забрасывали своих агентов на территорию советского Дальнего Востока и вторгались целыми отрядами, наши чекисты толпами хаживали в Маньчжурию и чувствовали себя там почти как дома, периодически похищая или убивая того или иного эмигрантского руководителя или активиста.
Затем воля начальства перебросила постепенно растущего в должности контрразведчика в Среднюю Азию. В марте 1927 г. Барковский стал старшим уполномоченным, а затем начальником отделения в ГПУ Туркменской ССР. Скорее всего, в Ашхабад его пригласил глава ГПУ Туркмении В. А. Каруцкий, отлично знавший кадры дальневосточных разведчиков. И там перед Барковским наличествовало обширное поле деятельности – одна охота за многочисленными басмачами, легко уходившими после своих набегов за границу, чего стоила. А ведь Средняя Азия к тому же много лет находилась под солидным агентурным колпаком очень профессиональной британской разведки Интеллидженс Сервис… Когда по приказу Москвы отделы контрразведки слили с особыми отделами, Барковский стал военным контрразведчиком: с сентября 1930 г. он работал помощником начальника и начальником Особого отдела ГПУ Туркмении, занимаясь теперь подавлением крестьянских восстаний.
В следующем году Барковского наконец-то приняли кандидатом в члены партии, но из-за начавшихся три года спустя следовавших друг за другом чисток и проверок партбилетов он так и не успел стать полноправным коммунистом. В феврале 1933 г. Барковского перебросили в соседний Казахстан – так началось его обратное движение на восток, закончившееся Сибирью. В Алма-Ате Барковский получил должность помначальника Особого отдела ОГПУ-НКВД Казахской ССР, но не сильно засиделся в аппарате. Год спустя, в феврале 1934 г., этот достаточно высокопоставленный работник ОГПУ вдруг надолго исчез из столицы Казахстана. Началась его последняя зарубежная командировка.
Дело в том, что как раз тогда в «особом районе Китая» Синьцзяне произошли большие перемены. Этот граничивший с Советским Союзом регион был почти независим от центральных властей и в раздираемом гражданской войной Китае стал ареной противоборства Англии, Японии и большевиков. Основное население Синьцзяна составляли отнюдь не китайцы, а уйгуры, казахи, киргизы, дунгане. Туда от большевиков бежали басмачи из Средней Азии, а в 1933 г. хлынул поток жертв «великого джута» – истребительного голода, постигшего казахов после гибели основной части скота в результате коллективизации. Не меньше ста тысяч полуживых казахов оказались в голодавшей чуть менее сильно Западной Сибири, но гораздо большее количество откочевало в Китай, оставшись там навсегда. Кое-кто из беглецов в составе вооружённых отрядов пробивался обратно в СССР, чтобы по возможности отомстить за большевистский геноцид. Так что у чекистов Казахстана были большие интересы в Китае.
А тут как раз весной 1933 г. ставленник Гоминьдана в Синьцзяне был свергнут генералом Шэн Ши-Цаем, лояльным к СССР. Чтобы подавить восстание дунган против великодержавной политики Китая, новый губернатор обратился к советским товарищам.
В Москве быстро создали солидную оперативную группировку из воинских частей и пограничников, укреплённую не менее солидным чекистским аппаратом. Александр Барковский как человек очень подготовленный возглавил войсковую разведку группировки. В течение года эта секретная воинская часть с переменным успехом воевала с поддерживаемыми японцами мятежными дунганами, в конце концов подавив восстание. Среди работников нашей разведки было мало тех, кто был знаком с местными условиями и силами противника; организовать хорошую связь на огромной территории также было крайне трудно[343]343
Папчинский А.А., Тумшис М.А. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. – М., 2001. С. 86–87, 308.
[Закрыть].
Но победителей не судят. Многомесячные и очень затратные усилия по усмирению Синьцзяна были оценены наверху положительно. Барковский теперь мог сменить привычное ещё со времён первой мировой войны седло на автомобиль, покинув пыльную да опасную китайскую степь и обосновавшись в бурно растущем почти 400-тысячном Новосибирске – главном центре оборонной промышленности Сибири. Получение неплохой должности в столице Сибири выглядело – на фоне политической истерии после убийства Кирова – очень даже сносно. Причина переезда в Новосибирск была проста: именно туда в январе 1935 г. получил назначение бывший глава туркменских и казахстанских чекистов Василий Каруцкий, забравший на новое место группу своих алма-атинских подчинённых.
Война с консульствами
Так последней работой Барковского стало кураторство особистами Западной Сибири. В апреле 1935 г. он прибыл в Новосибирск на должность замначальника Особого отдела ГУГБ НКВД СибВО (одновременно из Сталинграда прибыл начальник Особотдела Н. Д. Пик, чекист опытный, но очень грубый и несдержанный). Барковский стал вторым человеком в крупном оперативном отделе, выискивавшим врагов народа в частях округа, включая и многочисленные войска НКВД (засоренность конвойных войск «чуждым элементом» чекисты в тот период оценивали в целых 8 %).
В феврале 1935 г. на закрытом партсобрании УГБ управления НКВД обсуждались итоги первого из московских процессов, на котором в связи с убийством Кирова был осуждён ряд бывших крупных оппозиционеров, включая Зиновьева и Каменева. Чекист И. Я. Лориц заявил, что в одной из частей СибВО был случай «ведения антисоветских разговоров среди комполитсостава, а оперативный работник, получив такие сигналы, не довёл разоблачение этих лиц до конца».
Его коллега с беспокойством подчеркнул: «Есть командиры, которые преувеличивают роль Троцкого в гражданской войне, и такие факты своевременно не вскрываются». Посыпал голову пеплом и парторг управления Н. М. Терентьев: «И в нашей парторганизации имеются отдельные лица, которые… отмечают руководящую роль Троцкого, Зиновьева, Каменева в гражданской войне»[344]344
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 259–260; ГАНО. Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 8. Л. 69; Д. 138. Л. 45.
[Закрыть].
Особисты постоянно привлекались к различным крупным репрессивным акциям. Оперативник П. С. Шеманский в мае 1935 г. был командирован в Томск для помощи в расследовании дела на 35 чел., а также участвовал в изъятии «контрреволюционного элемента» в расположенном неподалеку от Томска Асиновском районе. А его коллега Е. В. Климко с августа 1936 г. около трёх месяцев работал в Немецком районе ЗСК по «ликвидации шпионских ячеек» и участвовал в арестах «шпионов»[345]345
АУФСБ по НСО. Д. П-9608. Л. 1-162; Д. П-5407. Л. 12.
[Закрыть].
В работе чекистов разных специализаций проявлялись ведомственные противоречия: так, весной 1937 г. оперативник Секретно-политического отдела В. С. Иванов жаловался на пренебрежение особистами результатами работы коллег из других подразделений УНКВД: «Мной в начале 1936 г. в китайском колхозе Новосибирского района была вскрыта шпионская группа. Материал по этой разработке был передан в особый отдел. Там её свели на нет. Почему? Я не знаю. По-моему, этот материал заслуживал внимания».
Особисты также курировали оборонную промышленность и следили за персоналом германского, китайского и японского консульств. В основном контрразведчики передвигались тогда (даже в городах!) гужевым транспортом, что не весьма способствовало секретности наблюдения. Отметим, что в год приезда Барковского в Новосибирск на их улице случился настоящий праздник: особистам специально для слежки за автомобилем японского консульства была выделена легковушка[346]346
Тепляков А.Г. Суета вокруг консульства. Новосибирские чекисты, их агенты и дипломаты // Слово Сибири (Новосибирск). № 9, сент. 1997. С. 7.
[Закрыть]. Небольшой по численности аппарат наружного наблюдения не смог сохранить конспирацию, и всех «топтунов» японские и немецкие дипломаты знали в лицо.
Например, один из агентов «наружки» жаловался коллегам на нахальство бывшего секретаря германского консульства К. Л. Кёстинга, который якобы «вёл большую разведывательную работу на территории Новосибирской области… он буквально знал каждого разведчика, ходил мимо них, снимал головной убор и кланялся, приговаривая, что «можете сегодня за мной не ходить, так как я идти сегодня никуда не намерен»[347]347
Тепляков А.Г. Персонал и повседневность Новосибирского УНКВД… С. 259–260.
Консула хорошо знали в Новосибирске. Как сказал на допросе один инженер: «Все знали, что самый высокий человек в Новосибирске, одетый по-иностранному, это германский консул». АУФСБ по НСО. Д. П-7496. Л. 58.
[Закрыть].
Многолетнего германского генконсула и кадрового дипломата Гросскопфа сибирские чекисты считали матёрым резидентом, хотя после возвращения в Германию он работал в МИДе, а сводки, присылавшиеся Гросскопфом из Новосибирска в посольство, были очень скудны, поверхностны и базировались в основном на материалах советской печати. Работали ли по разведывательной части его подчинённые, неизвестно, так как никаких конкретных данных об их шпионской деятельности никогда обнародовано не было. Попутно отметим ложность высказываний авторов учебника истории КГБ о том, что «штаты консульств Германии и Японии в Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, Тбилиси, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и других городах в основном состояли из кадровых офицеров-разведчиков, вербовавших немцев, японцев, китайцев, корейцев, а также местных жителей»[348]348
История советских органов государственной безопасности. – М., 1977. С. 268.
[Закрыть]. В условиях жесточайшей слежки у зарубежных дипломатов было немного возможностей для агентурной работы среди советских людей[349]349
Впрочем, тысячи ежегодно фабриковавшихся дел о «шпионаже» прикрывали порой и очевидные провалы контрразведывательной работы. Польский разведчик Г. И. Варга, который в 1938–1939 гг. являлся офицером для особых поручений при начальнике польского генштаба генерале Р. Смиглы, в 1961 г. писал старому меньшевику Б. Н. Николаевскому о своём «случайном» агенте в троцкистской среде второй половины 20-х годов. См. Троцкий Л. Д. Дневники и письма /Под ред. Ю. Г. Фельштинского. – М., 1994.
Есть сведения о работе «крота» в окружении высшего политического руководства СССР, передававшего в 1920-х гг. важнейшие документы в Лондон. Благодаря агенту НКВД в МИДе Великобритании Д. Маклину чекисты в 1936 г. отследили наличие у англичан информации о «мобилизации советской индустрии, проведённой в апреле 1932 года, как результат напряжённости на Дальнем Востоке». Вероятно, эти данные предоставил британской разведке завербованный офицером МИ-6 Г. Гибсоном в 1933 г. сотрудник НКИД СССР – так называемый «шпион Гибби». Царев О., Костелло Дж. Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, сталинского мастера шпионажа. – М., 1995. С. 224, 228. Жесточайший разгром аппарата НКИД в 1937–1939 гг. не в последнюю очередь мог быть вызван именно попыткой устранения таинственного «шпиона Гибби».
[Закрыть].
По инициативе чекистов власти чинили консульству Германии всяческие препятствия. У Гросскопфа не было собственного автомобиля, и ему с августа 1934 г. было фактически запрещено, например, арендовать машину, которая в нужный для консула момент всегда оказывалась в «ремонте», а предоставить другую также «не было возможности». Гросскопф сообщал в МИД, что эти препятствия должны были пресечь его попытки совершать загородные поездки. В 1933 г. немецкое и японское консульства жаловались на неаккуратную доставку газет[350]350
Belkowez L., Belkowez S. Gescheiterte Hoffnungen. Das deutsche Generakonsulat in Sibirien 1923–1938. Klartext Verlag, Essen. 2004. S. 105; АУФСБ по НСО. Д. П-9682. Т. 2. Л. 165.
[Закрыть], а позднее им мешали даже подписываться на нужные издания.
После фактического запрета пользоваться советским автотранспортом чекисты занялись небезуспешным созданием атмосферы морального террора. Так, в апреле 1935 г. был произведен обыск в квартире хорошего знакомого Гросскопфа – инженера В. П. Замятина, брата жены секретаря консульства В. Г. Кремера. Позднее Замятин был арестован и в 1936 г. расстрелян как немецкий шпион. Смертный приговор Замятину был первым, затрагивающим близких консулу людей, и вызвал шок в консульстве. Весной 1935 г. был арестован инженер, муж кухарки Кремера, а вскоре за этим последовал арест старого электрика, который многие годы отвечал за электрическое освещение немецкого и японского консульств. Некоторое время спустя на улице была задержана и сфотографирована кухарка Гросскопфа, после чего две портнихи, обслуживавшие сотрудников консульства, заявили о прекращении своей работы из опасения быть арестованными.
Летом 1935 г. разразился «дачный скандал». Три последних года консульство через Кремера снимало одну из двух частных дач, имевшихся в Ельцовке – пригороде Новосибирска. В июне 1935 г. владелец дачи объявил о преждевременном прекращении аренды, прямо ссылаясь на многочисленные аресты людей, связанных с консульством. Гросскопф исходил из того, что на владельца дачи было оказано давление, и обратился с жалобой в Запсибкрайисполком. Разумеется, власти ответили, что подозрения консула совершенно беспочвенны[351]351
Belkowez L., Belkowez S. Gescheiterte Hoffnungen… S. 105–107.
[Закрыть].
Скорее всего, серьёзную разведывательную работу немецкие дипломаты не проводили. Зато относительно деятельности японской разведки ясности несколько больше. В середине 1930-х гг. в Новосибирске, сменяя друг друга, работало несколько опытных офицеров-разведчиков японского генштаба, которые усиленно следили за передвижениями военных грузов на Дальний Восток по железной дороге. Слежка за ними путём крайне агрессивного наружного наблюдения (чекисты в буквальном смысле «пасли» японцев даже в вагонных туалетах!) и внедрения агентуры в консульство также велась постоянно.
Слуги микадо в первой половине ХХ века очень интересовались богатой Сибирью. С апреля 1926 до ноября 1937 г. в Новосибирске работало японское консульство. С 1929 г. его секретарем и управляющим являлся Накамура Кумасо (Кумасабуро). Как отмечали четверть века спустя сотрудники УКГБ по Новосибирской области, Накамура «занимался разведывательной деятельностью, собирал сведения о промышленных предприятиях г. Новосибирска, ходе коллективизации в области, об экспорте и импорте, о Турксибе. В этих целях Накамура обрабатывал прессу, делал вырезки и выписки из газет, журналов и других изданий и все это переводил на японский язык. Кроме того, он пытался достать материалы, характеризующие состояние промышленности и сельского хозяйства, материалы о Турксибе, об экспорте и импорте, которые не издавались в печати». Эти данные явно были получены чекистами с помощью своих агентов в консульстве, но сведения о собственно агентурной работе самого Накамура в цитируемом деле отсутствовали. Однако в отчёте Особого отдела ОГПУ СССР (июль 1932 г.) есть упоминание об инциденте с Накамура, который пытался проникнуть в закрытую зону для осмотра одного из военных объектов[352]352
Тепляков А. Г. «Непроницаемые недра»: ВЧК-ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг. – М., 2007. С. 195; АУФСБ по НСО. Д. П-7496. Л. 58; Зданович А. А. Органы государственной безопасности и Красная армия: Деятельность органов ВЧК – ОГПУ по обеспечению безопасности РККА (1921–1934). – М., 2008. С. 694.
[Закрыть].
В середине 30-х годов консулом работал Я. Коянаги, а в апреле 1937 г. его сменил Х. Ота, который в 1945 г. был арестован советскими чекистами в Маньчжурии и дал некоторые показания о своей работе в Новосибирске. Сначала Ота заявил, что в середине 30-х годов практически все дипломатические учреждения империи в Советском Союзе вели шпионскую деятельность: «Офицеры разведки были почти везде. Такасина работал в качестве секретаря японского консульства во Владивостоке под псевдонимом Танака, Укути – в Хабаровске под псевдонимом Фудзии, Амано – в Александровске на Сахалине под псевдонимом Сато, Мацудару работал в Чите…»[353]353
Bobrenyov V.A. Shiberia yokuryu: sha. KGB-no mashu-ni torawarete (Тайная история интернированных в Сибирь. В дьявольских лапах КГБ). Shu: sen shiryou: kan shuppanbu, 1992. S. 163.
[Закрыть]
Согласно сведениям, любезно предоставленным проф. Х. Куромия (США), с 1932 г. среди персонала японского консульства в Новосибирске обязательно работал представитель военной разведки. С июня 1932 по март 1934 г. это был Фукабори Юки, с марта 1934 по март 1935 г. – Кавамэ Таро. А с марта 1935 по ноябрь 1937 г. разведкой занимался майор Такасина Акира, который представлялся как Танака (в материалах НКВД А. Такасина ошибочно фигурирует как Танака Камон – скорее всего, чекисты приняли за имя должность, поскольку дипломаты звали первого секретаря консульства «Танака комон», что означало просто «советник Танака»). Кстати, современные чекисты ошибочно пишут, что настоящее имя А. Такасина – Така. Таким образом, из Владивостока, где Такасина работал под фамилией Танака, он прибыл в Новосибирск – должно быть, вместе с информацией от УНКВД по Дальневосточному краю о какой-то его предосудительной деятельности.
Наши чекисты считали главными шпионами секретарей консульства. Обычно их было несколько: первый секретарь и просто секретари. По данным НКВД, с 16 сентября 1932 по 20 марта 1934 г. секретарём консульства работал Ота Хисаси, а с 1934 по ноябрь 1935 г. – Сакабэ, которого новосибирские контрразведчики характеризовали как замкнутого человека, любителя поохотиться в тайге. В 1937 г. первым секретарём консульства был А. Такасина[354]354
АУФСБ по НСО. Д. П-2553. Л. 286–288; Д. П-3745. Л. 32; Д. П-5590. Т. 3. Л. 26.
[Закрыть].
В досье, которые собирали новосибирские чекисты, значатся и другие секретари консульства: Кобаяси Дзиро (с 1 декабря 1932 по 1935 г.), Осуми (с 18 мая 1934 по ноябрь 1935 г.), Сайто (1935–1937 гг.), а также Такахаси Сэнсиро, даты работы которого в справке УКГБ не были указаны. Помощником у Такасина был второй секретарь Сайто, который одновременно исполнял обязанности шифровальщика и бухгалтера. Известно, что Сайто вместе с Одагири ездили в 1936 г. под видом туристов в Кузбасс и Томск. Следует учитывать, что часть дипломатов (помимо «чистых» разведчиков Фукабори, Кавамэ и Такасина) могла тоже действовать под псевдонимами. Возможно, что разведчики Фукабори и Кавамэ являлись военными атташе; о том, что эти легальные разведывательные должности были заполнены, говорит факт наличия в середине 30-х годов среди японских дипломатов Такацуи Тамоцу – секретаря военного атташе[355]355
Bobrenyov V.A. Shiberia yokuryu: sha… S. 160; АУФСБ по НСО. Д. П-5590. Т. 3. Л. 24.
[Закрыть].
Находясь под плотнейшим колпаком наружного наблюдения, японцы не могли рассчитывать на обретение заметных агентурных позиций в военно-промышленных структурах Западной Сибири. Но главные аналитические выводы, которые от них требовались, работники консульства сделали, оказав империи серьёзную внешнеполитическую услугу. Впрочем, поняв, что СССР не собирается воевать с Японией из-за Китая, а намерен ограничиться массированными поставками вооружений Гоминьдану, уже в 1938 и 1939 гг. японская армия серьёзно пощупала мускулы северного соседа у оз. Хасан и в Монголии…
Консул Х. Ота на следствии показал чекистам (делая вид, что консульство с его приездом только-только было учреждено) следующее: «С началом военных действий в Китае мы получили указание от японского МИДа выяснить, как советские власти и население смотрят на вторжение японских войск в Китай, намерен ли Советский Союз вмешаться в эту войну, перебрасываются ли военные части на восток. С апреля 1937 г. руководством разведывательной деятельностью на этом направлении занимался лично я. Поскольку это был период сразу после учреждения консульства, ни одного агента [из числа местного населения] не было.
И я, и секретари консульства, в особенности Такасина, часто отправлялись за город к местам дислокации войск и на железнодорожные станции, собирая там интересующую нас информацию. Почти каждый день мы переправлялись через мост над Обью и под предлогом отдыха проводили на речном берегу большую часть дня, отслеживая прохождение товарных составов и исследуя особенности перевозимых грузов. Таким образом, мы убедились, что войска на восток не перебрасываются, и в своем донесении в МИД я изложил свои выводы о том, что СССР не намерен вмешиваться в войну».
О первом секретаре консул Ота дал довольно интригующие сведения: «Такасина собирал подробную информацию о находившемся в окрестностях Новосибирска авиационном заводе. Я не знаю, через кого он получал сведения, но информация была настолько интересной, что офицер генерального штаба, специалист по авиации – насколько помню, Судзуки (это одна из очень распространённых японских фамилий, поэтому, возможно, она приведена Ота с целью маскировки – А. Т.) – несколько раз приезжал в Новосибирск под предлогом доставки дипломатической почты»[356]356
Bobrenyov V.A. Shiberia yokuryu: sha… S. 165, 166.
[Закрыть].