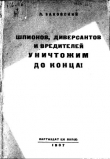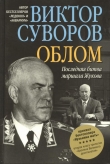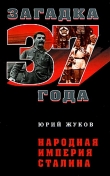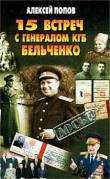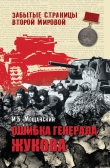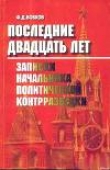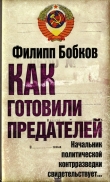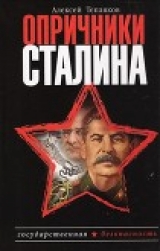
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Последний наговор на себя Барковский был вынужден предпринять 17 декабря 1937 г., дав собственноручно написанные показания о работе на германскую разведку. К тому времени у чекистов уже были показания секретаря консульства В. Г. Кремера, давшего показания о шпионской работе двух десятков руководителей Запсибкрая. Один абзац показаний Кремера был посвящён нашему герою: дескать, в конце 1935 г. Барковского завербовал консул Германии в Новосибирске Г. Гросскопф; при вербовке особист якобы признался в своей давней работе на польскую разведку, заявив, что-де теперь с удовольствием поработает и на немцев.
Шпионская работа бывшего замначальника особого отдела заключалась в том, что он информировал германскую разведку о деятельности органов НКВД и выдал агентуру, освещавшую консульство. Действительно, весь обслуживающий персонал консульства был завербован ОГПУ-НКВД; агентом Особого отдела по кличке «Спортсмен» являлся сам Кремер.
По словам Барковского, он принял «Спортсмена» на связь после приезда, а тот ему вскоре сказал, что знает: Барковский является-де польским шпионом… Барковский был завербован Кремером в августе 1936 г. и рассказывал ему о поведении на допросах некоторых арестованных немцев. Более широкой информации не давал, так как опасался скорого ареста Кремера, на чём настаивали в УНКВД. А в январе 37-го Барковский передал Кремера на связь начальнику КРО Д. Д. Гречухину и больше с ним не встречался. К сожалению, узнать подробности действительной многолетней работы Кремера на советскую контрразведку невозможно, ибо его личное агентурное дело и дело-формуляр летом 1991 г. во время панической чистки документов КГБ были уничтожены «в связи с истечением сроков хранения»[370]370
Белковец Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х – 1930-е годы). – М., 1995. С. 261; ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-5485. Т. 2. Л. 98–99; АУФСБ по НСО. Д. П-3715 (материалы дополнительной проверки дела В.М. Шишковского). Л. 46–47.
[Закрыть].
Барковский не дождался открытого суда, на котором рассчитывал доказать ложность своих «признаний». Его фамилия была внесена Ежовым в специальный список, который незамедлительно оказался на столе в кабинете товарища Сталина. Список был невелик – всего 8 человек, поэтому вождь счёл возможным не визировать его лично (это бывало нечасто, обычно Сталин охотно скреплял расстрельный приговор своей подписью), а передал соратникам. Те – А. А. Жданов, В. М. Молотов, Л. М. Каганович и К. Е. Ворошилов – 3 января 1938 года поставили четыре автографа, обрекая восьмёрку суду по «первой категории»[371]371
Сталинские расстрельные списки. М., 2002.
[Закрыть].
На деле подписи Сталина и его присных в случае, касавшемся работников НКВД, означали отсутствие даже комедии суда в заседании военной коллегии, где приговор был предрешён заранее. Многих видных чекистов старались вообще не выпускать к судьям, а расстреливать в так называемом особом порядке, без всякого судебного решения.
В деле № 612444 не оказалось ни протокола об окончании следствия, ни даже обвинительного заключения. Барковского просто неделю спустя выдали коменданту Военной коллегии Верховного Суда СССР с предписанием немедленно расстрелять. Предписание, заменявшее приговор, состоялось 10 января 1938 г., в тот же день Барковский был казнён. Сведения о реабилитации разведчика и особиста нами не обнаружены – вероятно, прокуроры при проверке его заведомо липового дела учли факты, свидетельствовавшие об участии Барковского в массовых репрессиях, на что есть прямые указания в реабилитационных материалах, касавшихся расстрелянных офицеров СибВО[372]372
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА 1937–1938. – М., 1998. С. 97, 179; АУФСБ по НСО. Д. П-4436. Т. 1. Л. 13–14; Т. 2. Л. 40–42, 256; Д. П-3686. Л. 1–2, 13, 54; Д. П-5030. Т. 3. Л. 71-72
[Закрыть].
Георгий Жуков 2-й – опальный любимец Сталина
У маршала Георгия Жукова было в одно и то же время два однофамильца и тёзки: один генерал войсковой, другой – энкаведешный. Войсковой больше был известен политическим доносом на маршала А. И. Егорова, который одно время с подачи писателя от спецслужб В. В. Карпова приписывали маршалу Жукову. А о гебисте Жукове вообще ничего известно не было, хотя дослужился он до генерал-лейтенанта и карьеру в годы войны делал просто отличную. О нём и речь.
Начало его биографии стандартное для чекистов, выдвинувшихся в 1930-х – крестьянский сын 1907 г.р., комсомолец с семнадцати лет, рабочий-электромонтёр, потом секретарь райкома комсомола, в 1929-м мобилизован в армию, а уже в следующем году передан в органы военной контрразведки. Сначала Жукова определили в Особый отдел НКВД Белорусского военного округа в Смоленске. Там он начинает с младшей должности, показывает себя умелым борцом с «контрреволюцией» (одновременно, демонстрируя тягу к знаниям, заканчивает вечерний комвуз) и уже весной 1936 г. получает достаточно солидную должность – помощника начальника, а потом и заместителя начальника Дорожно-транспортного отдела ГУГБ НКВД Западной железной дороги с центром в Смоленске.
Надо сказать, что транспортники в системе ОГПУ-НКВД считались чекистами второго сорта, ибо в течение многих лет на них возлагалась, помимо обеспечения государственной безопасности, и охрана порядка, что сближало функции дорожно-транспортных отделов с милицейскими органами. Действительно, если «обычные» чекисты легко меняли специализации, кочуя из особых и экономических отделов в секретно-политические и контрразведывательные, то транспортники, которых набирали обычно из железнодорожных рабочих и служащих, чаще варились в собственном соку. Но всё же из этой среды вышло не так уж мало видных контрразведчиков. Г. С. Жуков – один из самых ярких тому примеров, хотя следует учесть, что изначально начинал он со службы в особом отделе. В 1937-м транспортников освободили от милицейских обязанностей, и они со страшной силой обрушились на «врагов народа».
Именно «Большой террор» позволил Жукову выдвинуться – с августа 1938-го по май 1939 г. он работал начальником ДТО ГУГБ НКВД Западной железной дороги, возглавляя аппарат из нескольких десятков следователей. Хвост из многих сотен уничтоженных людей за Жуковым тянулся такой, что посадить его намеревались в течение целого года. В феврале 1940 г. военный трибунал Белорусского военокруга постановил привлечь чекиста к уголовной ответственности за незаконные массовые аресты, избиения и расстрелы.
После снятия с работы в Смоленске Жуков более полутора лет ждал назначения, находясь в резерве, но в итоге не проиграл: бериевский отдел кадров пригласил его в центральный аппарат НКВД на должность начальника отделения. Это означало, что обошлось даже без понижения. Хоть в 1940 г. вопрос об аресте Жукова трижды (!) ставился особой комиссией НКВД СССР, но такими ценными кадрами товарищ Берия разбрасываться не пожелал. Законникам всё же швырнули косточку: в начале 1941 г. по приказанию Л. П. Берии и В. Н. Меркулова Жукову дали 20-суточный арест за нарушения законности в 1937–1938 гг.
С февраля 1941 г. Жуков работал замначальника 1-го отдела Второго (контрразведывательного) управления НКГБ СССР, а в августе получил пост начальника 4-го отдела Второго управления НКВД СССР. О функциях этого отдела может дать представление перечень обязанностей, возложенных на пять его отделений. Первое отделение «обслуживало» агентурным наблюдением польское, чешское, югославское, греческое, шведское и норвежское посольства и миссии, а также колонии, военные миссии и атташат. Второе занималось организацией агентурной работы по линии польских нелегальных организаций в генерал-губернаторстве, польской ссылкой и лагерями, польскими колониями за рубежом. Третьему отделению была поручена следственная работа, четвёртое ведало представительством свободной Франции и испанской эмиграцией. На пятое отделение была возложена закордонная работа.
С мая 1943 г. комиссар госбезопасности 3-го ранга Жуков возглавлял 7-й отдел Второго управления НКГБ, имевший аналогичные задачи. С 17 августа 1941 г. по сентябрь 1944 г. он одновременно был заместителем уполномоченного Генштаба по делам иностранных военных формирований, уполномоченным СНК СССР по иностранным союзным формированиям на территории СССР и уполномоченным Ставки ВГК по этим вопросам. В январе 1942 г. ему добавили должность главного офицера связи НКВД при командовании Чехословацкой армии. С июля 1944 по 19 сентября 1944 г. Жуков был заместителем представителя правительства СССР в Польше (г. Люблин). Его работа требовала постоянного контакта с верховной властью: как свидетельствует журнал посещений Верховного Главнокомандующего, в 1942–1944 гг. комиссар госбезопасности Жуков в течение 21 раза встречался со Сталиным[373]373
Тепляков А.Г. Портреты сибирских чекистов //Возвращение памяти: Историко-архивный альманах. Вып. 3. – Новосибирск, 1997. С. 108–109; РГАНИ. Ф. 6. Оп. 3. Д. 594. Л. 144–154; Исторический архив. 1998, № 4.
Младшие братья Жукова тоже пошли в чекисты. Средний брат Николай, будучи лейтенантом госбезопасности, в 1939-м за нарушения законности получил шесть лет заключения, в 1941 г. был амнистирован и впоследствии работал замначальника областной милиции в Куйбышеве, где в 1946 г. его осудили на восемь лет за некое должностное преступление. Младший брат Сергей – заместитель начальника отдела УНКВД по Львовской области – пропал без вести под Киевом осенью 1941 г.
[Закрыть].
Начальник над славянскими союзниками
Хорошо запомнил генерала Жукова один из соратников Тито М. Джилас, впоследствии написавший любопытные мемуары и важную книгу о коммунистической номенклатуре «Новый класс», что стоило ему многих лет в югославской тюрьме. Согласно мемуарам М. Джиласа, встречавшегося с Жуковым в 1944 г., «стройный и бледный блондин, всё ещё молодой и очень находчивый, Жуков не был лишён чувства юмора и изысканного цинизма – качеств нередких для сотрудников секретных служб. Говоря о Югославской бригаде, он сказал мне: «Неплохо, учитывая материал, с которым нам пришлось работать» […] Жуков был прекрасным государственным служащим, и на основе опыта на него большее впечатление производила сила, нежели идеология, в качестве средства достижения коммунизма. Отношения между нами достигли известной степени близости, хотя в то же время были и сдержанными, потому что ничто не могло отодвинуть в сторону расхождений в наших привычках и взглядах… Жуков подарил мне офицерский ручной пулемёт – подарок скромный, но полезный в военное время».
Вспоминая о встрече со Сталиным, Джилас упомянул эпизод с обсуждением вопроса о широких поставках югославским партизанам советского оружия. Сталин посетовал, что Черноморский флот уничтожен и вооружения перевозить нечем. Жуков предложил перебросить корабли с Дальнего Востока на Чёрное море, но вождю не угодил: «Сталин грубо и категорически оборвал его. Из сдержанного и почти озорного человека вдруг выглянул совсем другой Сталин:
– О чём только вы думаете? Вы в здравом уме? На Дальнем Востоке идёт война. Безусловно, кое-кто не упустит возможности потопить эти корабли. В самом деле! Корабли придётся закупить… Египет продаст – Египет продаст что угодно, поэтому они точно продадут нам корабли.
[…] Генерал Жуков быстро и молча сделал заметку о решениях Сталина. Но закупка кораблей и поставка югославам советских судов так и не состоялась… – Красная армия вскоре достигла югославской границы и, таким образом, могла оказывать помощь Югославии на суше»[374]374
Джилас М. Беседы со Сталиным. – М., 2002. С. 49–50, 76–77.
[Закрыть].
Особенно «изысканный цинизм» пригодился генералу НКВД при общении с поляками, которых требовалось «агентурно обслуживать». Когда после начала войны СССР восстановил дипотношения с Польшей и постановил амнистировать арестованных поляков, то разнообразную помощь разбросанным по СССР более чем 300 тыс. поляков оказывали курируемые польским посольством 807 различных организаций с 2.639 сотрудниками. Их работа тревожила НКВД. В августе 1941 г. майор госбезопасности Жуков предписал «подобрать представителей для связи с польским посольством по оказанию помощи полякам… за счёт проверенной и не расшифрованной среди поляков агентуры».
К сентябрю 1942 г. отдел Жукова составил подробный список военнослужащих польской армии, оставшихся на советской территории после ухода армии Андерса в Иран. Это были более двухсот офицеров и солдат, которые либо дезертировали, либо находились на излечении или в командировке. Все они подозревались в шпионаже. По мнению современного исследователя М. А. Тумшиса, 20–30 % из них были готовы приступить к «активной разведывательной работе». При этом расчёте Тумшис опирается на факты обнаружения польских агентурных сетей в Узбекистане и Казахстане. Но вряд ли официальные отчёты о работе контрразведки военных лет можно так легко принимать на веру. Например, алтайские чекисты в 1942 г. сфабриковали дело на большую «шпионскую группу» из польских граждан, которое впоследствии было прекращено как совершенно необоснованное[375]375
Лебедева Н.С. Армия Андерса в документах российских архивов //Репрессии против поляков и польских граждан. – М., 1997. С. 179–180, 187, 191; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни. Документы. – М., 2001. С. 619–620; Тумшис М.А. ВЧК. Война кланов. – М., 2004. С. 257; ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. П-20120 (тт. 1–4).
[Закрыть].
Организовывая польские войска, Жуков одновременно участвовал в большой лжи вокруг катынской трагедии. В своих письмах в январе 1942 г. к Г. С. Жукову командующий польской армией генерал Владислав Андерс писал, до какой степени бесплодные поиски пропавших военнопленных затрудняют организацию армии, как сильно морально угнетают и его самого, и его сотрудников. Позднее Андерс вспоминал: «С момента эвакуации тех трёх лагерей (Старобельск-1, Козельск-1 и Осташково) в апреле-мае 1940 года не осталось и следа от 15000 военнопленных (среди которых было 8 тысяч офицеров). Нам тогда еще и в голову не приходило, что 15 тысяч военнопленных убиты, мы упорно, каждый день спрашивали о них каждого. Слухов о том, что большевистские власти провели массовую хладнокровную ликвидацию, мы поначалу даже не хотели принимать во внимание…» В операции по уничтожению польских граждан принимало участие большое количество энкаведешников, так что Жуков наверняка знал о судьбе тех, кого безуспешно разыскивало эмигрантское польское руководство.
Секретарём в отделе Жукова работала Г. И. Маркина, недавно вспомнившая отдающий апокрифом эпизод с вызовом к Сталину Жукова и генерала Андерса, который должен был возглавить создающуюся польскую армию: «Берия представляет Сталину Жукова: майор госбезопасности. Сталин уточняет: «Не майор, а генерал-майор. Не может майор работать с генералом польской армии». Трудно поверить, но всё так и было. Я, как секретарь, провожала его к Сталину майором. Возвращается, идет по коридору и посвистывает. Открывает дверь, руку под козырек: «Генерал-майор Жуков прибыл в ваше распоряжение!» Мы вскочили и вытянулись – генерал же перед нами…»
На самом деле Жуков получил приравнивавшееся к комбригу звание майора госбезопасности именно в августе 1941 г., как раз к моменту начала работы с поляками, и с этого времени действительно мог считать себя генералом. Следующий чин – комиссара госбезопасности – достался ему в 1943 г., а комиссара ГБ 3-го ранга – в 1944-м.
Другой эпизод стоил Маркиной седых волос: «Звонит мне Жуков: «Галя, я выезжаю в Коминтерн». Телефон для связи не оставил. Минут через 40 – звонок по вертушке. Беру трубку. «Говорит Берия. Где Жуков?» Отвечаю, что уехал. «Немедленно разыскать, пусть позвонит в приемную Сталина!» Я всех подключила, позвонила и в Коминтерн, сообщила «наружке», чтоб срочно нашли. Тут опять звонит вертушка, на проводе Берия: «Нашли Жукова?» Говорю, что ищем. С сильным таким акцентом: «Так вот, дэвушка, если через пять минут он не позвонит Сталину, я тебя повэшу». И бросает трубку. Опять обзваниваю всех, ищу, меня пытаются успокоить. Жду, состояние словами трудно передать. Берия был очень суровый человек. Через некоторое время возвращается Жуков. Пришел, собрал документы, уехал. Возвращается, подходит ко мне и говорит: «Галя, Берия просил передать, что он тебя не повесит».
Активная работа Жукова по организации союзных воинских формирований была отмечена советскими и иностранными орденами. В 1943–1944 гг. он получил чехословацкий «Боевой крест» и югославскую «Партизанскую звезду» первой степени, а также два ордена Красного Знамени – за «охрану государственной безопасности» (в сентябре 1943 г.) и за выполнение «особых заданий» (в апреле 1944 г.). Жуков был удостоен ордена Красной Звезды, а также знака «Заслуженный работник НКВД» – за успешную «борьбу с контрреволюцией» (февраль 1942 г.).
Но осенью 1944 г. прекрасная карьера Жукова рухнула с треском. Он стал вторым по счёту комиссаром госбезопасности, устранённым благодаря интригам шефа военной контрразведки «Смерш» Виктора Абакумова (в 1943-м Абакумовым был арестован один из руководителей Секретно-политического управления НКГБ В. Н. Ильин[376]376
Елков И. Её звали Жанной //Деловой вторник. 2007, 27 февр.; Тепляков А. Чекист для Союза писателей //Политический журнал. 2007, № 11–12 от 2 апр. 2007. С. 106–109.
[Закрыть]). Поводом к изгнанию Жукова из контрразведки послужил арест смершевцами нескольких чекистов-евреев, служивших под его началом. Начальнику отдела, пригревшему у себя опасных врагов народа, объявили, что он больше не достоин службы в органах государственной безопасности. И в сентябре 1944 г. Георгий Сергеевич прибыл в Новосибирск на совершенно ничтожную должность начальника Отдела спецпоселений областного УНКВД. Впрочем, вождь народов, как говорится в известном анекдоте, «мог и полоснуть»!..
Сибирская ссылка и начальство над ссыльными
Оказавшись в Новосибирской области, Георгий Сергеевич не пал духом и сразу начал разворачивать работу по улучшению «чекистского обслуживания» многочисленных ссыльных, томившихся по дальним сибирским деревням. Начальник местного УНКВД генерал-майор Ф. П. Петровский, надо полагать, не препятствовал инициативам подчинённого комиссара госбезопасности. Усердие Жукова не осталось незамеченным. В июле 1945 г. при переаттестации начальствующего состава Жуков получил соответствовавшее рангу комиссара ГБ 3-го ранга звание генерал-лейтенанта. Это был ободряющий знак с самого верха – вождь, утвердивший большой список генералов от карательного ведомства, опубликованный в прессе, давал понять, что опала будет временной. Но, как оказалось впоследствии, и очень продолжительной. Ситуация оказалась уникальной – генерал-лейтенант почти четыре года просидел в Сибири на майорской должности при официальном подтверждении его «лампасного» звания!
Жуков получил под своё начало Отдел спецпоселений (ОСП) сразу после приказа НКВД СССР от 16 августа 1944 г., который ввел в действие особую инструкцию по учёту спецпоселенцев. Необходимо было срочно установить количество спецпоселенцев, выявить трудоспособных и контролировать их трудоустройство. Учёт должен был способствовать также своевременному выявлению побегов. Все эти проблемы выглядели для чекистов очень актуально, ибо в период 1940–1944 гг. Сибирь вновь стала одним из центров ссылки, на этот раз национальной. Сюда привезли огромное число поляков и евреев с территорий бывшей Польши, а осенью 41-го – сотни тысяч немцев.
В 1944 г. в Сибири было открыто в дополнение к уже имевшимся (для бывших «кулаков») целых 175 спецкомендатур: по 50 – в Алтайском крае и Омской области, 45 – в Красноярском крае, 30 – в Новосибирской области. Одних только немцев в Сибири было расселено свыше 400 тысяч. Будучи двузвёздным генералом, Жуков курировал отделы спецпоселений в соседних регионах, регулярно выезжая в УМВД Красноярского и Алтайского краев, Томской, Омской и Тюменской областей[377]377
Тепляков А.Г. Портреты сибирских чекистов… С. 109; Белковец Л.П. Спецпоселение немцев в Западной Сибири (1941–1955 гг.) //Репрессии против российских немцев. Наказанный народ. – М., 1999. С. 158, 160.
[Закрыть]. Наверняка ему было известно, как происходило расселение и последующее обеспечение продуктами, например, калмыков, высланных на Алтай…
При приёме поездов со спецпереселенцами там сразу было обнаружено 270 мертвецов. С начала 1944 по сентябрь 1945 г. из 22.212 прибывших калмыков в алтайской земле успокоилось 3.039 человек, а родилось всего 116. Особенно высокой была смертность в первые месяцы: за первый квартал 1944 г. умерло 1.198, в течение второго – 612, в третьем – 241, в четвертом – 331 чел [378]378
ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 30. Д. 48. Л. 191–192.
[Закрыть].
До 1944 г. ссыльных «националов» разрабатывал аппарат местного УНКГБ, который ориентировался на активное выявление «контрреволюционеров». Работал он весьма активно: только в Здвинском районе Новосибирской области за годы войны расстреляли 16 немцев, обвинённых в контрреволюционной деятельности – вредительстве в колхозах, пораженческой агитации и т. д. Затем за ссылку взялся аппарат ОСП. Отделу спецпоселений, получившему спецконтингент в мае 1944 г., пришлось начинать агентурно-оперативную работу почти с нуля.
Ссыльные, враждебные строю «в силу своего социального и политического прошлого», а также заподозренные в склонности к побегам, обеспечивались, с помощью аппаратов районных спецкомендатур, «систематическим осведомительным освещением». На таких лиц чекисты заводили дело-формуляр, что означало начало агентурной разработки. Исчезновение с места жительства человека, который находился в «разработке», давало повод к объявлению местного или всесоюзного розыска.
Для агентов и осведомителей предусматривалось либо денежное вознаграждение за труд, либо «лучшее устройство или перевод в порядке поощрения в лучшие климатические и хозяйственно-трудовые условия». Особо ценные агенты, вербовавшиеся, главным образом, из членов ВКП (б), представлялись к досрочному освобождению из высылки и могли сами выбирать место жительства в районах расселения спецпереселенцев.
Приняв от УНКГБ по Новосибирской области всего 197 осведомителей, оперативники ОСП под руководством Жукова начали бойко пополнять негласный аппарат. И если к 1 октября 1944 г. в ОСП числилось 415 осведомителей, четыре агента и не было ни одного резидента, то уже к 1 января 1945 г. у отдела спецпоселений имелось 8 резидентов, 6 опытных агентов-маршрутников, 23 агента и 1.412 осведомителей, в том числе от органов НКГБ было принято в виде «безвозмездной помощи» три резидента, 12 агентов и 416 осведомителей. К 1 января 1945 г. в Новосибирской области насчитывалось 69.502 ссыльных: немцев – 47.853 (агентура – 847 чел.), калмыков – 16.303 (519), «кулаков» – 3.114 (83), фольксдойчей – 603.
За последний квартал 1944 г. от агентуры было получено 3.480 донесений (что говорило о малой активности большинства осведомителей), в том числе 2.133 донесения, представлявших, как полагали чекисты, оперативный интерес. 937 донесений носили совершенно «заказной» характер и касались конкретных агентурных разработок. К январю 1945 г. на оперативном учёте в ОСП состояло 1.444 чел., в том числе 71 – по агентурным делам (они были обречены на арест), 132 – по делам-формулярам (так именовались чекистские досье) и 941 – по учётным делам.
Учётное дело означало первичный интерес органов к сомнительному человеку, а дело-формуляр показывало более интенсивную стадию накопления информации о нём, когда данного человека «обставляли агентурой» с целью основательной слежки. Агентурное дело велось на какую-либо «контрреволюционную группу» с целью скорой «оперативной ликвидации». Так, по агентурному делу «Сакья-Муни» проходила группа из 21 калмыка, обвинявшихся в активной антисоветской агитации, саботаже и забое скота; она планировалась именно к «быстрейшей ликвидации».
По делу «Паутина» проходило 17 бывших руководящих работников Калмыцкой АССР, жаловавшихся в инстанции на геноцид калмыков и проводивших соответствующую агитацию среди соплеменников, а также ещё 15 чел., отнесённых, если следовать чекистскому жаргону, к «связям» главных фигурантов, которые обращались с жалобами в правительство, утверждая, что в результате несправедливого переселения нация обречена на уничтожение. А. Б. Наднеев, который «высказывал резкие террористические взгляды по адресу вождя народов», а также бывший замнаркома земледелия Исбек Манджиев к началу 1945 г. уже были арестованы.
Рядовой агентурной разработкой на ссыльных немцев являлось дело «Богомолы», по которому проходили жители Андреевского района Иван Гак, Мария Бауэр и Каролина Фогель. Их обвиняли в том, что под предлогом чтения Библии эти «антисоветчики» собирают вокруг себя других ссыльных и проводят «контрреволюционную работу». Всего же за последний квартал 1944 г. чекисты Новосибирской области репрессировали 115 немцев и калмыков.
Отдел спецпоселений подчинялся Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД. Основная агентурно-оперативная работа велась комендантами спецпосёлков, где один осведомитель полагался на 20–30 семей, но на деле сеть была гуще и к началу 1950-х один сексот приходился на 15 ссыльных. Агентов вербовали для разработки уже заведённых агентурных дел, под разными предлогами подводя их к интересующим чекистов лицам. Если рядовых осведомителей вербовали коменданты с разрешения начальников райотделов, то агентов – только сами начальники РО. Комендант, отправляясь на квартиру агента, предварительно, дабы его не расшифровать, посещал несколько квартир прочих ссыльных. Встречи происходили один-два раза в месяц – в помещениях спецкомендатур либо на конспиративных квартирах. Донесения малограмотных принимались в устной форме и записывались в ходе беседы.
Привыкший проявлять инициативу в карательных делах Г. С. Жуков запрашивал вышестоящее начальство, следует ли «без наличия данных об их практической деятельности» привлекать за измену родине выявленных среди репатриантов лиц, служивших в вермахте и СС, немецкой полиции и тюрьмах. Начальник ОСП был готов посадить новые сотни и сотни немцев, но Москва ответила, что сажать следует только по конкретным материалам – за «активную предательскую деятельность».
О повседневной работе ОСП довольно красноречиво говорят некоторые опубликованные документы. В мае 1946 г. Жуков лично сообщал начальнику ОСП МВД о том, как успешно проходит подписка на заём и что делается для того, чтобы голодные и нищие ссыльные отдали значительную часть заработка государству. Особое внимание оперативной работе уделялось в дни государственных праздников. Например, 6 и 7 ноября 1947 г. оперативники отдела приняли 80 негласных работников (четырёх резидентов, 10 агентов и 66 рядовых осведомителей) и 90 агентурных донесений. Восемь человек было подготовлено для вербовки, заагентурен содержатель конспиративной квартиры, допрошено «в порядке фильтрации» 20 немцев-репатриантов.
Донося о низкой явке ссыльных на ноябрьскую демонстрацию, чекисты объясняли это плохой организацией, работой многих спецпереселенцев в ночную смену и отсутствием у них хорошей одежды, а также тем, что «некоторые (калмыки) пьянствовали». Настроение ссыльных характеризовалось как здоровое, а отдельные «отрицательные суждения» вызывались задержками зарплаты на предприятиях и пренебрежительным отношением заводских администраций к обеспечению жилищ работников светом и водой.
К марту 1948 г. у подчинённых Жукова насчитывалось 1.145 осведомителей, 132 агента и 22 резидента. Было заведено дел оперативного учёта на 2.404 человек, в том числе 13 агентурных дел на 71 чел., 266 дел-формуляров и 2.067 учётных дел. Среди них – 140 по подозрению в шпионаже, 55 – по подозрению в националистической деятельности и 659 – на изменников и предателей. Аппарат ОСП очень гордился тем, что в Новосибирской области за всё время не было зафиксировано никаких «политических волынок, банд или диверсионных актов»[379]379
Белковец Л.П. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг.: Историко-правовое исследование. – Новосибирск, 2003. С. 207, 231, 234–235, 238, 251, 254; ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 164; Репрессии против российских немцев… С. 176–180.
[Закрыть].