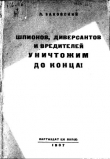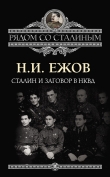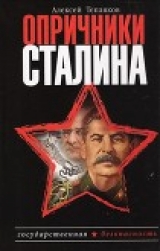
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Вредители и диверсанты
Борьбой с «вредительством» активно занимались сотрудники Экономического отдела полпредства ОГПУ. На их счету был не только «заговор в сельском хозяйстве». Много дел подчинённые полпреда «слепили» на железнодорожников, благо поводов было предостаточно. Путевое хозяйство не выдерживало темпов индустриализации: рельсы Томской железной дороги, уложенные в 1911–1913 гг., двадцать лет спустя требовали полной замены. Но ни рельсов, ни шпал почти не меняли из-за отсутствия ресурсов. И если в период 1915–1916 гг. аварий на Томской дороге не было вообще, то потом они стали стремительно нарастать и в начале 1930-х ежедневно обнаруживалось по 50–60 одних только лопнувших рельсов. Их ремонтировали «сплотками» из кусков и пускали поезда со скоростью не 75 км/ч, а втрое меньшей. Запасных рельсов у чекистов не было, а вот места на нарах имелись. За постоянные аварии и малую скорость поездов ОГПУ сажало железнодорожников пачками.
Осенью 1932 г. Транспортный отдел полпредства ОГПУ по Запсибкраю приступил к фабрикации очередного, достаточно рядового группового дела на железнодорожных рабочих и служащих. Непосредственно им занималось отделение чекисты ст. Новосибирск-1, которые отрапортовали, что ими раскрыта контрреволюционная повстанческо-вредительская троцкистская организация, которая организационно не оформлялась, названия не имела – «но проводила свою контрреволюционную деятельность организованными пьянками на производстве». Единственный признак организованной деятельности – совместные застолья под хлебное вино и нехорошие разговоры про власть.
Чекисты, осознавая крайнюю шаткость аргументов, завернули довод ещё покруче, придумав, что вредительство осуществлялось «особым методом самотечной контрреволюционной деятельности». То есть такой, при которой формальные контрреволюционные установки отсутствовали, а на деле самотёком (алкогольным?) шла опасная подрывная работа.
Обвинения были как классические (подготовка свержения советской власти к будущей интервенции какой-либо из враждебных держав, вредительство, антисоветская агитация, создание повстанческих ячеек из бывших партизан в деревне и в армии), так и более оригинальные – якобы рабочие желали восстановить военный коммунизм и отдать землю всему крестьянству, хотя большой следственной тайной осталось, каким образом уравнительная политика военного коммунизма сочеталась бы с отменой результатов коллективизации. Жертвами этого дела стали десять рядовых рабочих и служащих: машинисты Н. Ф. Коротков и В. С. Иванов, заведующий конторой вагонного цеха депо станции Новосибирск-1 М. Ф. Каменев, четыре слесаря, табельщик… Машиниста Иванова изобличили ещё и как проповедника-баптиста, призывавшего рабочих требовать изменений в политике партии и к тому же «срывавшего спаренную езду».
Нередко бывало, что в те годы московское руководство, которое визировало обвинительные заключения местных органов ОГПУ, довольно решительно заворачивало их под предлогом отсутствия сколько-нибудь видимых доказательств организационной деятельности тех или иных антисоветских лиц. На этот раз Лубянка покорно проглотила очередной малосъедобный сибирский пряник. Тройка полпредства ОГПУ по Запсибкраю, опираясь на согласие старших товарищей, 17 мая 1933 г. по ст. 58-7-10-11-13 осудила пятерых на 5 лет концлагеря, четверых – на 3 года ссылки в Восточную Сибирь, одного – на 5 лет ссылки в трудпосёлок.
Наиболее активно в этом деле орудовали следователи А. С. Яковлев и А. Д. Кальван; координировал следствие начальник отделения А. Я. Мушинский и руководитель чекистского аппарата Омской железной дороги Ф. М. Горюнов. Расплата, пусть и частичная, настигла почти всех фабрикаторов: Горюнов отсидел в 1939–1943 гг. за нарушения законности, Кальван и Мушинский – по полтора-два года как «шпионы», выйдя реабилитированными на свободу в 1939 г. Что касается Анфима Яковлева, то его в 37-м бдительные коллеги разоблачили как имеющего родственников за границей, и он счёл за благо побыстрее исчезнуть из Новосибирска[66]66
Там же. Д. П-6510. Т. 28. Л. 144, 148, 372; Д. П-4312. Т. 5. Л. 290; Д. П-11839. Т. 3. Л. 138; ГАНО. Ф. П-1204. Оп. 1. Д. 7. Л. 76; Д. 8. Л. 25; Уйманов В.Н. Репрессии. Как это было… (Западная Сибирь в конце 1920-х – начале 1950-х годов). – Томск, 1995. С. 171; Папков С.А. Сталинский террор в Сибири… С. 96; ГАНО. Ф. 1027. Оп. 9. Д. 81. Л. 217.
[Закрыть].
Во второй половине 1933-го были арестованы 10 руководящих работников управления Томской железной дороги – начальник службы пути Н. Н. Иванов, начальник локомотивной части П. А. Абрамов, старший инженер службы пути А. Г. Лепиков и другие. Все 2 апреля 1934 г. от Коллегии ОГПУ получили за «вредительство» от пяти до десяти лет заключения. А чуть ранее (18 и 19 марта) по делам № 66 и № 78 прошли через тройку ОГПУ по ЗСК целых 149 чел., записанных в участники контрреволюционных филиалов, действовавших на станциях Томской дороги.
Весной 1933 г. было сфабриковано «вредительское» дело на 14 работников Запсибкрайдортранса. В Москве его подвергли сомнению, но это не облегчило участи обвиняемых: проигнорировав указание столичного начальства доследовать материалы дела, сибирские чекисты пропустили его через тройку, которая исправно отмерила всем лагерные сроки. Несколько недель спустя активно участвовавший в допросах фигурантов этого дела уполномоченный транспортного отдела полпредства ОГПУ Н. Н. Благовещенский был исключён из ВКП(б) за систематическое пьянство и допрос арестованного в нетрезвом виде; полгода спустя за приверженность спиртному и «связь с чуждым элементом» его попросили и из «органов».
В том же 1933 г. подчинённые Алексеева арестовали 338 чел. (325 рядовых и 13 – руководителей) в учреждениях лесного хозяйства – «вредительскую» группу, по их заключению, возглавлял инженер крайплана Е. И. Покровский. В мае 1933 г. чекисты арестовали «повстанческую группу» из 23 участников в Томске – поводом послужили волнения рабочих завода «Металлист», где несколько месяцев не выплачивали зарплату.
Также в 1933 г. чекисты сфабриковали дело о вредительстве на новосибирской бумажной фабрике – в результате на небольшом предприятии тройкой 11 апреля 1933 г. оказалось осуждено 12 чел. технического персонала, в т. ч. семеро 14 апреля были расстреляны: технический директор Л. И. Мовшович, технорук Н. А. Степанов, консультант И. П. Вележев… Обвинения также включали в себя «обработку рабочих и служащих в контрреволюционном духе», травлю и выживание с фабрики коммунистов. Восемь обвиняемых вину не признали, из 20 свидетелей только пятеро после неоднократных передопросов показали лишь о том, что арестованные высказывали недовольство плохим снабжением и низкой зарплатой.
Следователи так торопились, что оставили не подписанными большинство протоколов допросов, а агента по заготовкам Г. Н. Шалагина допросили только по биографическим данным и осудили по ст. 58–10, хотя он первоначально обвинялся в спекуляции хлебом. Несмотря на такое «следствие», новосибирский облсуд в 1959 г. прекратил дело с уклончивой формулировкой – за недоказанностью.
В 1934 г. органы ОГПУ закончили следствие на «контрреволюционную группу», совершавшую диверсии на льнозаводах. Дело было передано в Москву, где Коллегия ОГПУ 13 марта 1934 г. осудила 27 человек, работавших в системе Запсибльнотрактороцентра, к различным срокам заключения, в том числе 14 человек – на 10 лет лагерей. В 1956-м все они были реабилитированы[67]67
Книга памяти жертв политических репрессий республики Хакасия. Т. 1. – Абакан, 1999. С. 459–462; АУФСБ по НСО. Д. П-4436. Т. 1. Л. 172; ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 575. Л. 18 об.
[Закрыть].
«Ставка на поднятие национальной культуры…»
Все народности Западной Сибири были, с точки зрения полпреда, рассадниками опаснейшего национализма. Стандартным обвинением в адрес национальной интеллигенции было намерение дождаться интервенции Японии, затем поднять восстание и отделиться. По этой схеме создавались крупные «заговоры». В феврале-марте 1933 г. чекисты Минусинского оперсектора и Хакасского облотдела ОГПУ сфабриковали дело «Глубинка» на жителей Хакасии и юга Западно-Сибирского края. Минусинский оперсектор арестовал 158 человек (12 подпольных ячеек), Хакасский облотдел – 129 (7 ячеек).
По мнению чекистов, повстанческая организация намеревалась свергнуть советскую власть, установить буржуазный строй, вернуть частную собственность и свободную торговлю, отменить результаты коллективизации и даже процедуру лишения избирательных прав. Сформированные ячейки боевиков в период до восстания должны были заниматься вредительством и диверсиями в колхозах, совхозах и на предприятиях. Восстание приурочивалось к моменту объявления войны Японией Советскому Союзу, которая ожидалась не позднее текущей весны. Следствие провели быстро, не заботясь о получении прокурорских санкций на арест и предъявлении обвинения. Сфабрикованные заранее протоколы подписывались крестиками либо вместо подписи ставился отпечаток пальца. Протокол допроса обвиняемого Вакулина был заготовлен заранее, но не был подписан ни следователем, ни обвиняемым.
Тройка полпредства ОГПУ 27 апреля 1933 г. осудила 194 чел., в том числе 42 – к высшей мере наказания. В ночь на 12 мая минусинские чекисты расстреляли 16 чел., хакасские – 24. Руководители «повстанческой организации» В. Е. Седельников и М. П. Стрельченко были расстреляны в Новосибирске. Уцелевшие «повстанцы» в 1956 г. дали показания о методах вымогательства признаний: минусинский оперативник И. Хохлов «завязывал… на голове верёвку и при помощи палки сдавливал голову и требовал подписать протокол… применялась жаркая выстойка у раскалённой печи и длительная голодовка»; «Хохлов и следователь Буда ежедневно избивали… подключали электрический ток, садили в ледяной подвал без одежды»; «Буда давал выстойку у стены 12 часов, избивал… Хохлов садил на стул в холодную камеру…» Садист-«электрификатор» Михаил Буда был младшим в большом чекистском семействе: его братья Леонид, Николай и Семён – бывшие партизаны – все подвизались на руководящих постах в карательной системе и потом оказались за решёткой (Леонид выжил, остальных расстреляли), а младший в конце 30-х отделался увольнением из НКВД и прожил длинную жизнь.
В марте 1933 г. в Ойротии было арестовано свыше 40 участников «контрреволюционной организации» во главе с М. А. Кучуковым, Табаковым и др.). В 1934-м были вскрыты новые «ячейки» в четырёх аймаках автономии. Запсибкрайком 13 июля 1934 г. утвердил резолюцию по докладу Алексеева «о вскрытой контрреволюционной деятельности буржуазно-националистических элементов в районах Ойротии, Хакасии и Горной Шории». Полтора месяца спустя спецколлегия краевого суда осудила в Новосибирске большую группу южно-сибирской национальной интеллигенции и номенклатуры, якобы образовавших повстанческий «Союз сибирских тюрок».
Среди них были председатель Таштыпского райисполкома К. Майтаков, художник-алтаец Г. Гуркин-Чорос (бывший член Сибирской областной думы, вернувшийся из эмиграции), инспектор крайоно И. Михайлов-Очи, редактор Шорской секции ОГИЗа Я. Тельгереков. Алтайцы (в 30-х годах их именовали ойротами), хакасы и шорцы опять-таки опирались на помощь японских интервентов, у которых хотели найти деньги и оружие. В состав будущего буржуазно-демократического государства они планировали включить и Тувинскую республику, а потом намеревались связаться с контрреволюционными элементами Средней Азии…
В число предъявленных обвинений входили также «ставка на поднятие национальной культуры, внедрение родного языка и усиление коренизации государственного и хозяйственного аппарата». Одних хакасов по этому делу было арестовано 30 чел., алтайцев – около 50. В 1934 г. они получили в основном не очень большие сроки, но в 37-м многие из фигурантов дела были расстреляны[68]68
Гавриленко В.К. Казнь прокурора. – Абакан, 2001. С. 62–69, 213–214; Чекисты Красноярья. – Красноярск, 1987. С. 132–149.
[Закрыть].
Ответом на репрессии было создание национальных повстанческих отрядов. И если в Горном Алтае вооружённое сопротивление было сломлено к течение 1930 г., то в Хакасии его вспышки фиксировались до 1933 г. Известно, что в 1933 г. в Саралинском районе оперотряд ОГПУ в течение трёх месяцев охотился за повстанцами, которых укрывали соплеменники; в подавлении вооружённого сопротивления коренного населения Хакасии руководящую роль тогда сыграли местные оперативники М. А. Дятлов, А. П. Казарин, Г. А. Керин, П. Чеменев под руководством начальника облотдела ОГПУ П. И. Капотова.
Успешная чекистская комбинация опиралась, как позднее писал Г. А. Керин, в частности, на услуги давнего агента Сыхды Кирбижекова, который ещё в начале 1920-х гг. был заслан в крупный повстанческий отряд И. Н. Соловьёва, но потом считался предателем, переметнувшимся к бандитам. Однако позднее чекисты смогли возобновить связь с Кирбижековым, ставшим одним из признанных повстанческих лидеров, и тот со своими друзьями застрелил вожака группы «повстанческих банд» Турку Кобелькова заодно с его женой и братьями Кензеновыми. Обезглавленный отряд был частью перебит людьми Сыхды, а частью пленён чекистами[69]69
АУФСБ по НСО. Д. П-4436. Т. 2. Л. 39–42; Папков С.А. Сталинский террор в Сибири… С. 109–113; Возвращение памяти… С. 100–124.
[Закрыть].
С 1931 г. под чекистским наблюдением находилась община новосибирских татар, группировавшаяся вокруг мечети. Как видно из материалов оперативного дела № 405, цели ОГПУ-НКВД «были направлены на разложение мусульманской общины в г. Новосибирске, внесение разлада в мусульманский совет, компрометацию руководителей общины муллы Галямова Нугмана и муллы Валеева Гарифа и отрыв от них верующих. Эта задача к 1935 году успешно была выполнена, в составе совета получился раздор, а Галямов и Валеев – скомпрометированы». Расколоть общину чекисты смогли с помощью агента «Востокова» и ещё двух секретных сотрудников.
Обострение отношений с Германией после прихода нацистов к власти крайне болезненно сказалось на многочисленных сибирских немцах. Чекисты бросились фабриковать дела на «фашистские террористические» группы; особенно отличились при этом работники Особого отдела СибВО во главе с И. Д. Ильиным и бывшим видным разведчиком К. Ф. Роллером-Чиллеком. Всего же немцев, которых насчитывалось в крае 59 тысяч, за 1934 г. было арестовано 577 чел. и их в основном распределили по пяти «фашистским организациям» и 84 «группировкам».
Для дополнительного нагнетания атмосферы террора были осуждены по обвинению в фашистской деятельности даже партийно-советские руководители Немецкого района на Алтае. Во время поездки В. М. Молотова по Сибири осенью 1934 г. ему сообщили о «саботаже хлебопоставок» в Немецком районе бывшего Славгородского округа, после чего член Политбюро дал соответствующие указания. Вскоре чекисты подготовили к открытому процессу 33 руководящих работника-немца, включая двух секретарей райкома и председателя райисполкома. В апреле 1935 г. в Новосибирске спецколлегия крайсуда рассмотрела это беспрецедентное дело на номенклатуру районного уровня и вынесла суровые приговоры – трое были расстреляны, остальные осуждены на лагерные сроки[70]70
АУФСБ по НСО. Д. П-17189. Л. 101, 17–21, Л. 31–33, 81–82.
[Закрыть].
Процесс репрессий в 1932–1934 гг. носил выраженный циклический характер и, как и прежде, зависел в основном от политических решений верхов. К концу 1931 г. основные репрессивные акции против сибирского крестьянства закончились, а тройка в течение 1932 г., насколько известно, осуждала в меньших масштабах и, как правило, не приговаривала к высшей мере наказания. Однако 1933 г. дал вспышку жесточайших преследований крестьянства, «бывших», интеллигенции (в т. ч. национальной). В первом полугодии 1934 г. размах репрессий значительно уменьшился, чтобы снова вырасти во второй половине года. Карательные акции в середине 30-х приобрели более ровный характер, уменьшилась смертность в местах заключения и ссылки, количество расстрелов до 1936 г. включительно было относительно невелико. Но это было затишье перед бурей.
«Факты разжигания религиозного фанатизма масс…»
В период коллективизации по церкви был нанесён сильнейший удар. К середине 1930 г. на территории Сибири уголовному преследованию подверглось до половины священнослужителей, многие были расстреляны. В первой половине 30-х годов ожесточённая война с церковью продолжалась. Чекисты бдительно следили за религиозными людьми, пресекая их попытки соединяться и распространять свои взгляды. «Церковная контрреволюция» казалась особо опасной своей непримиримостью и монархической пропагандой.
Большая часть населения оставалась верующими, а священники и проповедники публично и резко высказывались против советских порядков. Заключённый епископ Амфилохий на допросе в августе 1933 г. показал следователю Сиблага: «Сейчас я снова заявляю, что советской власти и её укладу я желаю падения, в этом нахожу возможность восстановления правильной духовной жизни народа. Эти взгляды я высказывал своим духовным единомышленникам, бывшим вместе со мною в лагере».
Особенным упорством в противостоянии властям отличались иоанниты – православная секта, поклонявшаяся Иоанну Кронштадскому и считавшая его воплощением Святого Духа. Иоанниты страстно верили в различные чудеса, в спасение царской семьи, скорый конец света и т. д. Лидер новосибирских иоаннитов Михаил Иванович Антонов был расстрелян тройкой в 1930 г. Но его последователи оставались важным объектом приложения чекистских усилий.
Среди активных верующих распространялись настроения религиозной экзальтации, легко передававшиеся населению. Достаточно было унизанной бусами с ног до головы страннице Устинье Стародубовой, именовавшей себя «царицей небесной», и её спутнице Полине Игнатьевой искупаться в реке и сказать, что все, кто совершит омовение вслед за ними, исцелятся, как до 200 женщин с. Троицкое Уч-Пристанского района последовали примеру монахинь. Они купались вместе с детьми и затем говорили, что у них прошли различные болезни.
Затем Игнатьева и Стародубова смогли организовать в Новосибирске нелегальный монастырь, ликвидированный чекистами весной 1932 г. Арестовав несколько человек, следователи обвинили их в том, что они «занимались организацией чудес, исцелением бесноватых и проч., вели пораженческую агитацию среди посещавших эту церковь, доказывая неизбежность падения соввласти и восстановления монархии во главе с Михаилом».
Ссыльную 60-летнюю Устиньку (У. Ф. Стародубову) приютила истово верующая дочь дьякона Полина Игнатьева, утверждавшая, что от странницы исходит «целительная сила». Ещё в 1930 г. тюремная экспертиза признала Устиньку душевнобольной «в форме олигофрении типа дебильности». Увешанная бусами Устинька накладывала на бесноватых, кричавшим дикими голосами, свои бусы, посыпала особым песочком и те затихали. М. Ионова показала: «Устинька – святой человек…», а сама она считает «советскую власть сатанинской, но данную богом за грехи человеческие».

После каждого молитвенного собрания считавшаяся святой Устинька принимала ванну, а потом в этой воде мылись те, кто хотел исцелиться от каких-либо хворей. Эти «чудеса» происходили почти ежедневно. Освятили самовольно построенный земляной барак и ходили к женщинам с исполнением треб архимандрит Сергий (С. Скрипальщиков), священники Константин Виноградов и некоторые другие (потом визиты прекратились из-за сектантской направленности монастыря). Риза была сшита из скатерти, священные предметы и 30 икон взяты в местной церкви. Верующие уверяли, что на стенах барака появляются лики святых.
В июне 1932 г. из Барнаульского оперсектора ОГПУ ушла телеграмма в Новосибирск, что следственный материал на иоанниток Устинью Стародубову и Полину Игнатьеву «обобщён в следственном деле по ликвидированной разработке «Последыши»», которое планируется на тройку. В ответ Н. Н. Алексеев и И. Д. Ильин строго указали И. А. Жабреву на затяжки, которая «лишали нас возможности своевременно закончить следдело Новосибирской к-р группировки и по Вашей вине – за что ставим Вам на вид. На виновников затяжки воздействуйте административно. В суточный срок вышлите нам все добытые следственные данные о деятельности Игнатьевой и Стародубовой, в деле «Последыши» оставьте копии».
В итоге П. Игнатьева и К. Виноградов были высланы в Казахстан, М. Ионова и С. Скрипальщиков осуждены на три года лагерей, а Устинья Стародубова отправлена на принудительное психиатрическое лечение[71]71
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 369. Л. 81.
[Закрыть].
Эпизоды религиозного экстаза отмечались и в других сёлах. Чекисты Чарышского РО ОГПУ сообщали в крайком, что «факты разжигания религиозного фанатизма масс за 1932 г. имели место в районе в июле месяце…. появились «святые письма», которые были распространены по всему району среди единоличников и колхозников». В августе 1932 г. «в момент хлебоуборочной кампании в с. Тулата на почве религиозного фанатизма… Бычкова Мария объявила себя святой, о чём было извещено население с. Тулата и соседних сёл. Бычкова стала производить публичное исцеление больных и при исцелении больной старухи её удушила. Производила сборища, проповедывала о святости, принимала приношения. По делу привлечено 4 человека, осуждены на 8-10 лет»[72]72
Там же. Л. 176.
[Закрыть].
Много хлопот доставляли чекистам и старообрядцы, а также неправославные секты, вроде евангельских христиан, и другие церковные объединения всевозможных толков. Изучение противостояния верующих и богоборческой власти позволяет высветить одну из самых ярких страниц народного сопротивления большевистскому режиму.