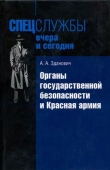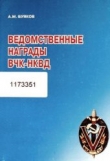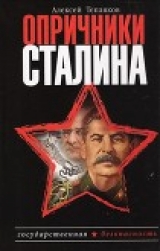
Текст книги "Опричники Сталина"
Автор книги: Алексей Тепляков
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Отрицатель «контрреволюционных организаций»
Прибыв в январе 1935 г. в Новосибирск, Каруцкий не стал особенно перетряхивать кадры и удовлетворился кандидатурой заместителя своего предшественника – Михаилом Волковым-Вайнером. Также он оставил на своём посту главу Секретно-политического отдела управления НКВД Ивана Жабрева. С собой из Алма-Аты Каруцкий захватил Сигизмунда Вейзагера, сделав его начальником Экономотдела и одновременно помощником по УНКВД. Вейзагер ранее работал в Средней Азии и одно время исполнял обязанности резидента внешней разведки под видом генконсула СССР в афганском городе Мазари-Шарифе. Вспомнил Каруцкий и о своём младшем коллеге по Иркутску и Владивостоку Константине Циунчике, поручив ему Оперативный отдел, ведавший обысками, арестами и агентами наружного наблюдения («топтунами»).
В окружении Каруцкого можно отметить менее значительные, но колоритные фигуры, вроде Константина Жукова, который в конце 1920-х годов возглавлял Контрразведывательный (КРО) и Восточный отделы ГПУ Азербайджана. Этот чекист был осыпан наградами, включая орден Красного Знамени, но в феврале 1929 г. его вместе с другими ответработниками ГПУ арестовали в Баку за соучастие в незаконном расстреле арестованного рабочего.
История была громкая, но наказания умеренные: для Жукова всё закончилось полугодовой отсидкой в Бутырской тюрьме, осуждением на два года концлагеря и мгновенным досрочным освобождением. Уже в июле 1929 г. Жуков стал уполномоченным, а затем и начальником информационно-следственного отделения Северного концлагеря ОГПУ в Архангельске. Затем его перебросили в Казахстан, где Каруцкий сделал проштрафившегося чекиста начальником республиканского Отдела спецпоселений. По ходатайству Серго Орджоникидзе и Генриха Ягоды Жукова восстановили в партии, а в конце 1935 г. Каруцкий перевёл его в Новосибирск и назначил замначальника краевого управления лагерей, колоний, трудпоселений и мест заключения[171]171
Депортированные в Казахстан народы: время и судьбы. – Алматы, 1998. С. 55–59.
[Закрыть].
УНКВД по Западно-Сибирскому краю Василий Абрамович возглавлял с января 1935 по июль 1936 г. Как раз к его приезду край сильно поджали, отделив территорию современной Омской области и внушительный кусок с Минусинском, Ачинском и Абаканом, ставшим юго-западной частью вновь образованного Красноярского края. На меньшей территории, включавшей современные Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтайский край, Каруцкий и действовал с заметно меньшим размахом, нежели его опальный предшественник Николай Алексеев. В его подчинении находилось не меньше тысячи оперативников (на июль 1936 г. только в Новосибирске в аппарате УНКВД насчитывалось 540 коммунистов, в Межкраевой школе НКВД – 180), которые в течение 1935 г. арестовали более 2.000 человек, в основном за антисоветскую агитацию. За анекдоты или матерные частушки о вождях тогда обычно давали небольшие сроки – до трех-пяти лет. Огромных дел на «повстанческие организации» при Каруцком не фабриковали.
И Василий Каруцкий, и его заместитель (с осени 1935 г.) Анс Залпетер, что называется, знали норму. Если прежний руководитель ОГПУ-НКВД Запсибкрая Алексеев в период острой борьбы сталинцев с глубоким кризисом экономики, виновниками которого были объявлены представители враждебных классов и прослоек, изо всех сил разоблачал масштабные «антисоветские группы» всех мастей, то сменщики Алексеева ограничивались тем необходимым минимумом, который устраивал руководство в Москве. Они полагали, что после кровавой работы периода коллективизации уже не нужно так сильно усердствовать: несколько сравнительно крупных и средних вредительско-диверсионных группировок, побольше мелких антисоветских группок, немножко шпионов-террористов и тысячу-другую саботажников, анекдотчиков и «антисоветчиков-одиночек» – вот и готов вполне подходящий годовой результат для огромного края.
Один из подчинённых Каруцкого – Серафим Попов – в своих показаниях так и заявил: «Если при Алексееве как из рога изобилия сыпались фальсифицированные следственные дела о различных контрреволюционных группах и организациях, то Каруцкий же занял позицию полного отрицания возможности существования вообще каких-либо контрреволюционных организаций в Сибири» и ограничивал следователей указаниями превращать масштабные «организации» (в существовании коих Попов был уверен) в небольшие группы[172]172
Молдаханова Г.И. Деятельность ОГПУ в Казахстане (1922–1934 гг.). Автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук. – Алматы, 1999; Таукенов А.С. Антисоветские вооруженные выступления в Центральном Казахстане (1930–1931 гг.) //http//history.machaon.ru/all/number_17/pervajmo/taukenov/introd/2/index.html
[Закрыть].
Группировки «вредителей», «диверсантов», «шпионов» и «террористов» фабриковались, как всегда, с помощью агентуры. Некоторые местные сексоты сыграли крупную роль в подготовке самых громких политических процессов. Так, агентом начальника Прокопьевского горотдела НКВД И. В. Овчинникова был приехавший из США В. В. Арнольд, заведующий гаражом одного из рудоуправлений. В 1936 г. Арнольд использовался при подготовке процесса над Г. Пятаковым, К. Радеком, Г. Сокольниковым, Н. Мураловым и был осуждён вместе с ними.
Особую роль чекисты обращали на вербовку осведомления среди учащихся. 20-летний белорус А. Г. Новаш в конце 1932 г. перешёл польско-советскую границу и в январе – августе следующего года находился в Саровских лагерях ОГПУ как перебежчик. С сентября 1933 г. он – студент Сибстрина в Новосибирске, тогда же стал сексотом. Когда «органам» потребовалось слепить дело на студентов-«антисоветчиков», Новаша в феврале 1936 г. арестовали и дали 10 лет заключения. Он жаловался трибуналу на то, что его искусственно сделали врагом, ибо органы НКВД дали Новашу задание «вести себя так, как будто бы он недоволен советской властью» и таким путём выявлять враждебно настроенных лиц. В 1937 г. тройка УНКВД по ДВК расстреляла заключённого Новаша[173]173
ЦХАФАК. Ф. П-1. Оп. 6. Д. 265. Л. 1. 2, 4, 6, 13, 15; Советское руководство. Переписка. 1928–1941 гг. – М., 1999. С. 160, 161, 467.
[Закрыть].
Часть агентуры постоянно разоблачали как провокаторов или «двурушников», часть – ловили на попытках извлекать материальную выгоду. Например Б. С. Фленов, старший налоговый инспектор 4-го участка г. Новосибирска и одновременно сексот УГБ УНКВД, в 1936 г. был осуждён за то, что, получая взятки, снижал подоходный налог, взимаемый с кустарей и нетрудовых элементов[174]174
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 1. Д. 98. Л. 346, 349; Ф. 1027. Оп. 7. Д. 48. Л. 42; АУФСБ по НСО. Д. П-5931. Т. 1. Л. 94.
[Закрыть].
Сибирские шпионы
Местные внесудебные органы отсутствовали (за исключением созданной по директиве НКВД СССР от 27 мая 1935 г. милицейской тройки, имевшей право рассматривать дела только на уголовный и «социально-вредный» элемент и заключать на срок не свыше пяти лет), так что если при Заковском и Алексееве тысячи людей легко пропускали через тройку при полпредстве ОГПУ, то Каруцкий должен был достаточно тщательно готовить самые громкие дела для Военной коллегии Верховного Суда СССР, а менее важные – поручать спецколлегии краевого суда, в которой заседали бывшие чекисты.
Полтора года его деятельности оказались самыми мягкими за последние пять-шесть лет. Всего в крае за 1935 г. было осуждено нарсудами 45.407 чел. Что касается «политических» дел, то по системе УГБ в течение 1935 г. был привлечён к уголовной ответственности 1.881 «контрреволюционер. В среднем по каждому делу привлекали два-три человека (всего 714 дел). В это количество не включены осуждённые военными трибуналами и Особым совещанием при НКВД СССР за шпионаж и террор – их было не так чтобы много, в пределах 10 % от общего числа. Основная часть «политических» – 1.332 чел. – привлекалась за антисоветскую агитацию и пропаганду. На 10 мая 1936 г. отделы управления НКВД имели в производстве 65 дел на 253 чел., 32 % которых провели под стражей более двух разрешённых УК для расследования месяцев.
По оценке краевой прокуратуры, во втором полугодии 1935-го и первом квартале 1936 г. число «контрреволюционных» преступлений снижалось, но осуждённых становилось больше из-за долгого расследования очень многих дел, рассмотрение которых пришлось на первые месяцы 1936 г. В основном было покончено с практикой сезонных кампаний, когда в период посевной и уборочной страды осуждалось особенно большое количество «саботажников» и «вредителей».
В июне 1936 г. прокурор И. И. Барков представил в крайком и крайисполком следующую отчётность: с 20 декабря 1935 г. по 20 марта 1936 г. нарсудами было осуждено по ст. 58 УК 2.188 чел. Согласно данным УНКВД, с 20 декабря 1935-го по 20 апреля 1936 г. было расследовано более 1.100 «контрреволюционных» дел на 2.470 чел. (по мнению Баркова, чекисты заметно занизили эти цифры), причём самим НКВД были прекращены многие дела и освобождено 9,5 % привлечённых. Из оставшихся дел прокуратура прекратила следствие ещё на 6,7 % арестованных.
В первом квартале 1936 г. прокуроры ещё взыскательнее подошли к делам УГБ, возвратив 24,3 % их на доследование и 7 % – прекратив совершенно. Дела об антисоветской агитации, вредительстве и саботаже фабриковались настолько топорно, что даже беспощадная сталинская юстиция была вынуждена поправлять чекистов. Особенно хорошо это видно на тех делах, которые считались особо важными и подлежали рассмотрению военной юстиции – шпионских и террористических[175]175
Боль людская. Книга памяти репрессированных томичей. Т.5. – Томск, 1999. С. 150; АУФСБ по НСО. Д. П-9682. Т. 1–5.
[Закрыть].
Так, с января по сентябрь 1935 г. военные трибуналы края имели в стадии следствия 82 дела по статьям, каравшим: за измену родине (4 дела), шпионаж (22), террор (40) и диверсии (16). Из этого количества 39 % (то есть 32 дела) были забракованы как абсолютно фальсифицированные. Особенно строго юристы отнеслись к делам о шпионаже – из 22 они согласились с наличием состава преступления лишь в восьми. В качестве примера можно привести одно из вынужденно прекращённых дел, которое было тайно заведено чекистами ЭКО УНКВД 9 сентября 1934 г., получив номер 4699 и кодовое имя «Клубок». В марте 1935 г. проходившие по нему «шпионы» Пелевин, Мамаев и Червов были арестованы по ст. 58-6 УК, но в августе того же года освобождены за отсутствием состава преступления.
Из 40 дел по террору осталось 25 – половина из них относилась к расправам «кулаков» над представителями власти и активистами (ими было убито 11 работников сельсоветов, рабселькоров и активистов, а семеро – ранено). Всего за три квартала 1935 г. военный трибунал СибВО осудил 95 чел., в том числе 35 – к расстрелу. Десятеро смертников были затем помилованы вышестоящими инстанциями.
О «качестве» тех шпионских дел, которые всё же устроили военную юстицию, наглядно говорит даже самое краткое их изложение. Так, «кулак-извозчик» Я. Ф. Малых до марта 1935 г. возил одного дипломата, от которого получил задание за 500 руб. (две-три тогдашних зарплаты) купить план новосибирского завода горного оборудования, как тогда назывался будущий авиазавод им. В. П. Чкалова. Малых, в свою очередь, с помощью своего отца за 100 руб. завербовал участкового инспектора Кузьму Колыша, который затем устроился на завод и взял у копировщицы Ивановой часть чертежей, заявив, что они ему нужны по службе. Потом чертежи, которые он Малых не показал, Колыш вернул. Несмотря на отсутствие какого-либо реального ущерба, Колыш, а вместе с ним Яков и Фёдор Малых были расстреляны.
Китаец Ту Тянь Чен в 1932 г. нелегально прибыл в СССР из Маньчжурии и был выслан в Тарский округ. Полтора года спустя он бежал оттуда в Павлодар, а затем перебрался в Новосибирск, где в сентябре 1935 г. был арестован как шпион у военного городка во время попытки заговорить с красноармейцем. В ноябре он получил за шпионаж и побег из ссылки 10 лет заключения и был реабилитирован только в 1997 г[176]176
ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 227.
[Закрыть].
Другое дело сфабриковали на корейцев, имевших неосторожность открыть парикмахерскую рядом с «Сибметаллстроем» – строящимся заводом по производству боеприпасов. Де Дон Хан, Ким Дя Хва и «провокатор японской жандармерии» Моисей Магай оказались японской шпионской группой, следившей за перевозками военных грузов и производством на «Сибметаллстрое», а также сообщавшей о политических настроениях новосибирцев. Также в Новосибирске арестовали троих горожан за подготовку побега за границу. «Японофильская агитация» и «шпионаж» были вскрыты в Бийске, где арестовали Журавлёва, Вечтомова и Ретивцева.
Бухгалтера «Запсибкрайснабосоавиахима» А. Ф. Косых, ранее жившего в Маньчжурии, арестовали в январе 1935 г. За «шпионаж в пользу японской разведки» по ст. 58-1 «а» и 58–11 УК Военной коллегией Верховного суда СССР 22 июня 1935 г. он был осуждён к расстрелу. Александр Косых обвинялся в том, что во время жительства в Харбине он давал японским властям сведения о советских гражданах. Например, в 1929 г. выдал совграждан И. А. Пустовойтова, А. П. Синицына и Аксёнова, которые скрывались в китайской фанзе Старого Харбина в связи с убийством известного полицейского чиновника Гиацинтова. А в 1932 г. вместе с братом Николаем выдал японцам совграждан Николая и Александра Кононовых, подозревавшихся в устройстве крушения японского воинского эшелона на перегоне Чангауз – Старый Харбин[177]177
Гущин Н.Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928–1934 гг.): методы, этапы, социально-экономические и демографические последствия. – Новосибирск, 1996. С. 127; ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 227. Л. 81–82; Тепляков А.Г. Портреты сибирских чекистов //Возвращение памяти. Историко-публицистический альманах. Вып. 3. – Новосибирск, 1997. С. 88.
[Закрыть].
Домохозяйка Надежда Косых (вероятно, жена) получила пять лет лагерей за недонесение. Три недели спустя после ареста Александра Косых взяли его брата Николая, коменданта рабфака НКПС. Н. Ф. Косых был осуждён Военной коллегией 27 июня 1935 г. к высшей мере наказания за участие в шпионской группе – вместе с арестованным 19 февраля пилотом агитотряда Крайосоавиахима В. В. Кирилловым. Все эти «шпионы» в мае 1993 г. были реабилитированы.
Чтобы подоплёка этого дела была чуть ясней, кратко обрисуем ситуацию на Китайско-Восточной железной дороге, которая резко обострилась в конце 20-х годов из-за попыток китайской стороны захватить управление дорогой и собственность КВЖД. В июле 1929 г. китайские власти объявили об увольнении советской администрации дороги и демонстративно выслали её из страны. Просоветские профсоюзы призвали к забастовкам, в начале августа 1929 г. две трети советских граждан оставили службу на КВЖД. В Харбине было введено чрезвычайное положение, советских хватали сотнями и депортировали из Китая. Было убито 56 советских граждан. К началу октября в Сумбэйском концлагере под Харбином содержались 1.300 чел., затем было арестовано ещё 800. Китайская сторона оправдывала массовые аресты саботажем и вредительством. А 17 ноября части ОКДВА перешли границу; в итоге к 22 декабря конфликт был урегулирован «Хабаровским протоколом».
Насчёт саботажа и вредительства китайцы особенно не преувеличивали: советские власти успели создать мощную агентуру в Маньчжурии и в ходе конфликта с Китаем пустили её в дело. Часть русской молодёжи сочувствовала большевикам и откликнулась на призывы к вооружённой борьбе с «белокитайцами». Конспиративные комсомольские ячейки, организованные в пятёрки и десятки, устраивали забастовки, диверсии, убийства полицейских и их агентов. Острие террора было направлено против полицейских русского происхождения. Осенью 1929 г. в Харбине был убит надзиратель железнодорожного розыска Н. М. Гиацинтов, совершена попытка покушения на агента розыска П. П. Шишкина (в воспоминаниях 1960 г. «Красные гимназисты» тогдашний комсомолец Н. И. Куренков именует Гиацинтова полковником и утверждает, что Шишкин был смертельно ранен).
Китайская пресса сообщала, что молодой террорист Мерцалов бросил бомбу в паровоз на Интендантском разъезде, в результате чего оказались убиты машинист Васильев, его помощник и кочегар. Вместе с Мерцаловым, бывшим студентом-третьекурсником, китайцами была арестована его группа, состоявшая из комсомольцев и бывших красноармейцев. Аресты охватили более 25 чел., при обысках полиция обнаружила оружие, динамит и детонаторы. На допросах Мерцалов дал подробные показания о мотивах своих преступлений, заявив о том, что подготавливал и взрыв виадука. Китайская полиция также обвиняла Мерцалова в участии в группе террористов, взорвавших поезд близ станции Пограничная на закрытом разъезде Широкая Падь.
В харбинских газетах появлялась информация о многочисленных арестах большевистских агентов и их сторонников, которых местные органы власти отправляли – в печальном соответствии с совдеповской практикой – в Сумбэйский и другие концлагеря, где арестованных подвергали пыткам и издевательствам. Жертвами китайских властей стали многие харбинские комсомольцы: погибли в тюрьме секретарь областного комитета Григорий Струков, Вл. Мурзаков, П. Суслов, П. Боровинский, Третьяк, Мельников, Усов и другие, а труп Кульбаченко был обнаружен на кладбище с отрубленной головой[178]178
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 703. Л. 605; Д. 706. Л. 106; Оп. 2. Д. 648. Л. 283, 71–73 об., 76–78 об.; Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области. Вып. 2. – Новосибирск, 2008. С. 182.
[Закрыть].
Террористические акции планировались чекистами и в 30-е годы. Так, сотрудник-инженер КВЖД М. Э. Медзыховский в начале 1930-х гг. получил задание взорвать мост через Сунгари, который сам и строил, будучи привлечён к этому делу работниками КВЖД Малиновым и Васильевым (возможно, это псевдонимы). Но японцы, в свою очередь, оказались предупреждены об этом теракте неким русским охранником моста Кузнецовым, поэтому Медзыховскому в опасении ареста пришлось срочно покинуть Маньчжурию. В 1933 г. он случайно встретил в Москве Малинова с Васильевым, которые работали тогда в аппарате ГУЛАГа ОГПУ…[179]179
АУФСБ по НСО. Д. П-6510. Т. 19. Л. 143–144.
[Закрыть]
Вредители, диверсанты, саботажники
Люди Каруцкого преследовали не только шпионов и диверсантов, но были также на страже социалистической собственности. С 1 августа 1935 г. по 1 марта 1936 г. только в системе «Заготзерно» было вскрыто и ликвидировано 50 «хищнических» групп (осуждено по ним 383 чел.), а ещё 35 человек оказались осуждены по одиночным делам. Борьбу с бесчисленными расхитителями и вредителями были призваны оттенять политические процессы над хозяйственными руководителями.
Благодарным местом для приложения чекистских усилий являлся Кузбасс, где пренебрежение к охране труда выливалось в устрашающую статистику происшествий: за 1934 г. по Кузбассу зафиксировано свыше 17 тыс. несчастных случаев, в том числе 192 со смертельным исходом, а за первый квартал 1935 г. – более 4 тыс. травм и 49 смертей. Особенно опасными были две шахты в Анжеро-Судженске, имевшие номера 1–6 и 9-15. Масса несчастных случаев происходила из-за того, что лавы крепились сырым и неошкуренным лесом, который под землёй стремительно сгнивал. Постоянные аресты специалистов исправно терроризировали оставшихся на свободе, но количество происшествий не уменьшалось.
Среди проведённых Каруцким крупных процессов были и «диверсионные», и «шпионские». 10 человек осудили за создание в феврале 1935 г. «диверсионной группы» на Киселёвском руднике: трое из них пошли под расстрел за попытку поджечь магазин, чтобы-де вызвать возмущение рабочих срывом снабжения. Пятерых человек осудили (на срок от двух до 10 лет) за диверсии на Беловском цинковом заводе: дескать, неправильно составили шихту, сожгли электромотор, а плавильную печь хотели взорвать динамитом… В феврале-марте 1936 г. было арестовано десять «вредителей» в области рудничного транспорта – начиная от начальника транспортного отдела Кузбассугля М. Кондрова и ниже. 11 апреля 1936 г. бюро крайкома ВКП(б) по докладу Каруцкого «о внутрикопейском транспорте Кузбасса» постановило широко осветить ход судебного процесса в Прокопьевске над «вредительско-саботажнической группой работников транспорта Кузбассугля».
Выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР 29 марта 1936 г. в Новосибирске рассмотрела 28-томное дело руководителей Томской железной дороги, которые обвинялись в том, что были завербованы для шпионской и диверсионной работы «агентами одной иностранной разведки». Заместитель начальника службы пути К. К. Клочков, начальники отделов службы пути М. Э. Медзыховский (тот самый незадачливый «подрывник» моста через Сунгари) и В. Ю. Мариенгоф оговорили себя и других, но жизни не вымолили и были приговорены к расстрелу. Ещё пять человек оказались отправлены в лагеря. Один из рядовых участников «организации» дорожный мастер Ф. М. Сайчук в период реабилитации показал, что начальник отделения ДТО Григорий Вяткин «принудил меня признать это и подписал я обвинение после того как он мне пистолетом или, точнее, наганом выбил зубы»[180]180
Гун-Бао (Харбин). 1929. 25 окт. № 857. С. 5; ГАНО. Ф. 1350. Оп. 1. Д. 25. Л. 91.
[Закрыть].
Тогда же в Новосибирском молмясотресте была разоблачена «антисоветская группировка» из шести человек во главе с самим директором треста. В июле 1936 г. за антисоветскую пропаганду осудили трёх новосибирских литераторов (одновременно же был освобождён «ввиду его болезни – паралича левой половины тела и старческого слабоумия») арестованный тремя месяцами ранее отбывавший ссылку в Томске поэт Н. А. Клюев, привлечённый как участник «церковной контрреволюционной группировки»[181]181
АУФСБ по НСО. Д. П-6510. Т. 28. Л. 271, 277–278.
[Закрыть].
Много хлопот доставляли школьники, часть явных политических преступлений которых чекистам приходилось, скрепя сердце, переквалифицировать в итоге на статью о хулиганстве. Вот примеры только по Барнаулу. Ученик 7-го класса школы № 22 Г. П. Кольцов, разорвавший осенью 1935 г. перед группой учащихся портрет Ленина, был арестован чекистами и привлечён по ст. 74 УК, каравшей за хулиганство. В январе 1936 г. была арестована ученица 10-й барнаульской школы Киселёва (дочь учительницы), которая в течение последней недели 1935 г. распространяла в школе «контрреволюционный нелегальный» журнал «Не сдадимся»».
В том же январе 1936 г. к судебной ответственности были привлечены ученики 2-й неполной средней школы братья Александр и Иван Репины: 17-летний Александр – за порчу портретов вождей, а ученик 4-го класса Иван – за попытку сорвать траурное заседание памяти Ленина, с которого по его громкому призыву убежало более 15 учеников. В конце 1936 г. горотдел НКВД вёл расследование по делам учащихся школы № 5 Карпова и Неразик, изорвавших сталинский портрет[182]182
Там же. Д. П-2853. Т. 1. Л. 125; Д. П-6510. Т. 28. Л. 71; Д. П-8437. Т. 3. Л. 346.
[Закрыть].
В середине 30-х годов продолжались внесудебные репрессии против крестьянства, хотя и более скромных масштабах. В 1935 г. партийные власти края добились от Москвы разрешения выслать в северные районы около тысячи семей «единоличников, саботирующих сев» и замеченных в «саботаже хлебосдачи»: в мае выслали 2.615 человек, примерно столько же – в октябре. Тогда же в Нарым были высланы сотни евангельских христиан. В начале 1936 г. из Горного Алтая было выселено в Казахстан свыше 300 «байско-кулацких и бандитских семей».
Фабриковались и политические дела против ссыльных. По распоряжению руководства НКВД (как показал на следствии бывший начальник СПО И. А. Жабрев) замначальника ЭКО Д. Д. Гречухин организовал провокацию среди спецпереселенцев в Прокопьевске: с помощью «ввода официального сотрудника активизировал… локальные группы» и так добился вскрытия крупной «контрреволюционной организации»[183]183
Там же. Д. П-12628; Пичурин Л.Ф. Последние дни Николая Клюева. – Томск, 1995. С. 39–40.
[Закрыть].
Но по сравнению с делами Алексеева всё это и в самом деле выглядело относительно скромно. Отметим, что в начале 1935 г. Каруцкий вполне разумно ходатайствовал перед Ягодой о том, что нарымских ссыльных крестьян, чьи посевы осенью пострадали от заморозков, нужно полностью освободить от сельхозналога и госпоставок зерна и картофеля, иначе хозяйство неокрепших «неуставных артелей» будет совсем подорвано. Руководство ГУЛАГа в основном поддержало Каруцкого, направив в правительство просьбу освободить нарымчан от сельхозналога и госпоставок картофеля[184]184
ЦХАФАК. Ф. П-10. Оп.19. Д.50. Л.15, 16.
[Закрыть].