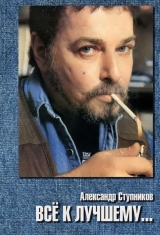
Текст книги "Все к лучшему (СИ)"
Автор книги: Александр Ступников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
ПЕРВЫЙ ЭФИР, БЛИН
(ЗАПОЛЯРЬЕ, 1978)
В свое время в Заполярье на телевидении Воркуты – шахтерского города, построенного сталинскими заключенными посреди вечной мерзлоты, на месте угольной тундры, – я и начал работать в редакции молодежных программ. И первый прямой эфир остался навсегда незабываемым.
Не потому, что он был первым, а из-за девушки Клавы, бригадира молодежной бригады животноводов.
Там, в тундре, были не только шахтеры, но и редкие фермы, где содержали коров и героически повышали надои. За здорово живешь – значит, за награды и звания.
Система прямого эфира тогда была трехфазная. Сначала журналист должен был встретиться со своим героем, провести с ним разговор – на магнитофон или в блокнот. Потом из этого разговора написать настоящую пьесу – по голосам. Причем выстроенно, правильно и без ошибок.
Эта «пьеса» проходила через несколько инстанций, и на каждой, по восходящей, ее правили, черкали, меняли местами, вписывали пожелания, а порой и вообще заставляли полностью переделывать. Текст перепечатывался – и все повторялось снова.
Самое веселое, что этот принцип, включая скрупулезную стилистическую правку, распространялся и на прямой эфир. Участники передачи получали тексты заранее и должны были говорить своими словами, но «по сценарию».
Работа журналиста, кроме написания всего этого, состояла в том, что он должен был следить за ходом написанного и сказанного.
Доярка Клава оказалась моим первым заданием на студийный разговор.
Понятно, что я нервничал. Сценарий получасовой беседы о насущных проблемах заполярного животноводства, включая вставку кинорепортажа с фермы, был расписан, как и положено, по голосам пьесы, но без фамилий. Просто, корреспондент – доярка. Два человека, чего тут мудрить…
Вторая фаза прямого эфира называлась на сленге «тракт», или репетиция. Сначала прогонялась вся программа. Как в театре перед премьерой. После чего следовал короткий «разбор полетов» с обязательно присутствующим начальством и только потом – живой выход.
Все было хорошо. На репетиции, то есть на «тракте», никаких сюрпризов не произошло. Клава мне даже понравилась, особенно в профиль бюста.
И вот мы вышли в эфир. Я бодро поздоровался, прогнали кино, под которое зачитали написанный текст, и мы снова вернулись в студию.
– А сейчас,– заинтересованно продолжил я. – Клава Н. поделится с нами тем, как она добилась, что ее коровы дают молока больше, чем другие. И на тех же кормах.
Возникла пауза. Клава молчала.
Покраснев, как завоеванное ею переходящее знамя, она напряженно смотрела в одну из камер. Туда, куда ее попросили смотреть.
Мне казалось, что секунды стали превращаться в минуты, и как ни в чем не бывало я снова повторил вопрос, вывернувшись по-другому.
Но Клава молчала.
Я понял, что в третий раз следовать написанному сценарию мне не удастся.
Вся студийка растерянно молчала вместе с ней. Старшие коллеги относились ко мне хорошо, и я видел, как оператор и помреж стали крутить руками, мысленно обращаясь к ней: мол, давай…
Но Клава молчала.
И вдруг, когда я подумал, что «это все», она неожиданно, но спокойно полезла к себе сзади куда-то под юбку, закопошилась там немного и вытащила из-под складок спрятанные листки сценария. Затем, так же домовито расправила их рукой, сверху вниз, глянула и внятно прочитала, почти по слогам:
– Доярка в кадре.
В студии было слышно, как моргают мои ресницы.
Клава сначала победно посмотрела в камеру, потом на меня, на онемевшее, словно под ледяным воркутинским ветром, лицо, и встрепенулась. И начала говорить, как по писаному. Дальше все пошло – лучше некуда.
По ту сторону экрана никто ничего так и не понял.
А я понял, выпив по случаю первого эфира и затем на радостях прижав Клаву в темном уголке, что у коров не случайно выпучены глаза. Даже если их доят не в первый раз.
ГОРЬКО
(ЗАПОЛЯРЬЕ, 1979)
– Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь?
Отец жениха наклонился всем телом, почти нависнув над молодыми, к отцу невесты. Он говорил почему-то на украинском, но не это, а что-то иное, опасное, пузырилось за стеклом потного бокала в его руке.
И напряженная тишина поползла вдоль длинного заставленного гостями стола, а у его изголовья, с подсвечниками шампанского, застыли жених – весь в черном, и невеста – в белом кружевном.
Свадьбу справляли в рабочей столовой шахты, где работал молодожен и его отец. Оба проходчики. Это те, кто в глубине рубят породу и закрепляют подходы к пластам мерзлого угля. Здесь, в заполярной Воркуте, они были старожилами.
Я знал их как коренных, но не расспрашивал. В этом городе, построенном из бараков сталинских лагерей, было не принято интересоваться родословной. Собственно, жених и пригласил меня на свою свадьбу. А его невеста, приехавшая сюда после института, работала с ним же, но не под землей, а в управлении. И ее родные, откуда-то с «материка», а именно так называли в Воркуте всю остальную территорию страны, прилетели буквально к свадьбе, день в день.
И все было как обычно. И роспись, и поздравления, и живые цветы, купленные у азербайджанцев на рынке. И когда гости настроились было выпить и поесть по поводу молодоженов, традиционное для разминки слово дали родителям жениха и невесты.
– Ты меня не узнаешь? Совсем не узнаешь? – тесть в упор, словно в прицел, разглядывал растерявшегося свекра. – А ведь это ты, сержант НКВД, брал меня в схроне в пятьдесят втором под Драгобычем, на Украине. Ты вязал мне руки, бил автоматом и шипел: «Бандеровская сволочь, не дойдешь до села…». Но я дошел, и получил свои лагеря, и остался здесь в ссылке, потому как не к кому и незачем было возвращаться домой. И я так долго мечтал, что где-нибудь тебя встречу…
Он выдохнул и вдруг обмяк. И родители невесты, оба нарядные, сидели молча, словно замороженные, и глядели прямо перед собой на гостей, как в полярную ночь, и ничего не видели.
И все молчали вместе с ними. И только какая-то активистка из воркутинской приезжей лимиты моргала и крутила головой: мол, что это такое происходит?
– Тату, – как на молитве, шепотом сказал его сын. – Я знаю… – И положил руку под столом на колено своей молодой жены, и она там накрыла ее своей.
– Ну ладно, – сказал тесть. – Главное, что наши дети нашли друг друга, и они счастливы. И эта горечь останется и умрет с нами…
– Горько, – облегченно закричали гости. Время зашевелилось и зачокалось, согреваясь.
И только полярная ночь за окнами дышала, выплевывая бездонную тишину и подвывая о своем, безымянном, с запахом вечной мерзлоты и окоченелых костров, еще более коротких, чем жизнь, тлеющая на одном честном слове.
Немом, как лунные искры на вселенском снегу.
ВРАГ НАРОДА
(ПОЛЬША, 1979)
Польша летом 1979-го уже набухла кризисом, который вскоре развернут профсоюзы с красивым названием «Солидарность». Мы, группа туристов из Заполярья, катались по просторам этой непривычной, по нашим понятиям, почти западной страны.
– В Польше народ гордый, – подкалывал нас гид в автобусе. – Недавно резко подняли цены на сахар, так рабочие вышли на улицы, попереворачивали пару-другую машин, и цены вернули.
Старший нашей группы, Толик, из функционеров, недовольно морщился и смотрел, как мы на это реагируем. Но молчал. А вечером делал пометки в блокнот. Как одиночка, я нередко попадал с ним в один номер на двоих.
Так было и в Кракове, уже под конец поездки. Вечером в ресторане при гостинице половина группы засела надолго. Поляки пьют, как русские, и часам к десяти, в самый разгар праздника жизни, у нас за большим столиком оказались двое аспирантов Ягелонского университета. Как-то так получилось, что ребята затронули тему Катыни. Наши в группе не знали, о чем речь. Но мне уже попадалась пара книг, где авторы писали о Катыни. Короче, возник спор. Поляки обвиняли НКВД. Я соглашался с их оценкой сталинизма, но то, что произошло с пленными польскими офицерами под Смоленском, с жаром валил на провокацию нацистов. Мы завелись, но не агрессивно. Поляки умеют спорить.
– Панове, – неожиданно из-за соседнего столика поднялись два польских морских офицера зрелого возраста, – позвольте выпить лично за вас. Приятно видеть молодого человека, который так горячо защищает и любит свою Родину.
Они обратились ко мне, еще недавно вылетевшему из Белорусского университета «за взгляды, несовместимые…». Все немного растерялись, но выпили. Потом еще и еще. Поляки-аспиранты под ревнивым взглядом старшего группы, несмотря на нерешенный спор о Катыни, потащили меня на ночную дискотеку.
Наутро Толик встал с больной головой.
– Кажется, я перебрал,– самокритично сказал он, стесняясь смотреть в зеркало. – Но знаешь, твои вчерашние политические споры и контакты с польскими военными – это неправильно. Мы сюда приехали смотреть страну, а не разговаривать. Тебе рано еще ездить за границу.
И я понял, что «телега» на меня опять будет глупа, но действенна.
– А ты знаешь, родной, что вчера порол тем же военным?– Мне терять уже было нечего. – Ты заявил им, что Брежнев – чучело для витрины, а престарелое Политбюро только мешает нам жить так, как живут поляки. И стал предлагать им купить часы, потому что Советы копейки разрешают менять на поездку. Только триста рублей, на которые мало что купишь… Меня несло пару минут. Толик сначала опешил, потом осел, согнулся и опустился на кровать, обхватив голову руками. Ему было плохо, а теперь и тошно. А я лил ему все, что думал, будто бы он по пьяни вчера это говорил иностранцам.
– Пожалуйста, очень-очень прошу, – сказал он, когда я, выплеснувшись, возмущенно запустил полотенцем в кровать. – Не говори никому.
Интересно, сколько длится мхатовская пауза?
– Ну, если ты придумывать на меня не будешь разную ерунду, то и я молчать обещаю, – мне стало его почти жалко. – Только ты не пей больше так много. И не болтай лишнего. Стыдно.
Вернувшись, я Толика больше никогда не видел. Да и не узнал бы уже через пару лет. Не люблю пьяниц: из собутыльников получаются самые отъявленные патриоты. Это те, кто в похмелье путает ненависть с любовью. Так и подыхают, закусив.
Но настрочить могут. Как пишут – так и живут. Как живут – так и проживают. Как проживают – с тем и остаются. Но почему обязательно на злобу дня, а не на радость?
МЕТОД ПАЛЫЧА
(ЗАПОЛЯРЬЕ, 198О)
Все хотят лета, а не зиму. Словно оно не укорачивает жизнь на три месяца…
– Ничего, немного отработаю здесь, потом опять вернусь в большую авиацию. Если б не искусственный член, летал бы и сейчас, – Палыч аккуратно разлил спирт из трехлитровой банки на троих и подставил воду. – Настоящая, чистая, из девственного снега. Идеально тонизирует…
На зимовке нас двоих, меня и оператора, подселили к нему в балок – деревянный домик на санях. Не хоромы – одна большая комната, перегороженная на отсеки для сна и работы. Палыч был радистом. Считай, что один из старших на зимовке и, главное, сам по себе. Другие ребята, и рабочие, и инженеры, жили в балках рядом, по несколько человек. Отдельно, уже в вагончике, кухня, с однообразной, но горячей, из печки, курицей и картошкой. Если не утром, так вечером. А вокруг – белое щемящее поле, без конца и края. И еще буровая вышка в километре, если не меньше, и досягаемая только на гусеничном вездеходе, похожем на бронетранспортер с толстыми треснутыми стеклами. Геофизики что-то там бурили, в мерзлоте. Вечной, как никчемность наших черных фигур перед хлестко хватающим за лицо мощным белым океаном, во все стороны, в никуда.
Накануне вертолет или, по-нашему, «борт», пролетев несколько часов от Воркуты над розоватой от солнца густо припудренной тундрой, дальше, на север, к Ледовитому океану, присел, выбросил нас на снег и повинтил дальше, по Ямалу.
– Жить здесь можно, платят хорошо, в тепле. Это вот работягам надо выезжать, не позавидуешь, – чихнул Палыч. – Завтра сами увидите.
Затем и прилетели. А как же вы из большой авиации – и сюда?
– Сам виноват, – Палыч налил спирт по новой порции в алюминиевые кружки. – Летал я на международных рейсах. И в Европу, и в Америку. Удобно. И заработок приличный, и престижно, и мир смотришь. Не всегда случалась только заправка, когда несколько часов на земле – и обратно. Бывало, и больше времени оставалось. Мы, правда, скорее покупали, чем смотрели по сторонам. Так бы и продолжалось по сей день, но однажды дома приятель попросил привезти ему, для интереса, искусственный член. Вычитал где-то и загорелся. У нас, сами знаете, только настоящие. Потому и захотелось ему попробовать необычного. А может, и понадобилось, не спорю. С двумя, признайтесь, в этом же что-то есть? Сарынь на кичку…
Палыч глотнул спирт, выдохнув, и прикурил от своего бычка. Пролетарского – по цене, и мужицкого – по дегтю. Два винта уже вертелись в его глазах, тюленистых и рваных.
– Вылетели мы тогда в Европу, и получилось, что было время пробежаться за покупками. Нашел я нужный магазинчик, в первый раз, признаться, глаза разлетелись. Это ж сколько разной красивой ерунды вокруг мужского достоинства понаделали! Мама моя… И то, что он просил меня купить, оказалось непростым делом. Все как у людей: от кармана зависит. И с моторчиком есть, и материал разный, и круть-верть, и просто дура качающаяся. Этакая полицейская дубинка. С оттяжкой. Долго выбирал с непривычки и решил взять себе тоже. Не то чтобы мне очень надо. И так все в порядке, не жалуюсь. Но уж больно необычная и смешная штука, а почему не попробовать? Больше для юмора, чем для дела. Девок развлекать. Визг, восторг, покажи, дай потрогать… Купил другу, что заказывал, и еще две дылды себе, разные по размеру. Но не маленькие. Маленькие у нас и свои есть, бесплатно. Упаковка у них вакуумная, коробок массивных нет. Места не занимает. Уложил и вернулся на самолет. Все нормально. Западники нас даже не смотрели, прошли, где положено. Ребята в экипаже тоже не знали. Постеснялся сказать. Смеяться будут. Прилетаем в Москву. А дело было осенью, и мы ходили в плащах таких, синих, форменных. Нас тоже таможня родная не дергала. Тем более, что летный состав большие чемоданы и тяжелые сумки с собой не тягал. Представительность – лицо компании, да и предупреждали нас – пакет, мол, больше нежелательно. Я и засунул эти члены под брюки. К своему поближе. Чувствую, перебор – мешают. Запихнул под плащ. Вроде держатся. Но когда проходил контроль, дернулся за документом вовнутрь, неловко как-то полез, потянул и… все мое это хозяйство вывалилось на пол. Бежевое, ребристое, синее. Ровно как мое лицо через секунду. Все так и сыпанулось. Сначала члены – потом карьера. Служивые вокруг просто обомлели. Потом был разбор полетов, и меня списали. Не то что насовсем. Но, сказали, на время, пока забудется. Так я через эти члены и попал в Заполярье, переждать. Тоже радистом. Короткие связи – они везде нужны.
Сначала поселили в общежитие. Полгода отработал, огляделся, с кем-то подружился. Сами знаете, народ на Севере теплый. Да и по морозу, по кольцевой воркутинской особо не побегаешь. Люди встречаются дома, спокойно, за чаем и за столом. Подружился я с одной семьей, из старожилов, где муж попал в шахте в аварию и лежал после больнички дома, не вставая. Собственно, я сначала с его женой познакомился, геофизиком. Когда заговорил с ней – и не подумал, что замужем. Знаете, у несчастливых женщин какая-то печать на лице есть и даже в походке. Вроде и говорит, и улыбается, и фанаберится, а словно подраненная изнутри. И не только в глазах, по осанке видно. Я сначала просто познакомиться хотел, почувствовал, что вроде одна. Так и я – один. Образование есть, сам питерский, мир посмотрел, полетал – есть о чем поговорить. А бедных работающих на Севере нет, сами знаете. За себя расплатиться и угостить каждый может.
Подкатил к ней – и ничего не получилось. Разговариваем еще раз, в столовой за столик подсаживаюсь, жизнью ее интересуюсь: что, мол, грустная. А она и говорит, что у мужа после аварии ноги парализовало, и он уже не хочет ничего от жизни. Руки опустил. Сиделку ему наняли, жена крутится между работой и домом, ребенка к бабушке отправили на «материк». Это значит из Заполярья в Россию. Врачи говорят, что так теперь, скорее всего, и останется. Ни массажи, ни терапия не помогли. Костыли притащили. Обещают коляску специальную достать. А ему все не в радость. Либо телевизор смотрит, либо лицом к стенке лежит. Воля у него к жизни ушла. Ничего не надо, даже жену не хочет. Хотя, говорит, знаю, что любит. Хорошо с ним годы прожили до аварии.
Вижу, что болит у нее, чуть не плачет, и открылась, по-человечески, беззащитно. Даже неудобно стало, что я поначалу просто закадрить ее хотел, в подружки. Чтоб неодиноко было полярными ночами. Подумал об этом, и вдруг стукнула мне в голову одна идея. Просто бац – и стукнула. Давай, говорю, попробуем с ним метод Палыча. От балды сказал – нет такого метода на самом деле. Но надо же было в какую-то форму обернуть, иначе не поверит. Меня-то зовут Сергей, а по отчеству Палыч. Но до отчества еще, слава Богу, не дорос в свои тридцать восемь. Оно просто первое, что пришло на ум. Для убедительности. Объяснил ей, что читал в каком-то журнале о сверхвозможностях человека, когда он чего-нибудь очень хочет. Сконцентрируется весь – и металл рукой может пробить. На Востоке это дело привычное. А у нас разработали метод Палыча, по имени целителя из Сихоте-Алиня. Это я «Дерсу Узала» Арсеньева в детстве читал, запомнилось красивое название гор на Дальнем Востоке. Она поначалу засомневалась: надо чтоб человек сам себя в руки взял. А здесь муж даже в ее сторону не поворачивается. Но уговорил попробовать, нельзя же просто дожидаться, пока он совсем сдаст. Еще что-нибудь сотворит с собой от отчаяния. Да и ей в такой обстановке не жизнь.
После работы встретил ее, обговорили. А потом, чего тянуть, пошли к ним домой. Вместе. Я только в магазин заскочил, взял бутылку коньяка и коробку конфет. Не с пустыми же руками… Заходим, а она сразу в коридоре радостно почти кричит, как договаривались, чтоб я раздевался, кожушок снял и чувствал себя как дома. Захожу, волосы причесываю по ходу. Оглядываюсь с интересом. Смотрю, квартира как квартира. Чистенько, запах только такой, желтый. Больной запах. А в комнате, напротив телевизора, лежит здоровый мужик в тельняшке и спортивном трико. Руки – как две моих.
– Сергей, – говорю.
Он назвал себя и, как клешней, обхватил. Я там у него и утонул. Подумал даже, что зря связался. Но он поворачиваться может, а встать – нет. Ноги не держат. Два костыля, что твои «не могу», притиснулсь в углу, заброшенные. И тут жена ему и говорит:
– Знаешь, милый. Мне так тяжело дальше жить. Ты меня ни за жену, ни за женщину не держишь. А я еще молодая. И люблю тебя – потому и не брошу. Но жизнь требует свое. Я, говорит, женские болезни от застоя в организме не хочу. И Сергей мне заменит в постели тебя, ты уж не обижайся. Он живет в общежитии, встречаться там неудобно, четверо в комнате. Уводить меня пока не собирается. Все по-людски. Что нам, бегать и прятаться, тебя обманывать? Будем встречаться у нас.
Смотрю, а муж ее обомлел весь и замер. Ручищами в покрывало вцепился, прямо порвет. Я отошел подальше, к журнальному столику, достал из портфеля коньяк и конфеты. Смотрю по сторонам, типа, где рюмки-фужеры.
– Давайте, – подхватываю, – выпьем за знакомство. Вы человек умный и цивилизованный, мне о вас столько хорошего понарассказывали. В конце концов, даже Маяковский, вы помните, жил с парой Брик. С Лилей. И ничего. Все втроем ладили. Но я жить у вас не буду, конечно. Только навещать. Мы подружимся.
Говорю, а сам себе фужер наливаю. Выпил залпом, конфеткой закусил и ей предлагаю.
– Давай, за здоровье твоего замечательного мужа, – и руку ей ласково на филе положил, по-дружески.
Муж уже красный весь стал, приподнялся.
– Вы чего, обнаглели совсем? Да ты, – рвется к ней, – такая-сякая…
А я ей кофточку уже расстегиваю.
– Не хочешь по-человечески? Ты же мужик, а кричишь, как баба трехкопеечная. Собака на сене – и то догоняет: нельзя только о себе думать. Пойдем в другую комнату, нечего нам с ним здесь делать, раз не понимает…
Помог ей снять верхнее и потянул за пояс на брюках, поворачивая спинкой: идем, давай, не терпится уже.
Она рюмку опрокинула, конфетку зацепила, кофту – на стул и бюстик по ходу распоясывает. Как кобуру без пистолета.
И тут рев такой, словно медведь раненый. С кровати.
– Суки вы… Твари… – рванул он, сбросил вниз вялые ноги, дернулся и вдруг встал. На обе. Шатаясь, правда. Рукой за стойку держится.
– Убью, – кричит, и шаг сделал. Но стоя.
Я девушку раз так отодвинул и уже бочком, на всякий случай, снова к коньяку.
– Вот теперь уже есть повод выпить по-настоящему. За метод Палыча.
Короче, встал он постепенно после этого на ноги. А она меня на работе стала только Палычем называть. По отчеству. Так и прилипло. Никому мы не рассказывали об этом. И дома я у них только один раз потом был, посидел немного, объяснился. А то муж к ней стал недоверчивым. Хотя и ласковым. Все у него, оказалось, где надо, в порядке. Но звонить ей на работу стал часто, особенно к вечеру. Не без его стараний, думаю, мне предложили работу на зимовке, причем вахтовым методом. Здесь немного, а потом – где хочешь. А мне так даже свободней. Съездил пару раз в Питер, северян там уважают, договорился через сауну, что скоро опять в большую авиацию вернусь. Подумаешь, члены хотел на Родину привезти. Поддержать производителя. Не подрывная же литература. С кем не бывает… А о своем методе, Палыча то есть, я бы вам и сейчас не рассказал. Но узнал недавно, что поднялся мужик на ноги, и они съехали куда-то в Россию. Денег, «северные», накопили, пенсия у него неплохая – купят квартиру, жить можно и на «материке». Жить вообще везде можно. Особенно, где людей поменьше.
– И членов?
– И членов, – согласился он, поднимая за глотку трехлитровую банку. Терпкую, как прозрачный полярный спирт, прошибающий до слез, летящий на морозе пронзительной жесткой шелухой, похожей то ли на стылую воду, то ли на живые бриллианты…
– Смотрите, – махнул рукой на окно Палыч. – Какое удивительное сегодня небо. Звезды как драгоценные камни, прямо над снегом. Вам повезло с погодой.
– Не скажи, – хмыкнул оператор, недоверчивый ко всему, с литовской фамилией, отца которого сослали в Воркуту после войны. – Нам как раз метель немного для картинки нужна. Пойдем на улицу, чтоб на завтра не оставлять. Вы, ребята, в четыре руки снег бросайте вдоль окна. Вроде, как полярная пурга, тревожная. А на свету красиво будет крутить.
– И так под минус сорок на дворе… – мне стало себя жалко, запотевшего.
– Ничего, – легко потянулся за камерой литовец. Жмудь, это у них в генах, – спирт прогреет. А Палыч, по своему методу, покажет нам, как пургу по жизни гнать.







