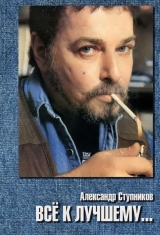
Текст книги "Все к лучшему (СИ)"
Автор книги: Александр Ступников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
ЗАЕЗЖЕННАЯ ПЛАСТИНКА
(МОНГОЛИЯ, 1976)
«Архи», монгольская водка, годилась только для наших молодых солдатских желудков. Но ее было на редкость достаточно. Цирики, в своей зеленой форме с четкими, как офицерские, погонами, стриженые и очень похожие друг на друга, принимали нас после концерта у себя в коптерке.
– «Самбайну, кампан»… – «Здравствуй, товарищ…».
Вечер советско-монгольской военной дружбы где-то в глуши бескрайней степи плавно перетекал в братание.
– Ребята, – просил я, – чаю дайте, сушит…
– Подожди, – говорили цирики, – наш фирменный подгоним.– А вы откуда?
Они цокали языком и с уважением повторяли за нами:
– Из Минска? Из Ташкента? Из Баку? Из Львова? Большая у вас страна.
Чай оказался белым. Из топленого бараньего жира. От чистого сердца.
– Спасибо, здорово.
Я выскочил на мороз и согнулся за углом деревянного домика. Никогда не забуду этот привкус братской кухни.
На крыльцо вышел их старший:
– Эй, земеля, – закричал он по-русски. – Иди, мы тебе сюрприз приготовили.
– Уже сыт, – окончательно напугался я.
Но вернулся. Идти-то все равно некуда.
А цирики уже ставили на проигрыватель пластинку. Они бережно дули на нее, хихикали и говорили, что это их самая любимая музыка. Ребята плеснули в алюминиевые кружки еще «архи», и вдруг громко, поскольку проигрыватель подключили к колонкам, прямо на нас рванули «Песняры» – «Касiў Ясь канюшыну…».
– Видишь, это твои, – толкали в бок монголы. – Твои лучшие.
И метель, мартовская, тридцатиградусная, крутила свою волынку на промерзлой дороге в двух часах езды до наших бараков. И ребята, захмелевшие от водки, вместе с монгольскими солдатами подпевали по-белорусски. Завывая от тоски по своему Ташкенту, Баку, Львову.
Нам было за что пить. Хотя мы и знали, что настоящие патриоты остались дома, в тепле, рядом с нашими девчонками и брошенными за тысячи километров матерями.
Так они нас учили Родину любить – издалека. И дружбе народов – на выживание.
– Берите, – цирики подкладывали в наши миски лучшие куски мяса и показывали свои фотографии из дома.– Баранину надо есть горячей. Баранина – как песня.
«А дзяўчына жыта жала…».
КОСЯЧОК
(МОНГОЛИЯ, 1976)
– Зря ты это, – повторил замполит и затянулся. То же самое мне сказал комбат, когда я отнес накануне рапорт.– Тебе что, у меня плохо? Половину отслужил. Пережди еще год спокойно и вернешься домой…
Но я настаивал. Ребята в штабе шепнули, что группу наших солдат, человек пятнадцать, должны отправлять куда-то обратно в Союз. Вот я и попросил включить меня в эту партию.
– Да мы отбираем самых ненужных, – сказал комбат. – Их в тюрьму надо, куда тебе с ними… Пойдете общим списком в Забайкалье или Сибирь. Стоит ли начинать службу заново? Подумай.
И сам комбат, и офицеры были у нас приличные. Не кричали, не унижали ребят, с палкой по утрам по казарме не бегали, как это потом было в России. Общая оторванность от большого мира заставляет людей быть и внимательнее, и осторожнее друг к другу.
– Я хочу ближе к дому.
В тот же вечер ко мне прибежали трое ребят.
– Это правда, что ты в списке? Слава Богу, а мы думали, вроде дисциплинарного батальона. В Монголии такого нет.
Мы запустили второй косячок по кругу, травили анекдоты, трепались о девчонках, которых не видели уже год, вообще никаких. Только в кино два раза в неделю. Телевизоров и радио у нас не было. Не было ничего. Кроме богатой, правда, прессы и желания пережить все это, чтобы вернуться.
– Красиво все-таки здесь, – сказал замполит, показав на громадное красное солнце, словно списанное с картин Рериха. Кто-то засмеялся, отрывисто и заразительно. Поймал «хи-хи».
– Хватит, не пережмите…– спохватился замполит.
Я прикрыл глаза и видел заходящее солнце, разложенное на ресницах по всем цветам насыщенной дрожащей радуги. И ножки, точеные женские ножки, все выше – и к небу, до округлого бедра облака. Ночью, прорываясь, кто-то рядом будет дрочить под одеялом, а «деды», старослужащие, по настроению, начнут поднимать роту и бить всех подряд, воя от тоски и бессилия. Меня, правда, обходили. Грамотных тогда уважали. Время невежд, на самом деле, придет намного позже.
А завтра нас посадят в грузовик, и начнется очередная иная жизнь. Хуже, чем эта. Но на тысячу или две километров ближе к дому. И с забором вокруг. А значит, будет куда стремиться. Свободы без ограды не чувствуешь. Так, степь да степь. В никуда. Как и люди.
О, если я забуду тебя, Монголия…
ФОТОГРАФИЯ
(МОНГОЛИЯ, 1976)
Два зеленых плацкартных железнодорожных вагона вместе с нами завезли в ноябре куда-то в глушь куцей беспородной тайги и оставили на рельсах. Я и сейчас не знаю, где мы были – в Забайкалье или в Якутии. Но мы были.
Мороз стоял адовый. Даже в ватных штанах поверх формы и в бушлатах работать получалось не более пятнадцати минут. Посменно. Родине нужен был наш бесплатный и бесполезный труд.
И мы долбили ломами мерзлую землю, отбивая при ударе только маленькие кусочки, отрезанные от целого, словно ломтики, глинозема. Похожие на нас.
Дело, понятно, не шло. Но никто нам и не мешал. Скорее всего, начальство просто пережидало, решая, куда отправить дальше. В одном вагоне все ребята были после Монголии. В соседнем – забайкальские.
Старший офицер приезжал откуда-то утром, торчал в вагончике и к вечеру убывал восвояси. Продукты и горячее привозили в бачках, а завтрак и ужин мы готовили сами. Свою ложку, главное личное имущество, каждый держал в голенище сапога. Казенных ложек в этом мире всегда меньше, чем ртов.
Но никто извне к нам и не лез. Некому. Где-то гнила, распускаясь, своя жизнь. А нам здесь было все равно. Мы считали дни до далекого дембеля. Какая разница, где отсчитывать время из одной клетки в другую, попросторней?
Все равно и в Монголии не было ни девчонок, ни домов, ни штатских, ни телевизора, ни радио. Там степь, работа и тоска за окном. Здесь тоска, работа и просторы с пролесками. Солдатчина…
По соседней действующей ветке проходили товарные поезда. Иногда они останавливались рядом. В них болтались цистерны с дешевым вином. Дежурный обязан был следить за этим. И порой ночью мы подскакивали от истошного крика:
– Рота, подъем!
Молодые, в хрустящих от холода гимнастерках, схватив рукавицы, чтоб не приклеиться на морозе, забирались на цистерны, ломиком вскрывали их и черпали вонючую кровавую жидкость ведром. Потом еще одним. Третьего, свободного, не было. И тогда из грязного выбрасывались лопаты, инструмент, и в ход шли слегка ополоснутые тем же народным пойлом рабочие ведра. Надо было успеть, пока поезд неожиданно не тронется дальше.
Потом алюминиевыми кружками мы пили прямо из ведра азербайджанский «Агдам» или иную гадость под разговоры ни о чем. Чаще – о том, что было и будет, когда мы вернемся.
Наутро те, кто из последнего призыва, помоложе, отмывали вагон, а приехавший офицер несильно орал, выгоняя нас на мороз, на работу, проветриться.
А что делать? Армия – это распорядок.
Однажды после такой ночи я не смог найти в кармане фотографию своей девушки, будущей жены. Выронил или вытащили. Она была снята крупным планом, а позади, с древком флага в руках, размыто маячил и я.
На последней перед отчислением из университета первомайской демонстрации к нам подошел какой-то активист, белесый и бесцветный, как лозунг, и грубо ткнул мне в руки знамя.
– Неси, таким положено.
В принципе, я тогда и сам бы взял. Но только вместе с наганом.
А фотография, самое ценное, что у меня оставалось, пропала. Мы с ребятами обыскали оба вагончика и ничего не нашли. Понятно, что исчезнуть здесь она не могла, некуда деваться.
И тогда «монголы» построили всех в проходе и приказали вывернуть карманы.
Фотография нашлась в… военном билете одного из «забайкальцев». Парню дали пару раз по морде в целях воспитания, чтоб не «крысятничал». Но я никак не мог понять, зачем ему красть и носить фотографию совсем чужой девушки. Что она ему?
– Чудак, – удивился размеренный Арно из Таллина, который шутил, что идет по следам своего деда, погибшего после войны в Сибири. – А еще в институте учился. Спроси у Гочи, он знает.
– Как тебе сказать?– начал Гоча из Грузии, посмеиваясь и приглашая поближе других ребят. – Нужна ему твоя девушка.
– Но зачем? Какой смысл?
– Простой, – пояснил Гоча, и парни вокруг хихикнули. – Неужели не понимаешь? Дрочить ему надо. На здоровье.
– А моя девушка здесь при чем?
– Глядя на фотку, приятней. Смотрит на нее и «качает». Тебя в институте этому не учили?
– Учили чему надо и сейчас учат, – буркнул я, вспыхнув.
И тоже засмеялся. В конце концов, только у меня через год службы оставались письма издалека, начинавшиеся со слова «любимый».
Смех покатился по вагону, тыкаясь светом в черные, как беспросветная власть, окна. Но мы тогда думали, что так и надо.
Фотка пошла по рукам. Как девчонки, которые нас не дождались.
Гоча, по случаю праздника обретения, вытащил заначенную резиновую грелку с домашней чачей, а Орест, из глубинки Карпат, сам вызвался организовать жареную картошку. Он уже немного говорил по-русски. Но в самом начале, еще в Монголии, ему доставалось из-за этого больше всех. Поначалу он стоял тогда, отмахиваясь, как загнанный бычок под тычками, со всех сторон и почти выл от бессилия, низко и протяжно:
– Мос-ка-ли…
Те «деды» ушли на дембель, а для нас он был свой.
И нам было весело – от молодости, скуки, повышенного давления стреляющей до подбородка спермы и похмельной тошноты в глотках одновременно.
До дембеля оставался еще целый год.
Один человек мне сказал, что армия – это священный долг.
– Аминь, – ответил я и подумал: «Родиться, раздать долги и умереть. А жить когда?».
БУЖУМБУРА
(РОССИЯ, 1977)
Интересно, есть все-таки у человека ангел-хранитель? Или это просто так, Бужумбура? Столица Бурунди.
За три месяца до демобилизации я хорошо устроился в жизни. Мне носили обеды в постель, книги, меняли чистое белье, ласковая медсестричка баловала регулярными ночными дежурствами. Ко мне вернулась устойчивая, как утреннее солдатское пробуждение, вера в лучшее. Словно кто-то оберегал, давая отдохнуть и выспаться. Никто от меня ничего не хотел, а я тем более, считая оставшиеся до свободы дни.
В тот августовский вечер мы закончили работы на трассе, закинули в машину лопаты и ломы, а затем, не оглядываясь на уже ровные отрихтованные рельсы, залезли в кузов. Ничего нового, еще один сгоревший в бессмысленности день, украденный из нашей жизни. Подчинение, переходящее в пофигизм, как форма защиты и инстинкт самосохранения, устремленный в завтра.
Мы, озверевшие к ужину, сняли гимнастерки и вскоре уже подставляли кто спину, кто лицо, кто плечо несущемуся навстречу ветру. Теплому, как тела нарисованных воображением девчонок. Недосягаемых и потому еще более близких. Говорить было невозможно, да и не хотелось. Каждый, независимо от призыва, глядя на пролетающие мимо строения и деревни, думал о доме или ни о чем – пусто. Свою школу йоги мы уже прошли, на то она и армия, а о Родине за нас думали другие.
Дорога, в отличие от солдата, была свободна, и наш грузовик, как наполненное лукошко, гнал на пределе своих возможностей, опаздывая к ужину. Позже оказалось, что кузов обязан закрываться от посторонних глаз брезентом. Так положено по технике безопасности и правилам их уставов, написанных специально для таких идиотов, как мы. Но машина была открыта, и это нас спасло.
В какой-то момент, секунду, но я ее хорошо помню, горизонт почему-то вильнул в сторону, потом – в другую. Один борт приподнялся, наклонился, заставив нас ухватиться покрепче. Но в следующее мгновение мы уже летели куда-то, каждый своей дорогой, быстро и легко, как брызги под тяжелой ладонью. «Вспышка слева, вспышка справа…».
Нас выбросило, проволокло метров на двести, рассыпав вдоль кювета; благо, там не было ни столбов, ни деревьев. Сама машина, перевернувшись два раза, лежала колесами вверх. Водитель и сопровождающий лейтенантик отделались легкими царапинами. Двое из нас были в тяжелом состоянии, повредив, как оказалось, позвоночник и шею, остальные – кто как.
Когда я вернулся на землю – оттого, что кто-то начал меня поднимать, задев руку, – вокруг уже было много машин и людей. Интересно же. Одни из ребят еще лежали, другие сидели, раскачиваясь и ничего не видя.
– Можешь встать? – спросил, испуганно глядя на меня, какой-то дядька.
– Попробую…
Голова кружилась и подташнивало. Тело и лицо горели, ободранные. Но живой и даже целый.
– Ангел-хранитель у тебя есть, – сказал веселый доктор в военном госпитале после осмотра и рентгенов. – Через месяц встанешь.
– А Он? – спросил я, еще обалдевший.
– Кто Он? – прикинулся шлангом доктор.
– Мой генерал, – я опустил глаза. – Стоять будет? Мне на дембель через пару месяцев…
– В палату для тяжелобольных, – хмыкнул доктор.– И успокоительное…
Двое суток я не мог сомкнуть глаз и повернуться. Но еду приносили прямо в постель, между капельницами, и мне это понравилось. Через неделю ребята написали за меня, сам не мог, письмо родственникам, единственным, бывает же такое, живущим в этом замечательном городе Саратове, куда меня приперли из Монголии и забайкальской тайги. Тетка, охая, обходила вокруг и боялась притронуться. Она была очень добрая и всю жизнь проработала в одном месте – нянечкой в детском саду. Потому и жила небогато, в частном доме из одной комнаты. Сестра-кузина привезла «Бравого солдата Швейка», заказанного в записке. На одной руке у нее не было трех пальцев. В пятнадцать лет, на школьных каникулах, она пошла на хлебобулочный завод подработать, чтобы помочь матери. Рука попала в механизм. Потом она вышла замуж за азербайджанского парня из Нахичевани, родила. Жили вроде неплохо.
Тетя уже умерла, а сестра в начале века покончила с собой. Не выдержала блядства новой российской жизни, или просто блядства, не знаю. Это на Руси святое, вне времени. А ангелы-хранители бывают не у всех и не навсегда. Наверное, они тоже от себя не зависят.
Но тогда, окрыленный, еще через неделю я пошел ночью на охоту – к дежурной медсестре, и под утро уговорил ее, сердобольную, уединиться в служебной комнате, у стенки, на десять минут. Мне хватило трех, скороспелых. Так ничего и не поняв, я затем свинтил на дрожащих коленках в палату и свалился, заснув. Позже все утряслось и даже уложилось в график – через две ночи – на третью. Мой ангел хранил нас от посторонних языкатых глаз.
У меня прорвался аппетит, и вдруг очень захотелось яичницы. Впервые за два года появилось уже забытое «хочу». Я явно поправлялся к жизни. Медсестра, почти родная, вынесла откуда-то мою же форменку, украшенную аппликацией подсохших кровавых брызг, и сапоги. Палату для тяжелобольных почти не осматривали, вещи можно было спрятать под одеялом, и наутро я вышел во двор госпиталя. В самоволку. А что, ждать милостей от природы? Она и осеняла.
У каменного, но невысокого забора переоделся и попросил каких-то больных на прогулке, тихих до умопомрачения, помочь залезть на стену. Рука была еще перевязана и плохо двигалась. Ребята подсадили меня, оглядываясь по сторонам, чтобы нас не застукали, а я оказался наверху, полулежа, потому что слезть сам тоже не мог. И стал окликать, возвышенный:
– Люди!
Двое прохожих, глянув на повязки и густо поцарапанное лицо, шарахнулись в сторону, бегом. Третий, с крепкими нервами, все понял и снял меня с забора. Затем трамвай – и тетушка уже жарила яичницу из четырех яиц и наливала в стакан настоящие деревенские сливки. Я ел, соскучившись, и чувствовал повсюду высшую силу: внизу, у себя, и наверху, над собой. Так становятся верующими. Но они вряд ли служили в армии.
Обратно на забор меня подсаживали всем домом. Вместе с ангелом-хранителем, который потом много лет не оставлял меня затерянным.
Все в госпитале было здорово, хотя и не на свежем воздухе при рельсах и с лопатой в руках. Сентябрь уже навевал скорую песню дембеля – апофеоз исполненного солдатского долга в самом прямом, то есть извращенном виде.
Но однажды я вышел в коридор покурить после завтрака, обновленный солнцем и еще одним уходящим днем. Спокойный и расслабленный. Неожиданно мимо пробежали несколько врачей, галопом, вслед за каким-то дядькой, тоже в белом халате, без знаков различия. Врачи нередко еще более больны, чем те, кого они лечат. Только прячут это, камуфлируя. Дядька в белом резко остановился, почти проскочив, и спросил меня строго:
– Воин, вы почему здесь курите? Здесь нельзя.
– Да вот, – показываю ему, тормозу, – урна стоит. Как вы думаете, для чего?
– Сказано, нельзя здесь курить, – он почему-то даже покраснел от своей наглости. Не живется же некоторым спокойно…
– А вы что, – я опустил сигатету, послушный, – пожарник?
Он зачем-то выпучил глаза и орал минут пять, буйный. И вдобавок оказался начальником госпиталя, чуть ли не генералом. Странные люди иногда встречаются. Больные, но за здорово живешь. Они думают, что их бирюльки на лбу написаны.
Наутро меня срочно собрали, выписали и направили обратно в часть. Думали, что наказали, избавив от себя. Какая разница, где отбывать последние армейские месяцы? В части даже интересней. Особенно отоспавшись вволю и уже поверив в своего ангела-хранителя, который – и за отца, и сына, и святого духа. А не просто так, Бужумбура. Столица Бурунди…
ЗАСЛОНКА
(БЕЛАРУСЬ, 1978)
Проснулся ночью. Заворочался.
Жена спрашивает:
– Что случилось?
– Не знаю. Почему-то захотелось назвать тебя Каролиной…
К нашей свадьбе я готовился серьезно. Нарубил кое-как, с непривычки, дров. Съездил и купил маленький красный газовый баллон – надо было на чем-то кипятить чай и готовить прочую еду. В съемном частном доме зияла пустотой только одна комната и русская печь.
После армии на работу нигде не брали, даже внештатным журналистом. Армия – это же мой долг. Личный. Перед теми, кто оставался дома. А для них главное – это служение. Нам, в бушлатах, не понять.
– Знаешь, – сказал мне бывший однокурсник, попавший на республиканское радио, пока я в Монголии защищал его Родину. – Ты в «черном списке». Так что не советую и пытаться, бесполезно пробовать. Нигде не возьмут.
Мы говорили на лестнице, куда он меня вывел, и все время оглядывался, чтобы нас не увидели вместе.
Врал наверное.
В тот день утром мы взяли билет на двухсерийный фильм, но перед сеансом пошли в загс. Я поймал на улице пару свидетелей, и они с любопытством и симпатией отработали свое.
Когда в паспорте поставили большой штамп о браке, мне страшно захотелось выйти по-маленькому, но было уже поздно.
Мы купили бутылку красного вина и в однокомнатной квартире у друзей устроили праздничные посиделки. Ребята, разбросанные сегодня по всему миру, по договоренности, несли еду, а не подарки. А потом мы приехали в тот самый дом с одной лампочкой, старым диваном-кроватью, одинокой табуреткой и печкой.
Я заварил чаю и забросил дрова. Огонь заиграл, как в камине, но тут сказка прервалась, и пошел дым. Мы решили, что это пожар, но быстро догадались – надо было просто открыть наверху заслонку.
Дым развеялся. Так оно и происходило потом: надо всегда вовремя открывать заслонку. В голове.
Впереди была целая жизнь. Оно всегда так, пока мы живы…
ЧИЖИК-ПЫЖИК
(ЗАПОЛЯРЬЕ, 1978)
Рано утром «борт» забрал нас к Ледовитому океану. С оператором мы должны были снять, как живут оленеводы. В смысле, хорошо и радостно. Но трудно. Короче, как все в России. И во веки веков.
– Аминь, – сказал оператор и протянул ноги, когда летчики спросили, есть ли у нас с собой лишняя бутылка водки.
Два чума, одиноких, как сожители, оказались где-то в нескольких часах полета от города.
– Заберем к вечеру, если погода продержится, – обнадежил в спину летчик, и мы выскочили на поземистый снег вместе с сопровождающим, старшим по оленям в округе.
– Повезло с погодой, – сказал он, прижимая сумку со своим пойлом. – Не замерзнем.
Голубоглазые лайки побрехали для приличия и успокоились.
Из чума вышла грязная малорослая женщина, вся в соплях, но в бусах и в малице, балахоне из оленьих шкур. На руках у нее болтался трехлетний малыш, так и не писнувший потом ни слова.
– Как партизан, – сказал я. – Но она не поняла, о чем.
За хозяйкой из-под шкур выступил такой же, но почище… милиционер. Без погон. Зато в галифе и в сапогах. Судя по запаху изо рта, мороз его уже не брал.
– Коля, – сказал он и взял меня за душу.
– А нормальная национальная одежда у вас есть? – я чувствовал себя разочарованным, поскольку оператор уже приладился снимать «вживую». Типа, встреча старых друзей в снежной пустыне, далеких от цивилизации ойкумен.
– Это же специальное парадное, для гостей, – почти обиделся Коля. – Костюм нашел на рынке, когда однажды был в Воркуте.Торговался долго. Разве плохо?
Он одернул свой серый китель, и пуговицы звякнули на морозе, словно медали за заслуги в голове похоронной процессии наконец-то сбывшихся надежд на светлое будущее идущих вослед поколений.
– Очень здорово, но ведь в этой красоте вы на оленях не прокатитесь. А нам надо…
Слово «надо» в те времена было магическим и бескомпромиссным.
– Но сначала попьем чаю, – примирительно пригласил Коля и вздохнул: мол, что говорить с городскими?
За стенкой неспешно подвывала поземка. На душе было тесно.
«Клаустрофобия», – подумал я, глянув через выход на белесый до горизонта простор.
Два чума посреди бесконечной и безликой тундры стояли около стада оленей, как когда-то охранники при заключенных, которые недалеко отсюда строили железную дорогу вдоль Северного Ледовитого океана.
Дорога из никуда – в никуда.
Она так и осталась – разрушенная, заметенная, построенная по приказу Сталина. Буквально на костях тысяч и тысяч людей. Безымянных, словно ржавые рельсы. Никому не нужных, как брошенные здесь же, на куцый ягель, шпалы. И забытых подчистую теми, кто остался где-то далеко, дома, и кому «жить-то надо» там – в России, Украине, Беларуси, Балтии…
Нет их – и нет. Как и не было.
– Водки возьми, – сказали соседи. – В тундру запрещено возить, но это лучший подарок. А вас осматривать не будут…
Мои соседи по общежитию, шахтеры, в большинстве своем были после лагерей, из болотистых лесоповалов республики Коми, что где-то на юге. На «материке». Так называлась вся территория страны ниже Заполярья.
Здесь же к нам, молодой паре из Минска, относились с заботой и почти трепетно.
– Ты что, собираешься лететь в ботинках? Другого нет? Так возьми у нас валенки, иначе отморозишь причиндалы.
Шахтеры были хорошие. Только лупили друг друга в аванс, получку и по выходным. Пускали кровянку долго и шумно. В паузу я стучался к ним в комнаты.
– Ребята, побойтесь Бога…
– Напугал шлюху членом.
Но затихали. И если начинали снова, то потише. На Севере не любят шума. И без него в голове неспокойно.
Мы тихонечко сели у маленького столика-табуретки прямо на оленьи шкуры, уложенные на картон. Снизу круто тянуло морозом. Но в те времена рекламы не было, и наше поколение не знало о простатите. Мы просто увлекались работой и тем, что позже назвали сексом. А в промежутках думали о Родине, и потому холода и трудностей не боялись.
Боялись быть никем, то есть как все. Как все и были.
Короче, яйца холода не боятся. В воздухе пахло разреженным воздухом и прелой сыростью. Небольшая печка-буржуйка черной трубой тянулась в небо. Хозяйка быстро принесла солдатский чайник с засыпанной в кипяток заваркой, вытащила из-под шкур, из натурального холодильника, замерзший жирный хариус и поставила чашки.
Она хихикала, глядя на меня и вытирая сопли. А я с тихим ужасом думал: «Понравился… А если предложат? Пора проставляться хозяевам».
Две бутылки водки сохли в сумке, переливаясь и радуясь жизни. Но не вышло.
Коля перехватил у жены, которая присела в стороне, у печки, серьезную емкость со спиртом и плюхнул его в чашки.
– За гостей!
Я думал, переведя дух, что сейчас мы поговорим немного, распечатаем мое «алаверды» и начнем работать.
Но думать везде можно. А толку?
Почти вслед за первой плошкой Коля налил по новой. Ледяной спирт шел, как песня, которую мы потом все-таки запели. Чай, мороженый хариус и вяленая пресная оленина оказались слабой закуской.
– Давайте мое, – я попробовал было снова достать свою водку, но старший по оленям уверенно положил руку на плечо и внимательно посмотрел в глаза. Мол, ты-то должен понимать.
– Подожди. Тундра спешки не любит…
И я понял.
Прошло не более получаса, а хозяин разливал еще и еще. Его чуть раскосые ненецкие глаза, которые слегка косили к носу, разошлись в разные стороны. Всем было тепло и хорошо.
– Только вот детей у нас забирают, – вдруг решил испортить праздник Коля и прослезился.
– То есть как?
– В интернаты. Чуть подрастут – и их забирают. Учиться, жить. А потом они не возвращаются…
– Есть такая проблема, – сказал старший по оленям. – А что с детьми делать? Государство их опекает, выращивает. Но, если не для прессы, малые народы вымирают. Их выдавливают. Да и в тундру оленей пасти уже желающих немного…
Они рассказывали о том, что оленями в государстве никто не занимается. Что тундра с каждым годом становится все непригоднее для жизни. Потому что вездеходы, проезжая один раз, в основном летом, оставляют на земле следы, которые, как шрамы, разъедают мерзлую землю и в местах традиционного кочевья расползаются разломы. И надо искать новые пастбища.
«Потом опять меня обвинят в злопыхательстве. Так вот, с первой командировки», – с тоской подумал я, вспомнив о съемке.
Мы выпили за детей, спели пару песен про солнце, которое будет всегда, про заснеженную тундру и Воркуту, откуда мы бежали, спасаясь от погони и криков солдат.
Оператор профессионально молчал и закусывал. Его я не боялся. Он был старожил. Из семьи отсидевшего в этих краях после войны литовца. Он хорошо работал, говорил с легким красивым акцентом и отдавал спокойствием и надежностью.
– На Севере люди лучше, чем на «материке». Теплее. И какая разница, где заниматься своим делом?
В Литву ему ехать было некуда. Те же – только снизу.
Вскоре я с ужасом понял, что работать уже никто не хочет. На счастье, подскакал еще один оленевод, и я вытащил Колю на воздух. И вовремя.
– Где, куда это делось? – кричал он, панически нашаривая рукой под малицей и пытаясь расстегнуть брюки.– Украли?
Приехавший, назвавшись Сашей, предложил было выпить за нас, за тезок, но я уговорил его попозировать. И этим взял их всех голенькими.
Люди – они что? Их хлебом не корми – дай повыпендриваться друг перед другом.
Коля, сев в упряжку с большой палкой в руках, должен был с ветерком проехаться на своих оленях, но стал валиться набок. И я, понимая, что моя первая работа грохается с треском, бежал по куцему снегу, держа Колю сзади в вертикальном положении и увертываясь от торчащей из-под локтя палки.
Затем, разогнавшись, оставлял в свободном полете на некоторое время, пока оператор выхватывал общие и средние планы счастливого такого, разухабистого, русского, можно сказать, пролета.
Вперед – и по кругу. Прямо, как вся страна.
Сняли мы меньше, чем планировали. Но выпили больше, чем предполагали.
И снова в чуме я вытащил наконец свою водку – не везти же обратно две бутылки.
– Возьми рога, – вдруг пристал Коля, – говорят, эти как раз для потенции хорошо. С чаем. Жене понравишься…
Я представил себя стоящим с напильником над рогами и трудолюбиво рубящим стружку для чифиря с шахтерами.
– Да нет, – вмешался опытный старший по оленям. – Дай корреспонденту шкурку пыжика. Пусть себе шапку нормальную сошьет вместо своей, кроличьей.
– Я не люблю пыжик. Это для заведующих магазинами и функционеров.
– Ну и пусть. Они носят, что заслуживают, – раскололся старший по оленям. – Настоящий пыжик – это почти, но еще не родившийся олененок. Из утробы.
«Зверство какое», – подумал я в пьяном угаре гуманизма, но шкурку взял. Удивился короткому ее ворсу. Еще бы – даже не младенца.
Наобещав, Коля вдруг затих. Оказалось, что в чуме все деловые вопросы решает женщина.
Хозяйка подарила мне еще и оленью шкуру. Видать, и вправду понравился. Водку спрятала, оглядываясь, чтобы не видел муж.
– Хорошая будет шапка, – сказала, вернувшись. – Шапка – это голова.
Чумовая баба…
Потом, уже на «материке», я с затаенной радостью смотрел на понтовое убожество пыжиковых номенклатурных пошивов из ондатр и прочих водяных крыс. Свое к своему и тянется.
– Ну вы еще ничего, ребята, держитесь, – одобрительно хмыкнули вертолетчики, забирая на борт нас и оленьи шкуры, для кого-то там, кто сверху – над ними.
Отснятое кино я поставил к разговору о проблемах заполярной тундры в свете вечнорусской заботы очередного правительства о развитии народного животноводства.
Но, вылетая потом в тундру, к оленеводам, опыт учел и на первое приглашение в чум сразу же упирался рогами.
– Сначала работа. Остальное нагоним.
Куда гнать? Все одно тундра вокруг.
А «борт» когда-нибудь, да заберет в небо. Там всегда есть – куда.







