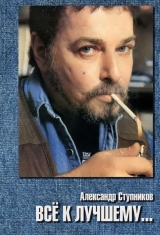
Текст книги "Все к лучшему (СИ)"
Автор книги: Александр Ступников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
СЕКС ПО ТЕЛЕФОНУ
(США, 1987)
Наконец мы запустили первую в Нью-Йорке радиостанцию на русском языке, «WMNB». С 7 утра до 11 вечера. Я был главный редактор (на оскорбительное «директор» не отзывался) и полностью отвечал за эфир и подбор первой команды сотрудников.
Мне как начальнику приходилось поначалу и затыкать «дыры». То есть вести в эфире и «свое» утро, и вечером – несколько раз за синхронного переводчика, пока я не принял на работу действительно знающих людей.
И вот после, в сущности, целого дня в эфире и отчаянного, но уверенного моего синхронного перевода в пустой студии сразу раздался звонок. На вопрос «кто это?» некто шумно и отчетливо дышал мне в ухо. Пока я соображал и бархатным голосом спрашивал: «Извините, что вам надо?», на другой стороне провода она (а это была Она) начала стонать, по-восходящей, и довольно быстро кончила. С испуга, я повесил трубку.
На следующий день после эфира повторилась такая же ситуация: шумная реакция на голос, стаккато, всхлипы и в конце счастливый такой крик по-английски:
– О, мой Боже, Боже!
Так продолжалось несколько вечеров. То ли безответная страсть, то ли изощренное издевательство. Я так и не вычислил, кто это был. Да и не вникал, благодарный.
Только у ущербных мужчин «все женщины одинаковы». Мои всегда были самыми лучшими. Даже среди худших.
РАЗНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
(АНГЛИЯ, 1987)
Не важно, сколько у тебя друзей. Важно, сколько их окажется, если проиграешь. И сколько останется, если выиграешь.
Омнибус, двухэтажный лондонский автобус, красный, скорее, от растерянности, чем от злости, протяжно загудел и почти уткнулся мне в спину. Глупо попадать под колеса по собственной неосторожности. Особенно после всего, что уже было, и тем более -будет. Но я действительно шагнул с тротуара на узкую дорогу, забыв о непривычном левостороннем движении и посмотрев назад, влево. Мне было не до дороги. И не до уютного английского лета на Оксфорд-стрит, которая вскоре станет почти родной улицей. Но потом, через несколько месяцев. А тогда я шел, обалдевший, сначала от интервью на «Би-Би-Си», а потом – оглушенный окончательно от синенького томика «Нового мира», купленного в книжном магазине по пути, вдруг ставшем в никуда.
На интервью меня позвали из Нью-Йорка, где я когда-то сдал экзамены на предмет работы и почти забыл об этом, безответный. Письмо на официальном бланке из Лондона, гарантирующее билет и гостиницу на несколько дней, застало врасплох. В нем ничего не сообщалось, а просто было приглашение приехать. Никто меня ни до, ни после не учил, как жить на Западе, посоветоваться было не с кем, и я почему-то решил, что это уже обсуждение конкретных условий работы, раз приглашают прилететь издалека.
Американский, белого цвета, документ для зарубежных поездок для не имеющих еще гражданства я уже получил и был несказанно удивлен, когда при заказе билета в Лондон у меня отказались его даже смотреть.
– А зачем мне ваш паспорт? – хмыкнула служащая агентства. – Вы деньги давайте…
– Совсем документ не нужен?А фамилия, а виза? – помню, переспросил я.
– Фамилию вы сказали. А виза – это ваши личные вопросы, – девушка выдала мне билет и пригляделась, мол, что это за «Вася» с русским акцентом из пустынь Буркина-Фасо.
Уже в Лондоне директор русской службы «Би-Би-Си», переговорив со мной почти ни о чем, о жизни, в завершение пожелал счастливого пути обратно в США и посоветовал ждать окончательный ответ. Трехдневная оплаченная поездка в Лондон мне показалась полным крахом. И я пошел гулять по улицам, успокаиваясь, пока вскоре не наскочил на большой книжный магазин. Я поплутал по этажам, и стеллажи вывели меня на «русский» отдел, где среди книг оказалась крутящаяся стойка с периодикой, газетами и журналами. И там, открыв свежий томик «Нового мира», самого солидного, особенно со времен Твардовского, «толстого» литературного журнала страны я увидел большую подборку стихов его, Михаила. Увидел и вдруг сдулся, как воздух из резинового мяча-глобуса.
Когда-то мы учились на одном курсе в Белорусском университете и уже тогда сдружились, потому что оба писали стихи. Только Миша относился к этому серьезно, как к литературе, а я нет. Когда меня крутили на персональных собраниях, он был из тех, кто голосовал против и понимающе поддерживал. Уже после армии, из Заполярья, я приезжал на защиту диплома, и тогда, отчаянно молодые, мы сидели вдвоем за бутылкой вина всю ночь, и он до утра читал свои стихи. Миша писал много и нацеливался не на журналистику, а на серьезную литературу, учиться в Москву.
– Вообще, – говорил он, – я хотел бы избавиться от всех лишних желаний, которые отвлекают писать. Иногда взял бы и оторвал то, что там, под брюками, болтается и мешает думать. Суетность и животные инстинкты – вот зло нашего мира.
И его прозрачно-голубые славянские глаза становились похожи на очи инока, готового к одиночеству, монастырю и келье со свечами на столе.
Я соглашался и даже завидовал ему, по-дружески, поскольку иной зависти так и не познал, и был по уши занят суетным телевидением, трескучей политикой, проходящими женщинами и очередным выживанием в новой заполярной среде, подальше. А потом были очень насыщенные, интересные и трудные годы. Почти десять лет. И вдруг здесь, в Лондоне, так и не получив на руки новую работу и вынужденный ни с чем возвращаться в Америку, обрушивается подборка его стихов, да еще в «Новом мире», в настоящей литературе.
Значит, выбрав тогда направление, Миша столбит свою дорогу, упорно и верно. И горбачевская перестройка пошла, разрастаясь, в гласность, и возможность реализации молодым творческим ребятам. Потом, глядишь, развернутся такие же толковые и энергичные «технари» в экономике, куда же без нее. А я…
Что, мать вашу, два года я делаю в этом Нью-Йорке или сейчас, болтаясь по Лондону? Работаю, ем, собираюсь поменять машину на лучшую, подбираю вещи в посылки к своим, оставшимся, бегаю от американок, которые не прочь переспать и захомутать, несмотря ни на что. Короче, занимаюсь разной ерундой, имитацией жизни. И даже приличную работу по специальности здесь, в Лондоне, провалил.
Мне тогда до жути захотелось, укладывая в сумку журнал с его стихами, давнего друга из уже другого мира, с гордостью за него, не возвращаться в Нью– Йорк, в свой офис, с его крысиной возней и интригами, а бросить все, взять билет и рвануть туда, навстречу, где стотысячным тиражом наконец издают стихи нашего поколения, «восьмидесятников», зачуханного бюрократами и бездарными демагогами на должностях. Уходящими на помойку истории, как тогда казалось, по молодости.
И, глянув назад вдоль дороги, я шагнул с тротуара… почти под омнибус, идущий навстречу.
Много позже мне рассказывали, что Миша писал сценарии и стихи, но сошелся с православно-озабоченными кругами вокруг «Нашего современника» и иже с ними славянофилами, защищающими матушку-Россию и славянское братство от либералов, демократов, засилья лиц сионистской национальности и прочих мировых врагов. Говорили, что его книга о первом белорусском президенте получила награды в Минске, и он не в Москве, а как-то здесь, при каком-то журнале, но где – почему-то никто не знал. И телефона его ни у кого не находилось.
А я по-прежнему помню тот Лондон, куда вскоре переехал на работу, и «Новый мир» со стихами, красиво подписанными – Михаил такой-то, и нашу молодость, и ночи со стихами. И не верю в то, что о нем говорили потом другие.
Для меня, как и раньше, так и теперь, применительно к людям есть что-то выше разных политических взглядов или воззрений. Они слишком мелочны и преходящи для действительно творческого человека. Разные до противоположности, они могут и даже должны быть, но совсем для другого уровня общения и восприятия. С другими людьми и по другим поводам, не относящимся к сути человека, его смыслу, поискам, чувствам, принципиальным противостояниям. А они у всех, у таких, общие. Как настоящая литература. И тем более поэзия.
И все-таки я до сих пор побаиваюсь разыскать его телефон в городе, где мы снова живем, каждый по себе. Найти, чтобы позвонить и встретиться. Как когда-то, верующие в себя. Может, уже в чем-то и разуверившиеся. Странно было бы вернуться в другое время, другой мир и другую страну с теми же мозгами. Всему свое воздаяние. Я никак не решусь сделать это, откладывая.
Жизнь – это годы приобретений, но, видимо, поэтому я уже устал от потерь…
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
(ИЗРАИЛЬ, 1991)
Он работал диктором на государственном радио. Каждое утро приходил в офис, садился к микрофону, но уставал уже при первом слове: «Здравствуйте».
Иногда, вместе с другими, он переводил тексты новостей и читал их в эфир. И однажды, особо не вникая, заявил на весь мир о том, что танки его страны перешли границу соседнего государства и идут на чужую столицу под названием Дамаск. Чуть ошибся с переводом– люди и на одном языке друг друга не понимают. Судя по исходному тексту, танки только подтянули к границе.
Но у его жены с утра было плохое настроение и месячные…
Для всего региона грянули критические дни.
– Это же катастрофа, – закричал начальник и надолго скрылся в казенном туалете.
Ему оставалось всего ничего до пенсии, а тут вдруг война на его голову, и надо было срочно спасать остальное.
Соседняя страна, между тем, подняла свои самолеты в воздух, в тревоге завыли сирены, затаились аналитики и всполошились армии всех заинтересованных в этом мире военных.
«Танки идут на Дамаск, – докладывал радиоперехват – а никто ничего не знает».
И только он, еще читая текст, проникновенным своим задним умом понял, что на самом деле зря они это…
Встречаясь иногда, мы непременно поднимаем рюмочку за войну, которой не было. В мире, которого нет. Но где войн уже и не объявляют.
А так, по-тихому, чтобы не отвлекать людей от рекламы.
И он, пожалуй, единственный, кто может похвастаться, что в большом эфире и реальном времени лично развязал войну с соседним государством. А не со своей женой, сослуживцем или прохожим, как это обычно происходит у других на самом деле.
В КАИРЕ ВСЕ СПОКОЙНО
(ЕГИПЕТ, 1991)
У памятника Неизвестному солдату в виде белокрылой пирамиды никого не было, кроме почетного караула. За ним, на высоком постаменте с позолоченным шаром, размещалась могила президента Анвара Садата, который заключил мир с Израилем. За что его и убили исламские фундаменталисты буквально в ста метрах отсюда, по другую сторону проспекта, где раскинулись пустые, похожие на районный стадион, правительственные трибуны.
Именно здесь по национальным праздникам собирается местное начальство, себя показать и друг на друга посмотреть. Как и повсюду в мире.
Когда я подошел к памятнику, скучающие солдаты вдруг притопнули, прихлопнули и взяли винтовки на караул. Персонально. Я понял, что уже не зря посетил Каир, и дал им по доллару. Солдаты мне очень понравились.
В Египте уважают армию. Но это уважение покоится на страхе перед формой и властью. В стране принудительная воинская обязанность. На три года берут тех, кто почти не имеет образования. На два – чему-то учившихся. На 15 месяцев – тех, кто закончил колледж или университет. Если, конечно, нет денег, чтобы откупиться.
– Ты не представляешь, какой это ад, – рассказывал мне знакомый по имени Мухаммед, выпускник каирского университета, историк. – Сначала у нас был курс молодого бойца – шагистика. А затем бросили в пустыню. Солнце, пески и палатки. Воду мы добывали сами. Еды недостаточно. Мы ловили разную живность, но главное – это вода. Хорошо, что у отца есть какие-то деньги, что у меня три брата, и они привозили воду. Офицеров мы почти не видели. До кухни – километр по песку. До туалета – полкилометра. Нам говорили, что учат выживанию в пустыне на случай войны. Потому что мы первыми будем брошены в бой.
– Пограничники, что ли? – осторожно спросил я.
– Если бы… У пограничников, особенно на границе с Израилем, самые блатные места. А мы танкисты. Отпусков не положено, но за деньги можно получить все. Даже на три дня. Как я сейчас. Но если на четвертый день не вернешься в часть, объявят дезертиром. Хотя не знаю, что лучше. В тюрьме хоть вода есть и кормят…
До армии Мухаммед хотел навестить подружку в Германии, но не смог. Не пустили. Египтянину для выезда за границу, даже туристом, необходимо разрешение властей, что-то вроде выездной визы. Но и посольства свободных стран требуют кроме билета доказательства крупной суммы денег на десятки тысяч фунтов. Таким образом, среднему египтянину туристическая поездка куда-либо почти заказана. Выходит, что и восточная, и западные демократии – не для Мухаммеда.
Да и жениться на своей, достойной, – проблема едва ли не меньше. В Египте старший сын, как правило, не должен оставлять дом родителей, пока не женится. Приличная девушка одна на улицу не выйдет. В противном случае она называется иначе. Невесту подыскивают родители и на каждое свидание к ней домой надо приходить с подарком. А если молодые выходят вместе на люди, то дело почти решенное. Причем родители невесты прежде всего изучают финансовое положение жениха. Плата за жену и сегодня норма в египетских семьях, причем сумма может достигать десятков тысяч фунтов.
А повседневная жизнь в перенаселенной стране душна. Многие имеют по две или три работы – без выходных. На небольшой ткацкой фабрике под Каиром, куда возят отупелых туристов за шмотками, продают прекрасные ковры ручной работы. А ткут их, усевшись на лавках по несколько человек, дети в возрасте до десяти лет. По словам менеджера, за семичасовой рабочий день они зарабатывают деньги, но если пересчитаешь, гроши. Те, кто учится в школе, приходят на фабрику после уроков – на четыре часа. Менеджер пояснила, что ручное ткачество требует особо острого глаза. Она в свои двадцать семь уже не может работать, как дети, у которых пока еще цепкое зрение.
В семидесяти километрах к северу от Каира я видел семью из семи человек, живущих в одном доме. Четыре сына работали. Две коровы давали молоко на продажу. Но дома оставляли в день только чашку – для младенца. Хозяйка благодарила Аллаха, что у них нет газовой плиты, потому что баллон газа вновь подорожал на доллар.
– Это бы вконец нас разорило, – сказала она, прощаясь.
А между тем, отец Мухаммеда, седой и степенный, затянул кальян и с уважением, двумя руками, передал мне трубку. И без того душная ночь шарахнула по голове, и звезды над Гизой поплыли прямо на потолок дома, вполне уютного, но не настолько, чтобы здесь задерживаться. Я понял, что надо обрываться. Пока голова на месте.
Таксист – копт по имени Феда, что значит «Спаситель», с маленьким крестиком-наколкой на запястье левой руки, по ночной дороге в Каир рассказал всю свою жизнь, которая уместилась бы в одно слово – «работа», а в переводе на нормальный язык я бы еще добавил «безысходная». Прощаясь, пригласил в гости. Они гостеприимны, если в них уважаешь хозяина и человека.
А как же знаменитые пирамиды, Каирский музей, храмы Луксора и танец живота?
Скажу только – я это тоже видел.
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
(УКРАИНА, 1991)
Нет, мне, конечно, попадались люди, которые хотели продать Родину. И не продешевить. Но у них на самом деле ее и не было. Одно название. А у этого имелось и звание, и должность, и присяга серьезная, не то, что у меня.
В свое время, на втором армейском месяце, еще в учебке, я загремел, вместе с десятками других ребят под эпидемию дизентерии и, оклемавшись, болтался в больничке, в карантине. Там мне и дали военный билет с указанием даты принятой присяги. Видимо, на солдатском «очке», но с автоматом в руках.
Я и не возражал. Для меня все это формальности. Как штамп в паспорте о браке или дипломы для заполнения пустот стен об окончании каких-то институтов. Кто умеет – делает. Кто любит – живет. Кто верит – верует.
А иначе получается, как с одним нынешним высшим российским начальником: учился – куда не каждого брали. Распределился – куда не каждого посылали. Клялся – в чем не каждому доверяли. И куда все делось? Выходит, и не было.
Я только вернулся из Англии, когда кто-то привел ко мне в гости бойкого подполковника. За компанию. С удостоверением, но без формы. А чего звездить по подъездам? Привел и привел. Чая у меня на всех хватит. Но они принесли «свое»: мол, по-русски. Тоже неплохо.
– Знаешь, – сказал вдруг подполковник, наливая по второй.– Мне вот рассказали, что ты в Англии в солидной фирме работал.
– Работал.
– И в Америке?
– Тоже работал, – отодвинулся я.
– И в Израиле кого-то знаешь?
– Важно не то, кого я знаю, а кто хочет знать меня, – мне уже надоело держать рюмку двумя пальцами, и рефлекторно знобило сходить по-маленькому.
– У меня серьезное предложение, – выдохнул подполковник и вдохнул свою стекляшку, троеперстием, до последней капли. Согласно присяге. – Очень серьезное.
Он сделал озабоченное лицо, и я проникся.
– Ты в курсе, что наш регион солидный в масштабах даже всей страны, – продолжал военный. – И весь он пронизан сетями связи. Не сегодня-завтра начнется приватизация, и только тот, кто вложит приличные деньги, сможет получить контрольный пакет.
– Понимаю, но не понимаю, при чем здесь я. У меня другая профессия, далекая от бизнеса.
– И что? – удивился подполковник. – Приведешь инвестора с фунтами или долларами, можно поставить третьего, местного человека, чтоб не бросалось в глаза, а тебе – приличные комиссионные. Журналистика – вещь хорошая, но хлеб с маслом не заменит.
– Пайку с маслом, – поправил я. – И зачем кому-то на Западе нужна здешняя связь, на рублевом рынке, как бы он ни назывался? Инвестор в жизни не отобьет вложенные деньги.
– Ты не понял,– загадочно сказал подполковник, понизив голос до утробного, для интима. – В пакет войдет и обычная, и специальная связь. Подключайся и слушай. Можно иметь всю информацию, идущую и внутри, и извне региона. И личную, и государственную. Надо всего столько-то миллионов, это пока. Потом цена, безусловно, возрастет.
– Безусловно, – повторил я, подавившись третьей рюмкой.– Но это уже не совсем бизнес.
– Какая разница? – прикинулся дурочкой подполковник. Военные это умеют. – Зато есть смысл заплатить. Информация дорого стоит. Надо только слышать и видеть.
– Посмотрим, – многозначительно сказал я, соображая, что лучше: потерять лицо, выпроводив его сразу, или потенциально свободу, промолчав.
А ведь это такие, как он, когда-то учили меня Родину любить, с оттяжкой. На-лево! На-право! Ша-гом м-м-марш! И все-таки я даже не знаю, кого из моих знакомых заинтересовал бы такой проект. Меня лично на бизнес не тянет. Ферамоны не те. Особенно если он попахивает большими деньгами.
– Подумай, – настаивал он, заряженный.
– Уже,– я мысленно послал его подальше. А потом и вообще забыл. Мало ли кто проходит, беззвездный, по ушам. Не упомнишь.
Интересно, а для таких, как тот подполковник или нынешний большой российский начальник, уже при другой должности, бывает срок давности? Или власть все списывает, влезая на дерево, повыше, шарясь в кронах и мимикрируя там под челядь, ниже некуда. Им проще: невозможно поступиться принципами, которых нет…
ДВАДЦАТЬ МИНУТ
(УКРАИНА, 1991)
Человека отличает от животного только то, что он живет по своим понятиям о жизни, а не по ее законам выживания.
Но это лишь до тех пор, пока не касается смерти.
Я стоял перед проходной шахты в конце рабочей смены и даже не вглядывался в лица. Мне было наплевать на лица. Мне нужны были три человека, которые согласятся срочно сдать кровь.
В больнице сказали, что мать теряет сознание и помочь ей может только новое вливание плазмы. А ее нет. Вернее, есть, но только в обмен на три порции новой крови, оставленной на станции переливания. До ее закрытия оставалось чуть более часа, а где найдешь доноров в миллионном городе, да еще несколько?
И я поехал к шахте. Оттуда группами, по двое и более, выходили раскрасневшиеся после недавнего душа рабочие. Им было хорошо на воздухе и от этого нравилось жить. А в багажнике моей машины лежали только что купленные шесть бутылок водки. По две на брата…
Когда мы с шахтерами приехали на станцию переливания, оставалось еще двадцать минут до окончания рабочего дня.
– Мы не будем принимать кровь, – сказала молодая тетка в регистратуре. – Я не успею вымыть боксы до конца смены. Завтра приходите…
И никакие уговоры на нее не действовали. Я видел мнущихся шахтеров, которым уже надо бы домой, и еще – простыню, натянутую до подбородка, и острое, вытянувшееся лицо матери с закрытыми глазами.
– Иди отсюда, русского языка не понимаешь? – кричала тетка в белом халате. – Сказано же, что никого принимать сегодня не буду…
А дальше я не помню. Эта «затемненка» в глазах и в сознании накатила на несколько секунд такой жгучей ненавистью, которой я еще не знал, и пришел в себя уже почти висящим на решетке, разделяющей холл и регистратуру с бесформенным бесполым белым пятном, дергающимся от злобы и страха где-то в углу.
– Милиция, милиция, – орала она. – Покушение, помогите. Он меня, женщину, сукой обозвал. Вы будете свидетелями…
Шахтеры угрюмо смотрели в сторону. Откуда-то сверху спустилась врач и, выслушав, не вникая, все-таки забрала их с собой. Молча выписала нужную справку, и я рванул в больницу – только бы скорее…
С тех пор я стал присматриваться и понял, что женщин в этом мире гораздо меньше, чем сук.
Но вслух об этом лучше не говорить.
Точнее – и об этом тоже.







