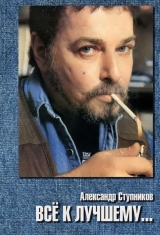
Текст книги "Все к лучшему (СИ)"
Автор книги: Александр Ступников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц)
ОБРЕЗАНИЕ
(БЕЛАРУСЬ, 1971)
Иногда оглядываешься по сторонам, но вспоминаешь о позитивном мышлении и говоришь себе: «Какие красивые и просветленные морды»…
У меня есть только одна хроническая проблема в жизни – не хочу быть несчастным. А это не прощают.
Песню Владимира Высоцкого «Антисемиты» я записал в свои восемнадцать лет. Записал прилюдно – и ответил за нее публично.
Отвечать за других – это стародавняя еврейская привычка, еще со времен раннего средневековья.
В более поздний период, в сентябре, студентов в Белоруссии направляли «на картошку» – помочь селу убрать урожай и приобщиться к настоящему труду. Труд тогда делал из обезьяны человека. И звучал гордо, потому что платили мало или почти ничего.
Гордость – это оболочка пустоты.
Второй курс университета, как впрочем и последующие, начинался именно с такого спецкурса принудительной трудотерапии. В какой-то деревне нас расселили по хатам, где я очутился вместе со своим другом-однокурсником и тезкой, уже отслужившим армию и казавшимся тогда почти «дядей».
– Жизни не видели, – говорил он нам. – Армия учит самому важному – подчиняться, а это значит руководить. Не знаешь – научим. Не хочешь – заставим…
Не сомневаюсь, что он выбился в люди.
Это трудно, но легче, чем оставаться человеком.
Наши хозяева, державшие свою корову, по утрам после завтрака выставляли на стол парное молоко с черным хлебом. Они были добрыми, потому что многое пережили, назывались поляками и говорили на «трасянке» – на русском языке, вперемешку с белорусскими словами и акцентом.
– У войну вось, полдеревни были в партизанах, а половина – в полицаях. Те придут – мобилизация. А потом – эти. Партизан тады много погибло. А полицаи апасля вернулись. Отсядзели сваё и жывуць…
С утра мы выходили в поле, копали и собирали картошку, а вечером, прикупив дешевого вина, «чернил», как его тогда называли, разговаривали, заигрывали с девчонками и играли на гитаре.
Гитара была популярным инструментом у молодежи в силу своих сексуальных форм и всеядности трех аккордов, в которых укладывалось все, о чем не говорили вслух. Но можно было спеть. Или выразительно молчать.
Я, в принципе, «дрынкать» умел и на шести, и на семиструнке. Но не пою, поскольку еще в школе, на уроке пения в младших классах, учитель как-то вызвал меня к доске солировать. Когда я закончил – класс молчал.
Молчал и учитель.
Потом он похлопал меня по плечу и сказал, обращаясь к моим одноклассникам.
– Дети, – сказал он. – Никогда не обижайте этого мальчика.
С тех пор я пел только дома. Да и то, потому что открыл для себя Высоцкого и тех, кого тогда называли бардами.
Кто-то из ребят взял гитару, и вскоре она перешла ко мне, разогретому. По молодости я тогда думал, что песни Высоцкого знают все. Не учел только одного, но важного обстоятельства: мои однокурсники, будущие журналисты, в массе своей были из белорусской глубинки или после армии.
А Высоцкий тогда еще не особо гастролировал, а его песни знали, записывали и переписывали далеко не все. Люди-то живут в своих параллельных мирах, которые часто не пересекаются. Хотя в институте или на работе могут заниматься одним делом. Но мне это и в голову не пришло.
Как это, не знать Высоцкого?
Короче, пропустив по-русски свою порцию дружественного, но жестокого азербайджанского «Агдама» за рубль двенадцать бутылка, я выдал сначала «Штрафные батальоны», которые идут на прорыв. Затем о высотке, за которую полегла рота, но начальник получил новую звезду на погоны. И, наконец, «Антисемиты».
Зачем мне считаться шпаной и бандитом?
Не лучше ль податься мне в антисемиты?
На их стороне хоть и нету закона -
Поддержка и энтузиазм миллионов.
Решил я, ведь надо ж кому-то быть битым.
Но надо узнать, кто такие семиты?
А вдруг это очень приличные люди.
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет…
Это был не концерт и не выступление перед публикой. Номера и авторов на деревенской завалинке я не называл, сначала читал свои стихи, как просили, а потом просто «дрынкал» и пел. И видел, что ребята вокруг меня впервые слышат эти песни.
И девчонки смотрят, и выдыхают красиво так: «Еще… Еще…».
В конце сентября уже быстро темнеет, а осень в том году выдалась холодной и пронзительной. Заморосил дождь – и мы разошлись по хатам. Довольные и подвыпившие.
– Послушай, – обратился ко мне тезка. – Это такая сильная вещь, про евреев. А не мог бы ты записать мне слова?
– Конечно, могу. Но сегодня уже устал. Пока работали, пока посидели. Давай завтра?
– Нет, – вдруг решительно и с нажимом сказал тезка. – Ты напишешь это сегодня.
Мы поругались. Он настаивал, а я, не понимая, зачем так срочно, уперся. Дело явно шло к драке. И тут мой друг, молчавший до сих пор, вызвался стать третейским судьей.
– Мы же однокурсники. И будущие журналисты. Что о нас подумают хозяева за стенкой? Для них, колхозников, мы – сливки общества, – сказал он, допив остатки вина в бутылке. – Пойдем на улицу, поговорим, разберемся, и все станет на свои места.
Дом был почти на окраине деревни и, разговаривая, вдоль разбитой скользкой колеи, обходя и переступая лужи, мы незаметно вышли за околицу. Дождь перестал, было темно, и прозрачная луна маячила над полем, нависшей на горизонте далекой рощей и над нами – в телогрейках и резиновых сапогах.
Я так и не понял, что происходит, опускаясь на землю, когда тезка вывернул мне руку и крикнул: «Да держи ты его…». И мой друг перехватил вторую. Сзади. Не сильно, но все равно не вырваться.
Руки пошли вверх, и я встал на колени. Лицом в землю. Зато задницей – к небу. И куда-то ушли все силы, и дурнота, густая, как запах мокрого поля, поползла в зажатый лопатками затылок.
– Пиши…
Один держал фонарик, другой сбоку контролировал плечо, а я, на коленях, потому что встать – нельзя, таки выводил в подсунутой тетрадке с пружинками:
Зачем мне считаться шпаной и бандитом,
не лучше ль податься мне в антисемиты?…
– Поставь число и свою подпись, – почему-то дрожащим голосом продышал на ухо тезка. – Вот так. И рядом фамилию. Еще раз, разборчиво…
Они убежали, спрятав листок с моими каракулями и подписью у сердца, чтобы не помять, и ночевали где-то в другом доме. И правильно сделали.
Умывшись в луже и отдышавшись на мокрой картофельной ботве, отдохнув до мозга костей на природе, я бы точно прибил их тогда ночью табуреткой. И замазал бы родной факультет своим преступным деянием.
А через полгода, в некиношном сериале поэтапных организованных собраний по отчислению из комсомола и университета этот эпизод всплыл для меня как «написание и исполнение на студенческих сельскохозяйственных работах сионистских песен».
Выходит, я сам на себя написал песню Высоцкого – за свою.
И еще, оказалось, что я – еврей.
С тех пор я вообще не пою. Ни с людьми, ни, тем более, в хоре.
Даже в душе.
Один на один.
Отмываясь от сослуживцев и начальников…
ЮДИФЬ
(БЕЛАРУСЬ, 1972)
Священник шел по улице и смотрел прямо перед собой, даже немного вверх. И не отвлекался по сторонам. Его несло.
А когда-то мы учились вместе. Каждый – своему.
В начале семидесятых годов прошлого века в Советском Союзе проводили внеочередную кампанию государственного антисемитизма. Сначала немного приоткрыли ворота из страны, и тысячи евреев выехали на Запад и в Израиль. Затем калитку прихлопнули. И начали кого-то «чистить», выполняя заказ. Кого-то осуждать, выбирая неприметных «мальчиков для битья», чтобы отчитаться. А в довесок – разоблачать во всю ивановскую.
К нам на факультет будущих журналистов приходил с лекцией о международном еврействе некий Бегун, из местных авторов, подсевших на хлебную для официальных публицистов тему.
Он вывешивал для начала репродукцию картины Джорджоне «Юдифь» по известной библейской книге и объяснял. Нет, не героизм благочестивой вдовы, чей обреченный на сожжение город осадили вавилонские полчища во главе с их полководцем Олоферном. Вдова, напомню, приоделась, пришла в лагерь врага, соблазнила главу войска и, когда он уснул, отрубила ему голову. Тем самым спасла свой город.
– Вы думаете, как обычно думают, что Юдифь – героиня? – спрашивал нас Бегун.
И объяснял, что совсем даже не героиня. А наоборот. Типичный пример лицемерия еврейской женщины, которая ради своих целей готова на все, чтобы потом отрезать голову доверчивому инородцу. И еще писатель рассказывал нам о кровавом навете и его современных последователях, алчных и хищных.
– Скажите, – вдруг спросил тогда один из студентов, тот самый, будущий священник. – А как они забирают кровь у наших христианских младенцев?
И полкурса посмотрели в мою сторону. А я понял, глядя на лектора, что с крысами надо бороться до последней капли крови. Сколько бы они ее ни выпили…
ФРОНТОВИЧКА
(БЕЛАРУСЬ, 1972)
Один человек сказал, что мне повезло жить в свое время.
– Жить – уже повезло,– ответил я и подумал уважительно: – Фронтовичка…
Она была врачом университетской поликлиники. Кто-то из друзей в последний момент посоветовал мне обратиться именно к ней. «Последний момент» наступил после обоймы персональных комсомольских собраний, от группы до бюро университета по отчислению «за взгляды, несовместимые», видимо, с жизнью. В восемнадцать лет о плохом не думаешь. В этом возрасте, да и потом, впрочем, жизнь не пугает, а смерть слишком абстрактна. Не до них…
Но тогда, в университете, было не весело. Сначала всей группе приказали остаться на какое-то собрание. Потом пришел дядька из деканата, и оказалось, что разговор идет обо мне. Дядька рассказал ошалевшим от любопытства и неожиданности студентам о том, что я написал инородную песню против антисемитов и еще кто-то видел у меня антигосударственную листовку.
– Пусть ответит, откуда?
– А я знаю?
В то время из страны выслали Александра Солженицына, и в газетах публиковали письма трудящихся, возмущенных его нечитанными книгами. Так достигается всеобщая грамотность населения.
– И вот он, – дядька показал на меня, уже стоящего перед всеми почти у стенки, – говорил при свидетелях, ваших же однокурсниках, что книг Солженицына, как и все, не видел, а какая-то доярка в «Литературной газете», выходит, читала и поливает писателя, словно на его книгах выросла.
А потом я вроде бы подбивал саботировать студенческие сельхозработы: мол, наше дело – учиться, а картошку выращивать и собирать должны колхозники. И говорил, что у власти карьеристы и перерожденцы. А чешский «социализм с человеческим лицом», раздавленный танками в 68-м году, – это то, что надо. И еще, и еще… Я много интересного узнал о себе тогда.
Те, кто оказывался под арестом, служил в армии или попадал в больницу, знают, как хрупко построена жизнь человека. Один шаг – и ты уже в другом пространстве, измерении, координатах, ценностях. Тогда это было впервые. Я вышел из аудитории, и вокруг меня уже слоилась вата пустоты, душная и глухая. Кто-то шарахался, обходил стороной как прокаженного, кто-то показывал пальцем и качал головой, кто-то подходил в курилке и без свидетелей пожимал руку: «Держись». В Советском Союзе было много приличных людей, хотя с тобой уже никто не шел после лекций и многие старались не стоять рядом в перерыве. И все равно человек не оставался один. Было к кому и пойти, и поговорить, и посоветоваться, и просто рассказать. И всегда, и везде кто-то, нередко незнакомый, готов был помочь. Просто так, безвозмездно. Это была парадоксальная эпоха, когда бояться надо было систему в целом, но не людей в частности.
Через несколько дней, уже на собрании курса, у безымянных организаторов персональных разборок произошла поначалу осечка. Выслушав все, большинство студентов проголосовало за выговор. Но это не устраивало, потому что решение сверху уже было принято. И ребят обрабатывали еще целый час, а я стоял перед всеми и думал: «О ком они говорят? И когда все это, наконец, закончится?».
Курс дожали, провели повторное голосование и – на пару поднятых рук больше – меня отчислили.
– Комсомольский билет свой не отдам,– сказал я тогда, наивный. – Не вы его выдавали.
И мне это потом припомнили, уже на факультетском сборище. Сказали, что это пример лицемерной вражеской маскировки.
– Ну что скажешь?– спросили меня, выставив перед факультетом после обличительной речи какого-то партийного обмылка.
– Что скажу?! Пришло время собирать камни.
– А ты что, еще и «Библию» читал? Пусть выложит, где ее взял.
Народу развлечение. А мне повезло. В эти времена уже не били руками.
Перед последним, университетским бюро, весь вечер и почти до утра я сидел на явке в двухкомнатной квартире у друзей, будущих математиков. Мы сочиняли мое выступление. Чтобы было коротким и доходчивым. Алик, уже пятикурсник, казавшийся совсем взрослым, за полночь завел меня в ванну, и там я репетировал свою пятиминутную речь. А он поправлял и корректировал.
– Бюро комсомола, – говорил он, – это максимум десять человек. Не толпа. Есть, кому слышать. А сегодня не тридцать седьмой год…
Он был прав – в тридцать седьмом они не разговаривали.
На бюро совещались. Меня сначала продержали за закрытыми дверями, затем выслушали, глядя по сторонам или в стол, и окончательно единогласно вычистили из своих рядов. На факультете журналистики это означало автоматическое отчисление из университета. Но через несколько дней, пока бумажки с решениями коллективов не докатятся до подписи ректора.
А причем здесь «фронтовичка?»
На улице, у главного корпуса университета, на прозрачном, как весенние платья девчонок, апрельском солнышке меня ждали друзья. Те самые. Разлетевшиеся сегодня по всему миру.
– Исключили?
Я кивнул головой. Мне хотелось стрелять от бедра, по рожам, в упор. И один из ребят сказал:
– Попробуй взять академический отпуск на год. Дают его обычно по болезни. А тебя и так качает. Шестнадцать лет максимум – старше не выглядишь. В нашей поликлинике есть врач, которая прошла всю войну, даже на передовой была. Иди к ней, расскажи, может, поможет. У фронтовиков закалка другая: не лагерно-охранная, как у «этих».
И я пошел.
Врач оказалась действительно очень колоритной: седая, в больших, с линзами очках, которые делали глаза распахнутыми на пол-лица, и с пачкой папирос «Беломорканал» прямо на столе, у аппарата для измерения давления.
– На что жалуетесь? – спросила она.
– На себя…
Через три минуты она закурила «Беломор». Через пять показала рукой – хватит, все понятно. Затем молча заполнила листки и сказала:
– Это направление к врачам и на анализы. Иди сейчас же. Завтра ты должен быть у меня. И добавила: – Это надо пережить, сынок…
Так я получил академический отпуск на год с диагнозом «истощение нервной системы». И исключить меня тогда не успели. Догнали, правда, через три года. Но уже по-другому.
– Ты единственный не комсомолец на нашем партийном факультете, – вдруг опять объявился дядька из деканата. – Мы не можем таких выпускать в жизнь. Пойди, послужи в армии…
Вместо офицерских погон и диплома впереди маячили брезентовые рукавицы разнорабочего и солдатская ссылка в монгольских степях.
Один человек мне сказал, что времена изменились.
«Может, они и меняются,– подумал я. – Если так, то почему те же козлы ведут тех же баранов?».
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
(БЕЛАРУСЬ, 1973)
Они встретились и полюбили друг друга. По-быстрому. Он пускал слюни у нее на плече. А она стонала, потому что мужчинам это нравится.
– Ты хороша, – солгал он и подумал: «Какой я молодец».
– Ты молодец,– соврала она и подумала: «Опять блядь в штанах попалась…».
Но ничего не сказала. Мужчины обижаются на комплименты. И он промолчал, поскольку уже думал, как бы скорее уйти. Они обменялись телефонами, просто так, для приличия. И разошлись.
Так они встретились и полюбили друг друга.
Но все закончилось хорошо.
Я снимал квартирку и не мог отказать, когда Николай попросил ключ на несколько часов.
– Всего с шести до полуночи, – колотился он. – Я отпраздную с ней Восьмое марта. Такой повод посидеть вместе одним, лучше и не придумаешь. Ты все равно пойдешь в гости. А эта такая девушка. Растакая. Бомба. Учительница младших классов, но знает все…
Мы когда-то учились с ним в школе, и там звали его просто – Палкин. Как государя императора Николая. Только царя так называли за то, что в его время били бунтовщиков. А этого Николая – за неуемную подростковую сексуальность. Мы, мальчишки, дружили классом, время было такое. Играли в футбол, слушали музыку, вместе ходили в кинотеатр, где белый полотняный экран, на который проецировали фильм, просто висел посреди сцены. И однажды показывали какой-то западный шедевр, где молодая героиня вставала во весь рост, обнаженная, лицом к герою, но спиной к зрителю, да еще с распущенными длинными волосами. И мы дружно обсуждали это видение. И Николай больше всех переживал, что ничего, самого главного, у нее не было видно.
И тогда я сказал, от балды, просто так, что, мол, если зайти с другой стороны экрана, то все интересное можно разглядеть, и в деталях. И мы снова собрались на этот фильм, заграничный и красочный. Да еще с голой женщиной, пусть даже и со спины. И когда подошло время той самой сцены вдруг возникла большая крадущаяся тень. Согнувшись, она пробежала к середине полотна и замерла – как раз напротив обнаженной фигуры. Они словно всматривались друг в друга. Зал ничего не понял, сначала затих, потом засвистел и закричал. А тень, испугавшись, скрылась.
– Ничего там не видно, – сказал после фильма Николай. – Но как узнаешь правду, если не рискнешь? Ты же сам говорил…
Это было первое разочарование в его жизни.
Потом, уже поступив в какой-то институт, для диплома, он ударился во все тяжкие и полностью оправдал свое школьное прозвище, отдаваясь скоротечной любви в подъездах, скверах и даже на кладбище, прислонив подругу к устойчивой могильной плите.
– Изучаю женскую психологию, – объяснял он, пересказывая мне очередную нечаянную встречу.
И разве можно было ему отказать в квартире на время? Да еще в женский праздник, когда им и подливать не надо.
Я дал ему запасной ключ, а сам поехал в гости. Мы пили за женщин, свободных, но занятых не мной в тот вечер, читали стихи и говорили о замечательном мире в каморке у папы Карло за нарисованным очагом, где играют «Битлз» и «Роллинг стоунс», все ходят в джинсах, любят и радуются жизни. В двадцать лет и мы радовались друг другу. Тогда за любовь еще не платили.
Далеко за полночь я добрался домой. Свет в окнах не горел. Дверь открылась легко и без скрипа. Было темно и страшно хотелось спать. Я прошел в спальню, на ходу разделся, бросив вещи на пол, и завалился на кровать.
Рядом, под рукой, вдруг материализовалось что-то мягкое, жаркое и распаренное.
– Большая… – только и подумал я.
– Ну давай, – застонала она, раскрываясь.
И я дал. А что мне оставалось делать? Это много позже сексуальная жизнь становится изощренней, чем в юности. А все потому, что с каждым годом остается больше возможностей подумать и меньше – повторить.
– А собственно, кто это? – навеялось тогда, но потом, вместе с растущим чувством голода. Я осторожно сполз с кровати, набросил рубашку и протиснулся в коридор. На кухне, как ни странно, почему-то уже горел свет. А за столом, заставленным закусками, за полупустыми бутылками вина и водки на деревянном табурете восседал…Николай. Голый и удивленный. Как белый вопросительный знак на фоне черного оконного квадрата, выходящего в мир.
Оказалось, что они вдвоем хорошо отметили праздник, и он, подтаяв, рассказал ей о своей жизни. И одиночестве. И она прониклась. Он показал ей свои мужские достоинства. Оказалось, что это недостатки.
И было все. И ничего не было, потому что он заснул и, проснувшись, пошел в туалет. А когда вышел оттуда, то услышал в спальне вздохи и стоны. И не понял, кто там и откуда. Но на всякий случай сел на кухне.
А что ему оставалось?
Я молча разлил вино, мы чокнулись и рассмеялись. Потом вышла она, уже одетая и умытая, хоть бы хны. И тихо присела между нами на уголок стола, не мешая. И мы пили оставшееся, травили анекдоты и пели под гитару «о том, кто раньше с нею был» и о штрафных батальонах.
И мартовские коты подпевали нам с улицы восходящего смуглого двадцатилетнего солнца. Чистого, как инстинкты, еще не замутненные помыслами и рассуждениями мозгов, засоренных годами жизни среди людей.
НАСИЛЬНИК
(БЕЛАРУСЬ, 1974)
– Это он? Вроде, похож.
Их было двое.
Я едва успел войти и даже не присел, когда один из них схватил со стола листок и, глянув на него, впялился мне между глаз. Прямо, но насквозь.
На листке был карандашный портрет какого-то парня. С короткой стрижкой на пробор.
– Разберемся, – второй небрежно отложил листок в сторону. – Сам расскажешь, зачем ты ее насиловал и выбросил из окна?
– Кого ее?
В отличие от кино и прочих глупостей для девочек, они оба оказались злые. Оба представились следователями и даже показали удостоверение. Но я их не разглядел – все поплыло…
За полчаса до этого меня вызвали в деканат прямо с лекций.
– Вам срочно надо в здание студенческого общежития на улице Октябрьской. Знаете, где? Это новая высотка около стадиона «Динамо», – заместитель декана был строг и собран. – Вас ожидают в комнате коменданта. Вещи можете не брать, это ненадолго. Там все объяснят.
Я подумал, что, может быть, мне все-таки решили дать общежитие. После гибели отца было стыдно получать переводы из дома и, чтобы сэкономить, я подселился к более счастливым однокурсникам «зайцем», нелегально.
Приходил как можно позже, стелил на полу, между четырьмя кроватями, матрац и спал, чтобы уйти утром. В библиотеку. Все равно до лекций податься было некуда.
Библиотека мою учебу в университете и погубила. Я читал, открывая для себя мир неизвестных авторов сначала в тематическом каталоге, потом уже с книгами и старыми подшивками газет. Не зря в старые добрые времена их сжигали публично. Много книг – много вопросов. А власть не любит отвечать. Для этого есть подданные.
Через пару месяцев у ребят, приютивших меня, возникли проблемы: мол, нелегала держат, и я переселился на второй этаж того же общежития родного факультета.
Мне повезло. Мне почему-то всегда везло: там затеяли длительный ремонт, и в одной комнате были свалены батареи парового отопления. За ними я прятал матрац и казенное одеяло. На них и спал. Кроме батарей в комнате ничего не было, даже света. Осень тогда выдалась холодная, и, сжавшись каждый раз проскакивая мимо дежурного, поскольку пропуска не было, я даже не раздевался. А просто заворачивался в одеяло, положив под голову портфель.
Одежду держал этажом выше, у однокурсников.
С утра приходить в гости к студентам не запрещалось, и мне можно было аккуратно у них появляться, переодеться и принять душ. По юности мне еще было непонятно, почему и за что тебя выталкивают в изгои. И все, вроде, должны быть равны, но одни имеют права, другие их получают, а третьи, не имея, о них задумываются. Так взрастают революции.
Из «чужих» никто не знал, что на самом деле я ночую здесь же, внизу, этажом ниже. Да никто и не интересовался. Самое главное – конспекты, библиотечные выписки, тетрадь со стихами, зубную щетку и пасту – я всегда носил с собой. А где оставишь?
Это была идеальная студенческая жизнь. Батареи в темной комнате, где можно было свалиться и спать. Ранние морозные рассветы, пригодившиеся потом в армии. Теплая республиканская библиотека, девчонки с подъездами и друзья по всему городу, у которых я иногда, задержавшись, охотно оставался ночевать. И поесть.
Но я все-таки надеялся, что, как иногороднему и малообеспеченному, мне однажды дадут свое место в общежитии. Как положено. Право-то было. Только где его взять?
– Давай, рассказывай. Срок тебе, парень, светит немалый…
Следователи поначалу недоверчиво слушали о том, что я вообще никогда не был в этом здании и понятия не имею ни о девушке из какой-то комнаты, ни о насилии, ни о том, кто ее выбросил. Если такое действительно было.
Через полчаса они все-таки согласились, что портрет подозреваемого на меня не очень похож, особенно пробор, но потребовали подробного отчета за какой-то там день: где был, когда и с кем. В деталях. Еще час я все это описывал уже как показания.
– Ладно, – в конце концов сказали насильники от власти. А кто они еще? – Похоже, это был не ты. Свободен…
Через несколько лет, уже вернувшись из армии, я встретил однокурсника. Случайно, как почти все в этой жизни. Не считая следователей.
– Ты помнишь? – сказал он. – Однажды тебя вызвали прямо с занятий к декану, надолго? Так вот, в перерыве мне сказали забрать твой портфель и отнести его в деканат. Там сидел какой-то штатский. Он и прибрал вещи на обследование. Через лекцию, на другом перерыве, меня вызвали снова, и я отнес портфель обратно в аудиторию. Так что ты, вернувшись, ничего и не заметил. А что у тебя там было?
– Не знаю, – растерялся я, вспомнив карандашный портрет, на один ровный пробор, с головы до самого сзади, донизу. – Знаю только: то, что было, не было…







