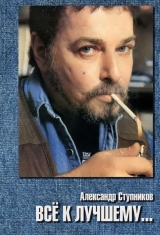
Текст книги "Все к лучшему (СИ)"
Автор книги: Александр Ступников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
НАСЛЕДСТВО
(ИЗРАИЛЬ, 1998)
Один человек мне сказал, что ему звонят только, когда от него что-нибудь надо.
– Радуйся, ты нужен людям, – ответил я и подумал: «Хуже, если наоборот».
– Почему вокруг говорят только о ком-то? – удивлялся Илья. – О каком-то политике, о вечном росте цен, о брэндах, о том, что певица вышла замуж и муж сделал себе имя, а потом развелась и сделала на этом деньги…
Илье было под тридцать. Он работал, трахался и спал. На большее времени не оставалось. И ничего в его жизни не происходило. А хотелось бы…
– Когда нет своей жизни, то ничего не остается, как пережевывать чужую. Надо же о чем-то разговаривать. Все еще хочешь, чтобы и о тебе говорили?
– Конечно, хочу…
– Скажи, что получил наследство. 200 тысяч евро, – я почувствовал себя Мефистофелем. – От какого-то дядюшки из какой-то там Швеции…
– Может, миллион? – спросил Илья.
– Нет, миллион – это много. Не переживут.
Иногда так просто сделать человека счастливым. А его ближнего – несчастным.
Илюша пропал на две недели. Ему звонили друзья и знакомые. Одни поздравляли, плохо скрывая раздражение, и просили записать их телефон. Вдруг понадобятся. Мало ли что… Другие настойчиво приглашали на шашлыки и просто пообедать вместе. За их счет. А чего мелочиться? И все спрашивали, как он намерен распорядиться деньгами.
– Я устал, – сказал он при встрече. – Они мне надоели… Говорят о своих планах по бизнесу, приглашают в инвесторы. Рассказывают о мечтах, о домах в Майами и несбывшихся путешествиях. Сватают и сватаются. И все – о себе и о моих деньгах.
Мне показалось, что он сам в это поверил.
– А ты скажи, что отдал все на борьбу с тем же СПИДом… Тебе, мол, и так хватает.
И они враз оставили его в покое. Как отрезало. И он ожил. И, забив косячок на всех и вся, рисует тушью свои дзен-картинки за столиком в мастерской моего друга-художника, где почти вчера мы вечерами пили дешевый молдавский коньяк и вспоминали разное из своей жизни. А он сидел рядом, слушал и смотрел, радостно за нас и отстраненно – за себя. Еще бы.
– Дурачок, – сказал один из его знакомых. – Полмиллиона евро взял и выбросил. Уж я бы их потратил с умом. Купил бы…
Один человек мне сказал, что можно хорошо заработать, если найти деньги.
– А зачем тогда зарабатывать? -ответил я и подумал: «Было бы, что терять».
ПРАВЕДНИЦА
(ИЗРАИЛЬ, 1999)
Фима оставлял машину за городом на бензоколонке, а я подбирал его в условленное время и отвозил домой. Он ложился на заднем сиденье и, оглядевшись, бегом пробегал десять метров до подъезда, чтобы нырнуть туда и проскользнуть в квартиру. Дети знали, что двери нельзя открывать никому и говорить нельзя никому, что папа дома. Русская жена Фимы прятала его от соседей и полиции.
Словно жили они в оккупированном европейском городе времен Второй мировой войны, а не в Израиле.
Тех, кто прятал евреев от нацистов, называли «Праведниками мира».
– Праведница, – говорил Фима о жене, когда мы молча наливали по рюмке «паленой» русской водки, купленной в близлежащем кошерном магазине.
Настоящего в этом мире мало, даже водки. Точнее, настоящее стоит либо дорого, либо ничего. Фима был настоящий.
Он умел дружить, но не умел делать деньги. Он их зарабатывал, а это значит, был оберечен иметь то немногое, что имел. Не больше…
Достаточно для умного, но недостаточно для примирения с жизнью.
В свое время Фима хотел зарабатывать хорошо, подался к нефтяникам и летал на две недели в месяц на буровую в Сибирь. Это называлось вахтовым методом. Деньги он получал неплохие, но через год такой жизни его жена, вдруг почувствовав, как уходит молодость, тоже перешла на вахтовый метод.
В маленьком городке, где они жили, скрыть что-нибудь было трудно, но Фима узнал об этом последним, поневоле застукав ее с другим.
Счастье – это когда меньше знаешь, только у каждого – своя мера познания.
Фима тогда не ушел – некуда. И не выгнал ее – тоже некуда. Скандал ничем не закончился. У них уже было двое детей: от нечего делать, как у многих мужчин, или для круговой поруки, как у многих женщин. А может, и для самозащиты, как и у тех, и у других.
Но когда они переехали в Израиль, он время от времени вспоминал о непоправимом, про себя и с друзьями, наливаясь сам и наливая сначала нам, по полной.
И однажды сорвался…
– Я скажу тебе прямо: у меня своя жизнь, а у тебя – своя,– залепила как-то в него жена, приобщившаяся было к новым эмансипированным женским журналам, где описывалось, как надо думать и держать себя в очередном поиске осмысленного женского счастья. И Фима, не подумав, так же прямо дал ей под глаз. Не специально – так попало…
Кто-то из детей, уже прошедших правильную израильскую школу, вызвал полицию, и его повязали по статье «за насилие в семье». Жена, правда, полагала, что в полиции его припугнут и отпустят. Но она смотрела на жизнь через русские каналы телевидения, а за окном были в основном выходцы из Северной Африки. Как бы евреи, но арабские. И в полиции – тоже. А они думали иначе. Особенно о русских.
Короче, евреям везде тяжело.
– Жена в молодости – это цветной треугольник, затем – серый овал и, наконец,– черный квадрат, – загадочно бросил мне Фима, когда его в наручниках и кандалах на ногах, словно опасного преступника, привезли в суд.
А я и не возражал.
Выручили его спасенные от жены деньги. Валюта, что бы ни говорили бедные – лучший друг, особенно в беде. Несколько заседаний и столько же тысяч долларов на адвоката закончились для Фимы на редкость благополучно. Он получил пять лет условно, полгода общественных работ и три месяца не имел права приближаться не то что к своему дому, но даже к родному городу. Так государство защищало его жену. Нарушение этого постановления грозило ему немедленным полуторагодовым сроком в израильской тюрьме.
Поскольку текущие счета к государству отношения не имели, а в семье он единственный ходил на постоянную работу, то ему приходилось тайно выезжать и возвращаться. Мы же, соблюдая правила конспирации, рано-рано утром и попозже вечером забирали и привозили его домой от бензоколонки или с окраины города, где Фима бросал на ночь свою тачку. Он хотел жить в еврейском государстве, но не в тюрьме.
А что такое государство без тюрьмы? Даже не прилагательное…
На ночь и в выходные его прятали от чужих глаз домашние. Они уже прочухались, но дети вдруг заговорили о новой эмиграции в ту же Канаду, Австралию или еще куда-нибудь, где можно зацепиться. И Фима тоже. Он вновь созрел для свежих пейзажей и лиц.
Чтобы стать по-настоящему смелым, надо сначала почувствовать себя беззащитным.
И только русская его жена не очень разделяла эти разговоры. Все равно съемная квартирка, все равно кухня и те же магазины. Все равно постылая работа – на выживание. Все равно тот же Фима, наконец. Какая разница, где распылять оставшиеся годы?
Она уже перестала читать глянцевые женские журналы и купила строгий калькулятор – главный символ состоявшейся семейной жизни.
Но зато у них появилась новая цель. А разве можно вставать на работу без цели? Просто жить, бесконечно вылавливая блохастые скидки в пархатом семейном бюджете, казалось скучным и бессмысленным. Оно так и было, но…
Вечерами они строили планы, пересказывали чьи-то успешные истории и замирали от любого звонка в дверь, переходя почти на шепот. А вдруг соседи услышат, что Фима дома, и проявят присущую соседям всех стран гражданскую сознательность?
Так Израиль снова объединил их семью, но они это не оценили.
Дети через несколько лет совсем подросли и, не дожидаясь повестки в армию, уехали. Фима к тому времени серьезно заболел и застрял в очереди на пересадку почки. Наконец, он нашел какой-то хитрый вариант со страховками, и почку ему пересадили в Питере, в России. Операция прошла удачно, и Фима вновь почувствовал солоноватый вкус жизни.
Выйдя из больницы, он, одурев от счастья и свежего воздуха, купил себе водки, консервов и жирной колбасы, как в молодые годы на буровой. Водка была настоящая, консервы хорошие, а колбаса вкусная. И почка не подвела. Но Фима умер. От прободения язвы.
Мало того, что еврей, он еще оказался и язвенником.
И ушел один, в чужой съемной квартире.
Но все лучше, чем среди людей, как в общей камере.
Ему нечего было оставить после себя и тем самым радовать или ссорить близких. Смерть обеспеченного человека – всегда лучшая новость для родни. Подарок с неба.
У Фимы же было все, поскольку ничего не было. И жизнь его завершилась так же просто, как и началось.
Мы хоронили его в Израиле. Дети не приехали, потому что их немедленно забрали бы под суд и в армию. Они учились и работали где-то далеко, выстраивая свою жизнь. Фиму, как оказалось, некошерного, уже равнодушного ко всему на этом свете, обрезали за умеренную плату, завернули в саван и закопали.
– Самое лучшее в его жизни уже случилось, – не выдержал я.
– Зато он дома, на Святой земле, – подхватила русская жена и заплакала.
Ей еще надо было возвращаться в их съемную квартиру и неизвестно сколько времени ждать возможного приглашения от детей. Но об этом почти никто не знал. Пока мы живы, всегда есть, что прятать от окружающих.
– Он меня и не бил, – вдруг сказала его жена. – Так, разок… А ведь бьет – значит любит…
Я почему-то подумал об антисемитах.
И потому промолчал.
Ничто так не оттеняет тщетность жизни, как пышные похороны, и не стимулирует ее жажду, как поминки.
Пока гости для приличия пропустили по рюмочке, поболтали немного, выдали свои речевки и, отметившись, разбежались по неотложным делам, я напился и хотел было набить какую-нибудь полицейскую морду. Но передумал, потому что мало выпил. Да и полицейские на дороге не валялись. А вызывать их по этому поводу на дом было глупо.
Но и не умнее, чем жить по их правилам. А жизнь в любом случае добром не кончается.
Правда, Фима?
ПОХОРОНЫ КОРОЛЯ
(ИОРДАНИЯ, 1999)
Было уже часа четыре утра, когда о стекло машины кто-то резко ударил.
– Попробуй головой, громче будет, – я даже не сразу и сообразил, что и где происходит. Но сон слетел моментально, когда стук настойчиво повторился, нарастая.
Приподнявшись на откинутом сидении, в темноте, слегка освещенной тусклым фонарем, я увидел вокруг машины пять или шесть арабских солдат с автоматами, направленными прямо на нас. Офицер с пистолетом наизготовку наклонился почти к моему лицу.
– Попали, – сказал оператор, протирая глаза.
Поспать нам удалось всего ничего. Накануне, далеко за полночь, мы вдвоем, дотянув до севера Иордании, сморились окончательно и решили остановиться в какой-нибудь арабской деревне, уже недалеко от израильской границы, которая открывалась только в шесть или в семь утра. Нашли небольшую площадь, значит, в центре. Припарковались в углу, в сторонке, и выключились…
За сутки до этого пузатый офицер, на сносях, в синей форме с бровастыми погонами, голосовал прямо у поворота от иорданского пропуского пункта на границе с Израилем. Дорога выводила на основную трассу, идущую от севера королевства, затем вдоль Мертвого моря с поворотом на столицу Амман. Я знал ее наизусть, изучив накануне поездки подробную карту Иордании. Так всегда прорабатывался любой маршрут. Но одно дело – на бумаге, а другое – наяву.
– Проезжаем, – почему-то испуганно выкрикнул оператор.
И он, и я с обегчением выскочили из последнего многоступенчатого пункта пропуска, где мы открутили израильские номера, заплатили, сколько надо, и поставили другие, иорданские. Так положено из соображений безопасности. Хотя у нас по рожам за километр было видно, что мы – не местные.
– Берем, – так же рявкнул я, соображая на ходу, что иорданский попутчик-офицер в нашу машину скорее всего садится не случайно: и отследить, будем ли мы сворачивать где-нибудь до Аммана, и станем ли с кем-нибудь общаться по дороге.
Все это не страшно и даже правильно. А главное – он же за нами и присмотрит, если вдруг возникнут какие-то проблемы. Страна-то арабская. И незнакомая.
Он так и сопроводил нас почти до столицы, через пять минут разговора утонув в английском, смущенный. Но зато вдоль трассы попадалось несколько контрольно-пропускных пунктов. И видя у нас иорданского офицера с большими звездами на плечах, солдаты не останавливали и не морочили голову. И еще, рдея под малиновыми своими беретами, как девушки, безропотно отдавали честь, что уже радовало и даже льстило.
В Аммане мы сразу заблудились, не доехав до центра, где должна быть нужная гостиница. Проспекты утыкались в большие круги, от которых расходились радиусом другие дороги. И мы, поняв, что теряем время, решили остановиться у какого-то торгового центра, закрытого по случаю траура. Потому как рванул я в Амман спонтанно, едва услышав о смерти короля. Сразу щелкнуло, что это повод дыхнуть новой страной, принюхавшись. Второй раз всегда можно приехать спокойно и без спешки.
У торгового центра я вышел на улицу, чтобы спросить у прохожих направление на гостиницу, а оператора попросил подготовить камеру, лежавшую в багажнике. Он, по неопытности, вытащил ее наружу, вставил кассету и начал что-то там подстраивать, прикидывая вдоль проспекта. А я уже видел, как с другой стороны площади к нам почти бегом двигаются двое в штатском и трое в военной форме с оружием. Надо было что-то делать…
– Какого черта ты возишься? -в голос заорал я. – Укладывай технику, потом разберемся.
Подбежавшие резко притормозили, и один из них, штатский, но по поведению старший, растерянно спросил на понятном с детства языке.
– Вы что, русские?
– Русские.
– Здорово, – обрадовался он. – Давно земляков не встречал. Мы тут подумали, что это за парни: то ли с видеокамерой, то ли с оружием…
– Да нет, телевизионщики. Могу удостоверение журналиста показать.
– Не надо. Я ребят сразу вижу. Учился на юридическом в Иркутске…
Полицейкие объяснили дорогу и сказали, что похороны уже, в сущности, начались.
– Вы лучше сразу идите в том направлении,– показал «земляк», довольный, что вспомнил свою сибирскую молодость.
Тело короля, между тем, возили по всему городу, и повсюду стояли толпы людей – мужчин и женщин. Некоторые плакали. Скорбь была искренней. В Иордании король, правивший десятки лет, был уважаемым отцом нации, символом стабильности и независимости. На тусовке срочно прилетевших глав государств отдавали долг памяти ушедшему и дань уважения новому королю. Работать никто не мешал: ни служба безопасности, ни люди на улицах. Иорданцы гостеприимны и в меру открыты.
В гостинице, где была возможность отсылать материалы по всему миру, коллеги обменивались, если надо, картинкой и помогали друг другу. Никому не приходило в голову запросить за это деньги. Или отказать. Ребята, работающие на солидных каналах, тем и отличаются. Мы были друг другу не конкуренты, а коллеги. Чей-то монтажер бойко слепил мне сюжет на начитанный в туалете звук, и вскоре я послал его в Москву.
– Ну, что будем делать? Все остаются на ночь, погулять, посидеть в ресторане. А мы?
– Как скажешь,– ответил оператор.– Нам, татарам, один черт. Можем остаться, можем рвануть обратно. Чего здесь делать?
– Давай лучше по дороге посидим где-нибудь в настоящем арабском ресторанчике, с настоящими местными людьми…
И мы потихоньку, уже вечером, отправились обратно, не зная, что граница до утра будет закрыта. Нам сказали об этом в каком-то придорожном кафе, уже в глубине Иордании, где мы, вытянув ноги, оттягивались и местной едой, и кофе, и лицезрением по телевизору программ о короле. Глубокой ночью, застоявшись, решили подтянуться ближе к границе. Но не доехали. Сморило…
– Выходите из машины. Документы. Вы кто? – офицер явно нервничал. – Откройте багажник.
Они держали нас под прицелом все время, пока старший читал «корочки», а двое солдат, не отпуская автоматы, одной рукой под свет фонариков перебирали багажник. Было по-утреннему зябко, хотя и темно.
– Так вы русские? Никогда не видел, – наконец, сказал старший. – Всполошили вы нас. Сообщили, что какая-то иностранная машина «залегла» на площади, совсем рядом.
Оказалось, что их полицейский участок был от нас буквально в пятидесяти метрах.
– Пошли к нам, угостим настоящим иорданским кофе, – сказал офицер с облегчением. – Все равно у вас есть время до открытия границы.
Потом мы сидели, согреваясь, в участке, где, оказывается, у полицейских почти нет работы. Некого задерживать – все тихо. Оператор дремал. А я трепался с двумя дежурными офицерами об их стране и о России, отбиваясь от вопросов о вечном ближневосточном кризисе и о палестинцах с их борьбой.
– Очень хорошо, что мы тебя разбудили, – сказали они, когда розовое солнце быстро, по-восточному, стало наполнять светом все вокруг. – Приезжай. Наш участок ключевой, мимо не проскочишь. Посидим за столом, попробуешь нашей баранины, покажем, что хочешь, будем рады. А сейчас мы сообщим на пропускные пункты, чтобы вас не задерживали с проверками.
– Отлично посидели с местными. Как заказывали, – хмыкнул оператор, когда уже другие солдаты на КПП отдавали нам честь, проплывая.
В этом мире трудно найти общий язык только тому, кто не хочет разговаривать или не слышит другого. Поэтому я брезгую, избегая религиозных фанатиков, нацистов и государственных чиновников. Но их гораздо меньше, чем людей.
ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ
(ПАЛЕСТИНА, 2000)
Один человек крикнул мне, что Аллах акбар.
– Воистину Акбар, – ответил я и подумал: «А кто ж против?».
Прыгнувшая из-за поворота под колеса дорога была перекрыта горящими шинами. Они чадили, и густой рваный дым возносился вверх, как фимиам.Что только не воздают тебе, Господи. Пахло опасностью и непонятным идиотским азартом.
Палестинские подростки с камнями в руках и завязанными куфией лицами всплывали из-под черного дыма, и дрожащий плавленный воздух лепил дома и минарет неподалеку в красивую, почти сказочную фантазию. Где-то за ними обязательно крутились и взрослые.
Это был арабский День гнева, или иначе День земли, а на нашей машине маячили желтые израильские номера.
– Поворачиваем, – закричал оператор, – порвут ни за что.
У него была астма и молодая подруга, которая по пять раз в день звонила, беспокоясь, как дела и когда он приедет. У меня была только жена и дети, которые не звонили никогда, чтобы не беспокоить. Работа как секс, лучше не отвлекать.
– Тормози, – главное, чтобы они не успели бросить в нас первый камень, иначе посыплятся другие, кто-нибудь пальнет с дуру, и хана. Было видно, что до нас здесь уже кто-то резко разворачивался. На дороге валялись разбитые стекла и множество булыжников.
Я выскочил из машины и начал громко, по-русски, ругаться на оператора, который вжался в руль и еще не понимал, что собственно происходит. Пацаны удивленно прислушивались. А мне надо было не дать им очухаться и напасть – иностранцев они не трогали. Нас разделяли десять-пятнадцать метров.
Матерясь и на машину, и на них, замерших с камнями в руках, я пошел прямо на костры. Подростки поняли, что это не израильтяне или, по меньшей мере, сумасшедшие.
Накануне с утра мы поехали на грандиозный митинг в память изгнания палестинцев с территории нынешнего Израиля. Арабы помнят это и называют своей «катастрофой». Коллега-палестинец, стрингер агентства «Рейтер» из Хеврона, с которым мы однажды оба попали под обстрел резиновыми пулями израильских снайперов, стукнул мне по телефону, что будет массовое действо с участием полувоенных формирований.
– Приезжай, – прокричал он. – Я там русских ни разу не видел, боятся…
Блокпосты обеих сторон мы проскочили легко. В палестинском городе с израильскими номерами на обыкновенной машине (западники и залетные россияне катают там на джипах) – это как в баню с галстуком. Главное, чтобы ребята из их службы безопасности сели тебе на хвост. Пока нет наружки, чувствуешь себя неуютно. Присматривают, значит, и охраняют.
Те из нашей братии, кто ездит в эти места на прицепе у начальников или всегда договариваются заранее с «принимающей» стороной, такого не знают. Им и не надо. Надо отработать «паркет», снять крутые кадры, «страшилку» безболезненно можно вставить из ленты западных информагентств, идущих по подписке, но обязательно засветить себя на каком-либо местном фоне: мол, был в горячей точке. Мы же работали «с налета», вживую. И этот риск давал ни с чем не сравнимое удовольствие экспромта и полета.
Площадь уже была заполнена людьми, но со всех сторон к ней еще стекались группы школьников и молодежи. Громкая и, видимо, патриотическая музыка через динамики заводила толпу, и все было похоже на уже забытые праздничные демонстрации советских времен. На крышах домов маячили снайперы в черной форме, и дети пели, размахивая палестинскими флагами и лозунгами на арабском.
Никто не мешал работать и даже не проверял документы. Здесь, это было заметно, всегда тактично относились к прессе и даже на этот раз воздвигли специальную площадку для удобства работы операторов. Пропускной системы «пуллов», подступа к «телам» не было, и только совсем не строгое, солидно игнорирующее камеру зеленое военное оцепление отделяло место для начальства от остальных.
Вскоре руководство автономии степенно вышло на дощатую эстраду, и начались речи, недлинные, прерываемые криками, переходящими в скандирование. Площадь заводили в разных местах специальные люди, и вдруг вокруг нас запели единую песню и затем начали отчетливо чеканить
– Бе-ля-ди-на. Бе-ля-ди-на.
– Блядина, – резонируя многоголосием, неслось в голубое до прозрачности небо, и оператор, вытаращив на меня глаза, опустил камеру.
– Снимай, там-тарарам, «блядина» – это по-арабски «отчизна».
Рядом раздались одиночные автоматные выстрелы. Двое парней в черных масках залезли на плечи товарищей и, выставив вверх стволы «калашниковых», палили по Господу Богу, от всей души. Еще немного, и люди вокруг были готовы идти, куда позовут.
Для единства этого достаточно.
А на обратном пути мы нарвались на горящие шины…
Пацаны позвали старшего и охотно отвечали на любые вопросы. Мы уже почти закончили, как вдруг из-за домов подскочил открытый военный джип, и парни в беретах и голубом камуфляже серьезно наставили на нас автоматы. Камера оператора на них не производила никакого впечатления. Разговаривать они тоже не стали, а только ткнули дулами в сторону моей машины.
Двое сели впереди и сзади, и мы, сопровождаемые джипом, поехали в город, который Рамалла – неофициальная столица Палестинской автономии.
Было уже около часа дня, а на пять у меня был заказан спутник в Иерусалиме для отправки заявленного сюжета к шестичасовому, по местному времени, выпуску новостей из Москвы…
– Что они хотят? – наконец занервничал оператор, когда офицер жестом показал мне, что звонить по мобильнику нельзя. Но и не забрал.
Мобильники иногда изымали только у входа в резиденцию Арафата в Рамалле. Временнно. Возможно, после того, как такой аппарат несколько раз взрывался в руках у какого-нибудь очередного «инженера» из террористической группы или наводил ракету с израильского вертолета.
«Мухабарат», служба безопасности, принимала должные, по их правилам, превентивные меры. У каждого своя работа, и ее надо уважать. Иначе сдохнешь.
Сопровождающие настороженно смотрели в окна. Местный народ, восточный до темени в глазах, кто вдоль дороги, кто у заставленной хламьем лавочки, в свою очередь, вовсю глазел на нас.
Люди смотрят друг на друга и думают, что видят.
– Давай так, ты будешь молчать и знаешь только по-русски, – весело, словно бросаясь шуткой, я протянул оператору сигарету.
Всего две минуты назад он, растерявшись, на какой-то вопрос палестинского офицера простодушно ответил на иврите «кэн» («да»). Это было плохо, даже очень. Но обычно допрашивают не те, кто забирает. Может, и не зацепили. В конце концов, «да» и я по-арабски знаю, если что.
Нас привезли в полицейский участок, который вскоре стал печально знаменитым на весь мир. В то самое здание, совсем не большое, где потом линчевали двоих израильских резервистов. Уехав на сборы из дома, они сбились с дороги и по ошибке заехали в Рамаллу. Кадры толпы, затем мельтешня на втором этаже и бросок из окна растерзанного тела, чудом снятые итальянской журналисткой, обошли весь мир. Один из погибших был русский, Вадим Нуржиц. Когда я видел эти кадры, то хорошо представлял себе, где их рвали на втором этаже.
Там была дежурка.
Двое крупных офицеров с кобурой на подбрюшье улыбаться поначалу не хотели. Но я чувствовал себя, как Кузькина мать в неглиже, и на английском «мочил» с порога об оскорбленном чувстве российского журналиста, которому какие-то олухи в форме мешают рассказать о праздновании Дня гнева, или о том же Дне земли.
Судя по всему, они поняли одну фразу, про «оккупированные территории». Этого оказалось достаточно, чтобы у нас только проверили удостоверения.
Но не отпустили.
Где-то мы не понравились или, скорее всего, была наводка на других ребят из смежной, по сути, отрасли.Вот и шерстили тех, кто не на джипах.
Они продержали нас больше часа, ничего не объясняя, но и не обыскивая, пока, наконец, не приехал начальник участка, который, к счастью, прилично говорил по-английски. Позже я читал, что он единственный, кто серьезно пытался образумить и остановить толпу, рвущуюся на второй этаж для линча. Его кабинет тоже был на втором этаже, в самом углу тесного коридора старого кирпичного здания «английских» или даже, скорее, «турецких» времен.
Начальник быстро понял, что его бойцы поторопились проявлять бдительность, и уже думал, как от нас избавиться, не потеряв лицо.
Я ему помог, и вскоре во дворе быстро, как по тревоге, построился взвод полицейских с оружием. Мы сымитировали развод караула, включая строевой шаг, по моей просьбе, с оттяжкой.
Они маршировали тяжело, но как могли, целых четыре дубля. Хотелось порадовать себя и больше, но поджимало время.
И знакомый джип, набитый охраной, облегченно сопроводил нас от кованых колониальных ворот до заплечной свободы отставшего города.
Было почти четыре часа, когда мы, наконец, вышли на дорогу в сторону Иерусалима. Я пересел на заднее сиденье, чтобы по ходу отобрать на камере нужные для отправки фрагменты, перевести кусочки интервью и написать на коленях текст. Все, как обычно.
Но день еще не закончился.
Мы оба почти вздохнули, увидев впереди израильский блокпост. Выдыхать пришлось уже на настоящем сермяжном русском языке.
Иногда медленно проходящую машину вообще не останавливают – просто смотрят на лицо. Или тормозят и проверяют удостоверение.
– Документы, – солдатик казался таким родным, почти домашним.
Он зыркнул на камеру, по салону, забрал журналистские удостоверения и отнес их куда-то в будку за бетонными блоками,
– Эй, иди сюда, – вскоре лениво и по-хамски махнул рукой второй солдат, ровесник моей дочери.
Парень сидел, глубоко откинувшись на стуле, словно выставляя яйца, чтобы померятся с проезжавшими здесь арабами, и на его широко расставленных ногах так же вальяжно лежал «М-16».
– В чем дело?
– Я сказал, иди сюда… Вы снимали блокпост, – он даже не приподнялся. – У вас будут неприятности. Дайте-ка ваши израильские удостоверения и покажите, что вы снимали…
Это была неправда. Но до спутника оставалось менее часа.
Они заставили включить камеру и не спеша просмотрели последние пару минут Рамаллы, потом еще раз, развлекаясь незнакомой игрушкой и властью выданной им формы.
– Ждите…
И отвернулись, словно забыв о нас напрочь.
– Стоим, как два поца, – я занервничал по-настоящему. Пятнадцатиминутный канал по спутнику стоил компании более шестисот долларов. И работа срывалась. Бездарно, как глаза недоумка, который на наше несчастье не захотел откосить от армии.
– Да? – пропел оператор.
– Кэн,– передразил я, и мы засмеялись.
И оба знали, почему.
– Ваши журналистские удостоверения, – наконец через губу тот же солдат отдал нам «корочки».
– А удостоверения личности?
– Какие?
– Как какие? Наши внутренние паспорта. Ты же их брал…
– Я вам их отдал, смотрите у себя, – он почти смеялся нам в лицо.
Еще пара ребят, смуглых, из восточных евреев, откровенно ржали рядом.
Нас явно и унизительно воспитывали, чтоб неповадно было ездить и снимать палестинцев.
К телецентру машина подскочила за четыре минуты до спутника. Подключив к камере выносной микрофон, я начитал текст в салоне, и мы рванули в аппаратную…
– У тебя получился двухминутный сюжет, – сказали из Москвы. – Мы можем дать в эфир только минуту сорок.
– Что сегодня делал папа? – спросила жена, когда я, уже вечером, ввалился домой и с ходу прильнул к холодильнику.
– Снимал праздник города. Массовки там, девки гламурные, марокканская экзотика с танцами. Все, как у людей.
– Везет же некоторым, – хмыкнула жена. – Оттянулся…
Иногда мне кажется, что происходящее случается не со мной.
Наверное, человек, умирая, думает: «Неужели это все? А ведь ничего еще и не было…».
При случае обязательно проверю.







