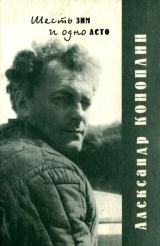
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Глава четвертая. КРАСНАЯ ФЕМИДА
Кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.
Послание к римлянам св. апостола Павла, гл. 9, ст. 18
Лишь в середине ноября мое дело было назначено к рассмотрению в военном трибунале. Перед этим я подписал обвинительное заключение и возликовал: появилась реальная возможность бежать. Из-за нехватки «воронков» арестованных перевозили и в хлебных фургонах и в грузовиках. Последнее меня устраивало больше: прыгать на ходу из кузова машины меня учили…
Неожиданное обстоятельство сделало немыслимой эту затею: накануне суда я получил передачу от матери. В знакомой холщовой сумке – хлеб, колбаса, свиное сало, папиросы и мои любимые конфеты.
Вся камера столпилась надо мной, не обрадованным, а расстроенным.
– Теперь твой побег побоку, – сказал Петров, – рванешь – ее возьмут заложницей. Долго, конечно, не продержат, но для нее и немного – хватит…
– Да, не вовремя матушка пожаловала, – согласился Дубенко, – далеко бы не ушел, но и глоток свободы чего-то стоит.
– У нас в деревне случай был, – задумчиво произнес пожилой зэк из новеньких, – вернулся из армии парень. Красавец из себя, атлет, девки на него снопами валились, мать так следом и ходила – единственный! А тут праздник какой-то. На праздники, известно, дерутся. Дрались и тут. А этот – не дрался, мать не позволяла. Идем да идем домой! Видно, сердце чуяло… Ну, однако, налетел на него один дурак пьяный. С ножом. Парень этот – который из армии – не из робкого десятка, да и служил в погранвойсках, постоять за себя умел. Говорит матери: «Вы идите, мама, а я его утихомирю и вас догоню». И утихомирил бы, кабы не маманя. Бросилась на него и своими руками его руки свила… Тут ему тот дурак нож под ребро и сунул. Ни за что пропал парень.
– К чему ты это? – нахмурился Петров.
– А к тому, что нам сейчас срок – нож под ребро. Сгнием в тундре – и всё. Этапы-то куда гонят, знаете? На Воркуту все, да на Ингу, а там уголек, будь он неладен. Хотя и в Джезказгане не лучше.
– В курсе, значит, папаша? – проговорил Петров. – Сам побывал или от других слышал?
– Да всяко было, – уклончиво произнес новенький, но даже мне стало ясно, что говорит он не понаслышке.
– Наплюй, парень, и разотри, – обнял меня за плечи тощий как жердь «повторник» по кличке «Журавль», – некуда бежать в «нашей юной, прекрасной стране». Я пять раз пробовал. Видишь, во что превратили? Мало того что печенки-селезенки отобьют, еще и в подвале наваляешься, а там крысы – во!
– А зачем ему попадаться? – встрепенулся еще один. – Я вот из пяти побегов два раза по году жил как король. Жратвы – от пуза, бабы… Мне бы мою молодость обратно да статью не эту, не политическую, а мою родненькую, по которой и срок-то дают вот такусенький!
Уходящим на суд сокамерники поручают святая святых – письма. Все понимают, что будет шмон, но вдруг свидание дадут с родными – и тогда он сунет матери или сестре пачку писем, или конвой позарится на червонец, бросит в почтовый ящик… Все письма, естественно, без марок, сложены треугольничком.
Последним подошел и отдал свой треугольничек зэк по фамилии Филипович – бывший власовец. Поймали его в Восточной Пруссии, при разоружении армии Власова. Был Филипович не простым солдатом, а заместителем начальника штаба полка. Перед войной окончил военное училище, в войну командовал сначала взводом, затем ротой, а под Минском попал в плен к немцам. Содержали пленных тогда, на первых порах, не слишком строго: через колючую проволоку местные жители бросали им хлеб, сало, табак. Охраняли такие временные лагеря не спецподразделения, а солдаты вермахта из числа наименее боеспособных. Попадались среди охранников и легкораненые. На одного такого и набросился однажды молодой и сильный лейтенант Иван Филипович – хотел бежать.
Не успел и километра отбежать от лагеря – поймали. Как понял Иван, не расстреляли только потому, что конвоира он не убил, а сбил с ног, и еще потому, что бежал без оружия, и еще, наверное, потому, что в это самое время в лагерь приехали вербовщики из только начавшей создаваться РОА[13]13
Русская освободительная армия.
[Закрыть]…
На допросах Филипович уверял, что и в плен попал без оружия, и в РОА пошел не по доброй воле – очень уж били… Мне же признался, что, когда дело дошло до расстрела – полагается такое за побег, – выбрал он вместо смерти жизнь и сам выпросил ее у офицера-власовца. Многое не сходилось в рассказах Ивана.
Не было еще тогда, в сорок первом, никакого Власова и его армии, и не ездили по лагерям вербовщики – Гитлер надеялся своими силами расправиться с Красной Армией. Значит, Филипович сдался сам и служил сначала просто немцам – не обязательно в армии, а возможно полицаем – эти появились с первых шагов немцев по нашей земле.
Должно быть, следователи Филиповича были не дураки, и Иван трусил: одно дело – быть только власовцем, этих иногда отправляли в ссылку; полицаев же судили по всей строгости и, пока еще не был отменен указ о высшей мере, – вешали. Что стоило советской власти ввести его снова?
Исключая Петрова, имевшего высшее образование, Филипович был наиболее грамотным в нашей камере, к тому же много читал и до войны, и в армии. Отлично говорил по-немецки, через него мы общались с бывшими эсэсовцами, которых в камере было трое. Ко мне он проникся особым интересом после того, как я рассказал о злосчастном союзе СДПШ и о своих двух статьях – 68–10 и 58–11. По ним, правда, больше десятки не полагалось (пункт 11 своей санкции не имеет) – но зато и меньше ожидать не приходилось. Именно Филипович внушил мне мысль о побеге. Он же прокрутил с десяток вариантов. Вариант с грузовиком – был также его идеей.
– Главное, не трусь, – убеждал он, – на быстром ходу они за тобой не бросятся – себе дороже. Стрелять тоже не станут – ты же будешь прыгать в толпу людей!
Филипович учел даже маршрут следования машины – от тюрьмы в центре города по Московскому шоссе, мимо рынка, далее – по Рославльскому шоссе до моей части.
– Возле рынка! – напоминал он. – Не забудь: прыгать не по ходу машины, а назад, через борт, как можно быстрее…
Крушение моих надежд он воспринял как личную трагедию. Только ощутив в руках его «треугольничек», понял почему. Агитируя за побег, Филипович дал мне адрес, по которому я должен был явиться, получить гражданскую одежду и отсидеться несколько дней до того часа, когда ко мне придет «один человек»…
Адрес я, по его требованию, запомнил наизусть.
– Не забывай его, – сказал на прощанье Иван, – еще пригодится. Сказал ледяным тоном, тускло глядя поверх моей головы, – он сам не верил своим словам.
Утром за мной пришли. Я вышел из камеры в полном смятении. Как мама узнала, что я в тюрьме? Зачем приехала? Неужели надеется на адвоката? К этому времени я уже знал, что в политических процессах они играют чисто декоративную роль. Да и в качестве зэков их встречалось немало. Уж не за то ли страдали, что пытались защищать невиновных?
И потом, материальное состояние нашей семьи вовсе не рассчитано на адвокатов.
Шмонали меня тут же, в ближайшем коридоре, потрошили так, словно я мог пронести гранату. Все «треугольнички», кроме одного, нашли и забрали с собой, а мне дали легкую зуботычину, сказав: «Знают ведь, суки, что не положено, а пишут…».
Закончив шмон, приказали одеваться, а пока я надевал штаны и гимнастерку, сломали пополам козырек моей фуражки, отодрали случайно сохранившиеся петлицы на шинели и белый подворотничок на воротнике гимнастерки – перед судьями арестованный должен представать натуральным босяком – небритым, с оторванными пуговицами, стриженным наголо, в опорках вместо сапог.
А я со страхом ждал не трибунала, а встречи с мамой.
В памяти всплыло декабрьское утро сорок третьего года. На фронт нас везли из города Буя, где формировалась часть, мимо моего родного Данилова. В нашей части вообще было много даниловских. Время и день отправки эшелона держались в строжайшей тайне, поэтому мы не могли сообщить заранее, и родные ждали нас на станции несколько суток. Многие приехали из дальних деревень.
Когда эшелон подошел, нас встретила толпа женщин и стариков, в которой трудно было с ходу отыскать своих. Думаю, им тоже было не легче, поскольку все солдаты похожи друг на друга.
Поезд остановился, паровоз отцепили, он ушел заправляться. Солдаты начали прыгать из вагонов, но неожиданно появился дежурный по эшелону – вдребезги пьяный майор – и принялся загонять нас в теплушки. На глазах матерей пинал солдат сапогами, бил кулаком по шее, матерился, а потом стал стрелять в воздух из револьвера. Призвать его к порядку было некому – из штабного вагона доносились звуки патефона, визг и хохот женщин – там веселилось начальство. Я видел маму в толпе, узелок в ее руке, концом платка она вытирала слезы. Я пытался ее утешить, подавал какие-то знаки, но она не понимала.
Паровоза все не было. Он подошел только через полчаса. Ударил ветер, закружила метель; станция, а вместе с ней и моя мама исчезли в снежной мгле.
С тех пор мы не виделись шесть лет. Сегодня тот же месяц, почти то же число и та же погода – воет ветер, метет снег.
Когда меня везли в трибунал, погода словно взбесилась: ветер усилился, температура упала до пятнадцати градусов.
Спецмашин действительно не хватало, и меня везли в кузове полуторки. После дивизионной проходной машина свернула влево к подъезду, где помещался политотдел. На глаза мне попалась странная женщина, которую я принял за сумасшедшую, – ввалившиеся глаза, худая длинная шея и мученически улыбающийся рот. Ко всему этому – легкое демисезонное пальто, вязаный берет и резиновые боты.
Когда машина остановилась у крыльца, конвойный толкнул меня в спину. Я спрыгнул на землю и снова увидел женщину. Опередив грузовик, она стояла теперь недалеко от крыльца и улыбалась мне своей страшной улыбкой. Затем помахала рукой. Только тут я узнал маму. Я рванулся к ней, но получил удар прикладом в грудь – конвоир расценил это как попытку к бегству. Затем он втолкнул меня в вестибюль. Подскочил начальник конвоя – огненнорыжий капитан очень маленького роста. Ударив меня ногой в пах, пообещал:
– Я тебе покажу, как от меня бегать! От капитана Сосновцева еще ни одна сука не убегала!
– Делайте что хотите, – сказал я, – только дайте увидеть ее.
– Это его мать, – наконец догадался конвоир.
– А мне х… с ней! – ответил капитан. – Я с него шкуру спущу.
Сознание, замутненное болью, постепенно возвращалось. Я увидел просторную комнату, уставленную стульями, и скамью перед той самой кафедрой, с которой нам, будущим комсоргам, читали лекции окружные политработники. Вдоль стен, как на параде, выстроились мои свидетели.
Минут через пять конвой привел Денисова и Полосина. Мишка ткнул меня кулаком в бок:
– Здорово, «предводитель»! Чего скис? Брось. Бог не выдаст, свинья не съест.
– Не разговаривать! – рявкнул начальник конвоя.
Первым занял свое место прокурор – невыспавшийся майор с насморком – и адвокаты – полная дама средних лет с шестимесячной завивкой и огромным бюстом и молодая брюнетка с тяжелым узлом волос на затылке, чем-то похожая на мою тетку.
Выждав регламент, секретарь трибунала – молодой прыщавый лейтенант – торжественно произнес:
– Встать! Суд идет!
Председателем оказался пожилой, грузный полковник с жирной шеей, складки которой наплывали на воротник кителя. Толстые губы и щеки были собраны таким образом, что походили на карнавальную маску, выражающую отвращение ко всему на свете.
Заседателями оказались мои старые знакомые: библиотекарь младший лейтенант Завадовский и начфин Рябухин. Упершись в меня испуганным взглядом, оба до конца заседания не проронили ни слова. Когда председатель трибунала обращался к ним, они молча согласно кивали головами. «Подсолнухи» – вспомнил я прозвище, данное арестантами этим людям.
Первое в моей жизни заседание военного трибунала прошло для меня в каком-то полусне. Я все время думал о маме и смотрел на окна, боясь увидеть ее синее лицо за стеклом. Поворачивая голову вправо, видел полковника, восседавшего на кафедре. Фамилия его была Мранов. Тот самый Мранов, о котором однажды упомянул следователь Кишкин. Я слышал людскую речь, но смысл сказанного доходил до сознания с трудом. Невыспавшийся прокурор, сморкаясь в платок, растягивал свои безразмерные «э» и «таким образом», что-то бубнил председатель, вкрадчиво и нежно ворковали голубицы-адвокатши.
– А почему их двое? – шепотом спросил Полосин.
– Один казенный, – ответил Денисов, – полагается при групповом деле, второй не знаю откуда. Наверное, наняли. – Оба посмотрели на меня. Неужели мама все-таки наняла?
В перерыве я увидел следователя Кишкина. Он беседовал с моими свидетелями, в чем-то убеждал их и при этом сердился… Прошли мимо бывший друг Шевченко – свидетель обвинения – и его подружка Вера Александрова – тоже мой свидетель. Они должны были показать, где, когда и при каких обстоятельствах я совершил самое главное преступление – спел песенку о бродяге.
Застегивая ширинку, вышел из туалета лейтенант Кукурузин, прошипел сквозь зубы:
– Докатился, артист!
В моем деле Кукурузин занимал особое место: если остальные свидетели только подписывали готовые протоколы, сами ничего не придумывая, то Кукурузин все придумывал самостоятельно, иногда попадая «в цвет», иногда промахиваясь, за что Кишкин по-отечески журил его:
– Как же, лейтенант? В прошлый раз ты говорил, что Слонов с восьмого по двадцатое июля был в полку, в то время как ты находился на полигоне у села Крупки. Ведь если так, то ты видеть его не мог…
Кукурузин подавался вперед всем телом, хлопал огорченно по ляжкам и вскрикивал:
– Вспомнил, товарищ капитан! Это он говорил не в июле, а в сентябре, и не на стрельбах, а в бане.
Еще один, незнакомый мне офицер, прошел мимо, сказал со злостью:
– Родину американцам продал, сволочь! За сколько – интересно?
– Если интересно, попробуйте сами, – ответил я, – вдруг офицерам платят больше.
Он хотел меня ударить, но подошел начальник конвоя – заседание продолжалось.
Уже до перерыва мне было ясно, что Мранов нашего «дела» не читал. В лучшем случае заглянул в обвинительное заключение.
– Значит, ты утверждаешь, что никогда, ни от каких иностранных разведок заданий не получал. Кто же тогда финансировал ваш преступный союз?
Даже мой следователь в конце концов отказался от таких нелепых вопросов.
– Ты клеветал на святая святых – нашу коммунистическую партию! – гремел Мранов. – Да как тебя после этого земля носит?!
– Кажется, это из другой оперы, – шепнул Денисов, – насчет клеветы на партию у тебя ведь нет?
Но Мранов не спутал. Раскрыв какую-то книжицу, надел очки, что-то прочел и сказал:
– Твой единомышленник, политический космополит, так называемый писатель Зощенко говорит о партии следующее: «Ни одна партия в целом мне не нравится. К примеру, кто такой Гучков? А черт его знает, кто такой Гучков!»
Мранов испепеляет меня взглядом.
– А ведь ты восхвалял этого самого Зощенко. Рассказики его поганые с эстрады читал! А это – антисоветская пропаганда. Ну, что скажешь? – он отложил книжицу.
– Скажу, что Гучков никогда не был коммунистом, и Зощенко в этом рассказе говорит о нем с оттенком презрения. Разве не ясно?
У блондинки-адвокатши вытянулось лицо, зато другая, похожая на мою тетку, сказала:
– Я поддерживаю довод моего подзащитного: Гучков действительно не был коммунистом, он принадлежал к партии кадетов. В деле, которое мы рассматриваем, нет обвинения по этому пункту, как нет и свидетельских показаний.
Мранов даже не взглянул в ее сторону. Военный трибунал в лице полковника Мранова презирал гражданских лиц, а в юбках – тем более.
Заседание продолжалось. Допрос свидетелей происходил приблизительно так: военнослужащего вызывали по фамилии, приказывали встать перед кафедрой и задавали вопрос: подтверждает ли он показания, данные им самим на предварительном следствии.
– Так точно! – бодро отвечал тот и, повернувшись на каблуках, уходил из зала заседания. Иногда их заставляли повторить то, что они якобы слышали от меня, и тогда начиналась неразбериха. Свидетели то ли забывали свои показания, то ли не хотели выглядеть в глазах сослуживцев подлецами и выкручивались как могли. Это не мешало Мранову заносить их показания в протокол.
Я взглянул на адвокатов: неужели не заявят протест? Но блондинка причесывалась, глядя в зеркальце, а дама с узлом волос перебирала бумаги…
И тогда я поднял руку.
– Гражданин председатель военного трибунала, как мы поняли, вам недосуг было прочесть материалы нашего дела, поэтому разрешите мне в двух словах изложить его вам, тем более что, вероятно, и прокурору это будет интересно.
Очередная «козья ножка» застыла в воздухе, глаза Мранова сделались белыми, сидевшие рядом с ним «подсолнухи» впервые осмелились взглянуть друг на друга, и даже сонный прокурор, казалось, с интересом посмотрел в мою сторону.
Догадываясь, что может сейчас произойти, я поспешно продолжил:
– Суть его в следующем: в полку служили четыре товарища – трое перед вами. Скуки ради один из них придумал некий союз, назвав его начальными буквами своей фамилии и фамилий своих товарищей: Денисова, Слонова, Полосина и Шевченко. Никому этот «союз» не вредил, и нет в его уставе ни единого пункта, который нормальный человек мог бы истолковать как противоправный. А вот мой следователь сумел это сделать. Для чего – не знаю, вас же прошу: прочтите наше дело! Тогда вы будете знать, кого судите и за что.
После этого наступила тишина. Все смотрели на полковника Мранова и на меня. В какой-то миг мне показалось, что в зале больше вообще нет людей. Но вот Мранов выкатил глаза и заорал, точь-в-точь как наш командир полка Грищенко на плацу:
– Молчать, негодяй! Молокосос! Вон! Все – вон!
Когда нас выводили из зала, адвокат шепнула:
– Не переживай, заседание переносится на завтра, а твоей маме я передам.
Сажая меня в кузов грузовика, начальник конвоя сказал:
– Ну, держись, парень! Самого Мранова на посмешище выставил!
Неотвратимость возмездия была для него так очевидна, что при возвращении в тюрьму он забыл о своем обещании «содрать шкуру» с меня.
Денисова и Полосина везли в другой машине, но в тюрьме по чьему-то недосмотру нас поместили в одну камеру. На восемь спальных мест приходилось сорок два человека. Не только лежать, но даже сидеть было негде, и ночь мы провели стоя.
Надо отдать должное моим товарищам: ни Денисов, ни Полосин ни разу не упрекнули меня в том, что из-за меня попали в тюрьму. О завтрашнем заседании мы почти не говорили – моя дерзкая выходка могла здорово навредить всем. Чтобы отвлечься, Денисов стрелял чинарики; Полосин, наверное, тосковал о съеденной еще утром так опрометчиво пайке хлеба; я сочинял стихи. Меньше полусуток отделяли нас от суда, который решит нашу судьбу.
Утром подали автомашину, известную каждому школьнику под названием «Черный ворон». Проходя в зарешеченный отсек, Мишка сказал конвоиру:
– Посторонись. Не видишь, правительство едет!
Конвоир выпучил глаза, но посторонился. Мы втиснулись.
Кроме нас троих в железном ящике было еще шесть человек, ехавших на свой суд, и среди них беременная женщина.
– Вас-то, солдатики, за что? – жалостливо спросила она.
– За неудачное ограбление ювелирного магазина, – сказал Мишка.
Бабенка взглянула на нас с уважением. Порывшись в мешке, протянула нам по пирожку с картошкой.
– А меня на бану[14]14
Вокзал.
[Закрыть] замели. У фраера два «куска» увела, а тут мент… Четвертая судимость. С малолетки тяну. На воле дольше двух месяцев не бываю. Вот, – она указала пальцем на свой живот, – одна надёжа. Спасибо конвоиру: посодействовал…
Теперь уже мы смотрели на нее с уважением: солдаты первого срока боятся, а молодая бабенка в четвертый раз чалится – и хоть бы что!
Вылезая из «воронка» в каком-то переулке, она помахала нам рукой.
Маму я увидел на том же месте. За сутки она еще более пострашнела, но опять мучительно выдавливала из себя улыбку: ей казалось, что это придаст мне силы… Милая, наивная мамка! Единственное, что мне сейчас было нужно, это чтобы ты оказалась за тысячу километров от Минска…
В коридоре ко мне подошла адвокат.
– Тебе надо извиниться перед председателем. От этого многое зависит, – движением руки она поправила волосы на затылке – совсем как моя тетка Лена.
– Много чести, – сказал я. Адвокат посмотрела на меня со страхом.
Военный трибунал заседал три дня. Из предъявленных нам обвинений не отпало ни одного – свидетели были дисциплинированными, – но история с союзом СДПШ даже Мранову показалась неубедительной. Однако Мранов не был бы Мрановым, если бы поступал согласно здравому смыслу. Он приговорил всех троих к десяти годам ИТЛ с последующим поражением в правах на пять лет – ровно столько, сколько по максимуму определяла статья.
Для нас такой приговор не был неожиданностью, зато моя мать восприняла его как беду. Когда конвой сажал нас в «воронок», она сделала попытку подойти ближе, но рыжий начальник конвоя отогнал ее, как надоевшую собаку:
– Пошла прочь, стерва!
Дверь «воронка» захлопнулась, машина тронулась. Я услышал отчаянный женский крик. Денисов взял меня за плечи, Полосин на всякий случай загородил дверь – вдруг брошусь!..
Только через год я узнал, что в тот зимний вечер моя мать долго бежала за увозившей нас машиной, потом споткнулась, упала на мостовую и вышибла себе передние зубы. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу. Ко мне в лагерь она приехала со вставными зубами, но это уже другая тема.
А пока нас привезли в тюрьму и поместили в самую большую камеру, в ней сидело не менее ста человек. В воздухе стоял смрад, квадрат окна еле просматривался сквозь завесу табачного дыма.
Разглядывая новое помещение, я не сразу заметил мерзкое двуногое существо, голое до пояса, синее от множества наколок на груди, животе, руках и, как позже выяснилось, на спине. Существо прыгало, кривлялось, гримасничало, сморкалось и плевало прямо нам под ноги. Вымазанная сажей физиономия все же позволила распознать подростка лет двенадцати.
Докурив цигарку, Денисов уверенно потушил ее о грязный лоб малолетки… И тогда началась драка. На нас кинулись полураздетые, лоснящиеся от пота тела, испещренные наколками.
– Не подпускай близко! – приказал Денисов. – Бей сапогами!
В ту же секунду я понял все: у нападавших в руках были длинные железные пики. Об этом страшном оружии рассказывали в подследственной камере. Каким-то путем урки добывают куски железа или стали и долгие недели – иногда месяцы – затачивают их о кирпич подоконников. Хранят пики умело, при переводе из камеры в камеру передают с помощью «коня», минуя шмон. Если пикой убивают на расстоянии, то короткие «заточки» служат для «расписки» – уродования лица, отрезания ушей, ослепления вздумавшего сопротивляться фраера. Мы сопротивлялись, и нас следовало наказать, но отпор был яростным и умелым и привел урок в растерянность. Через минуту-две они откатились в глубину камеры и начали совещаться. Издали мы видели кого-то сидевшего на верхних нарах под самым окном. Луч света блестел на его лысой голове и зажигал огнем оттопыренные уши.
Антракт пригодился и нам. Нападало восемь человек. Шестеро кинулись с боков, двое – с верхних нар, еще столько же стояло наготове. Остальные взирали на драку издали, между гражданскими пиджаками мелькали гимнастерки и кителя военных.
– С ними разберемся после, – сказал Денисов, поймав мой взгляд, – во всяком случае, просить помощи не будем.
Но помощь все-таки пришла. Из глубины камеры появился и встал рядом с нами крепкий на вид малый лет двадцати. Как и большинство здесь, он был гол до пояса, но на нем были диагоналевые офицерские галифе и солдатские ботинки без шнурков, порванные спереди и сзади.
– Лейтенант Шустов. Можно просто Юра.
– Нарушаете форму, товарищ, – строго заметил Денисов, – где ваши сапоги?
– Погоди немного, и ты своих прохорей[15]15
Сапоги.
[Закрыть] лишишься, – огрызнулся Юра.
– А это еще бабушка надвое сказала, – с удовольствием отозвался Денисов. Мне показалось, что сейчас для него драка – приятное развлечение.
Урки базарили не зря: лысый пахан приказал переменить тактику – ведь теперь нас четверо, к тому же в камере много бывших вояк…
Из дымной глубины, скользнув в луче света, вынырнул и подошел к нам тщедушный на вид старикан с лысиной, испещренной шрамами, гладко выбритым подбородком и неестественно красными губами. Зубов у старикана не было. «Маня!» – догадался я: об этих страшных извращенцах мне тоже рассказывали в камере.
– Тебе, дедушка, с оттяжкой или прямого? – ласково спросил Денисов, оттягивая средний палец для щелчка.
– Оччень… оччень рад познакомиться! – старикан шустро поймал Мишкину руку и крепко пожал. – Владимир Сергеевич. За недоразумение просим извинить: народ молодой, горячий… Прошу вас к нашему шалашу, как говорится, – он сделал приглашающий жест.
– Не ходите! Провокация! – тихо произнес бывший лейтенант, но Денисов, отстранив старика, уже шагнул вперед.
– Не век нам тут стоять, – сказал Полосин и пошел следом.
– Нет, почему, если нравится, пусть стоит, – возразил я и двинулся за Полосиным.
Думаю, такой мертвой тишины эта камера не знала со дня постройки.
Пройдя ее всю, до противоположной стены, Денисов встал спиной к ней, нарочно войдя в луч света. Мы с Полосиным заняли места справа и слева. Денисов, наверное, на это и рассчитывал.
– Ну, мужики, как вам тут живется? – спросил он громко. – Не забижает ли вас кто? Не обирает? Не играют на «ту херню»?
Камера отозвалась гробовым молчанием. Вдруг сверху, со вторых нар, из того самого угла, что под окном, послышался вкрадчивый голос:
– Чего же вы притихли, мужики? Застеснялись… А вы не стесняйтесь. Расскажите товарищу военному, кто вас притесняет, обижает. Товарищ военный вас выслушает, пожалеет, а завтра уйдет на этап, уголек рубать в Джезказгане, а мы тут с вами останемся.
Камера молчала. Сквозь табачный дым виднелись бледные, худые лица с опущенными вниз глазами…
– Видите, товарищ военный: здесь полный порядок. Вам волноваться за людей нечего. – Из угла, из кучи сложенных один на другой тюфяков, появилась лысая голова с большими оттопыренными ушами, затем и сам человек – жилистый, средних лет, в шелковой синей майке и оранжевых шароварах. У человека были маленькие злые глазки, изогнутый клювом нос и вкрадчивый, хрипловатый голос.
– А не чифирнуть ли нам с вами ради первой встречи? Катенька, подай!
Уже знакомый нам мальчик сорвался с места, сбегал в другой конец камеры и вернулся с немецкой флягой в чехле.
– Можем и спиртику плеснуть, – сказал «пахан», – для хорошего человека не жалко.
Я не заметил молниеносного движения Мишкиной руки – этот прием у него был отработан давно – но зато увидел мелькнувшие в воздухе оранжевые шаровары и услышал глухой стук упавшего тела. В следующую секунду все смешалось в камере: с матерщиной и ревом полуголые люди бросились на урок, били их кулаками, пинали ногами, кусали, царапали лоснящиеся от пота лица.
– Под нары их! – кричал чей-то командирский голос. – Приказываю: не убивать! Не допускайте уголовщины! Мы – пятьдесят восьмая статья! – Из дымной глубины камеры появился высокий человек, в кителе, галифе и босой, подошел к Денисову. – Вы в каком звании, товарищ? Впрочем, все равно. Вы поступили мужественно. Я подполковник Нефедов – работник штаба округа. Вашу руку!
Мишка – он только что взобрался на груду тюфяков – сделал вид, будто не заметил протянутой руки.
Подполковник ждал. Тогда Мишка стряхнул пепел цигарки на китель подполковника.
– Да как ты смеешь?! – закричал Нефедов, но другой бывший военный, – надо понимать, не ниже чином, – подошел к нему и сказал:
– Не надо, Борис Васильич, ребята правы: мы вели себя не лучшим образом. А они молодцы! – Уводя подполковника, он подмигнул нам с Полосиным.
Из-под нар вылез сияющий лейтенант Юра. В руках он держал хромовые сапоги.
– Вот они, родненькие! На заказ шил. Проиграли сволочи. Теперь уж не снимут!
– Что будем делать дальше? – спросил Полосин. Мы оба взглянули наверх. Денисов мирно спал на груде тюфяков.
Взбудораженная камера понемногу стихала. Урок еще малость поколотили и оставили в покое – в коридоре слышался грохот алюминиевых мисок – раздавали ужин.
На следующее утро нам выдали по четвертушке серой бумаги и один огрызок карандаша – для написания кассационных жалоб. Но из троих писал ее один Полосин, мы с Мишкой этот ритуал игнорировали – отчасти потому, что наши жалобы вообще ни на что не влияли; во-вторых, потому, что если дело групповое, то достаточно одному из подельников подать ее – пересматривать будут все равно все дело.
– Ты там пожалобней пиши, пусти слезу, чтобы прокуроров прошибло, – издевался Мишка. Полосин порвал один листок, начал второй. – Неужто не получается? И чему тебя в школе учили? Напиши: я больше не бу-у-уду-у – и подпишись.
Полосин порвал и второй и начал третий. Вчерашний герой-подполковник, заглянул через плечо.
– Кто же так пишет? Ты сколько классов кончил?
– У него академия, – сказал Мишка.
– Сразу видно, – кивнул военный, – ну-ка дай карандаш.
Наверное, это была очень профессиональная жалоба, так как ровно через семьдесят два часа нас вызвали «с вещами» и в коридоре зачитали решение кассационного суда о направлении нашего «дела» на доследование. Затем нас развели по разным камерам.
– Встретимся в трибунале, – сказал на прощанье Мишка.
Но встретиться нам не пришлось: в ходе доследования отпало обвинение в организации контрреволюционного союза, «дело» перестало быть групповым, и моих подельников освободили.
Мне же предстояло и дальше страдать за длинный язык и нестандартные, запретные мысли. Товарищам я не завидовал, наоборот, от души радовался за них – в конце концов, пострадали из-за меня. По поводу своей судьбы тоже не слишком сокрушался: как любил говаривать Мишка Денисов, Бог не выдаст, свинья не съест. За время следствия я только приподнял краешек роскошного, разрисованного красками театрального задника, называемого в зависимости от моего возраста по-разному – то «счастливым детством», то «молодостью мира», то просто «советским образом жизни», лучше которого нет на свете. Мне же предстояло заглянуть за кулисы этого балагана.
* * *
Видеть все самому невозможно, и моя память то и дело возвращалась к «повторникам». Рассказывали они охотно: позади – жизнь, полная страданий; впереди, в лучшем случае, ссылка в отдаленные края, где нет ни дома, ни семьи, ни работы. Да и какую работу может исполнять искалеченный побоями на допросах шестидесятилетний старик?
Ссылали их и на острова в Белом море, и в глухую красноярскую тайгу, и в Казахстан, и в Коми. Одни храбрились: «Я еще – ого-го! Бабу найду и заживу припеваючи!» Другие совсем пали духом: «Ты на руки мои посмотри! Нешто можно с такими руками себя кормить? В лагерях все больше по больничкам кантовался…» У большинства семьи не было – отказалась семья еще в тридцать седьмом, жена из страха за детей, дети – поверив советской власти, учительнице, воспитательнице детского сада, соседям-партийцам… Некоторые из лагеря писали заочницам. Даже фотографии от них имели. Но как пошлешь свою? Плешивый старик вместо доброго молодца, каким представлялся в письмах.








