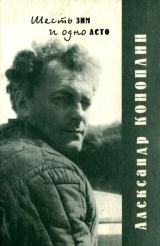
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Сколько езжу по району, такое впервые, – сказал человек в армейских сапогах, шинели без погон и кепке.
– В других местах проще, – пояснил Бульбаницкий, – там в каждом селе по две-три семьи полицаев, да еще столько же в бегах. Чуть поднажал – народ лапки кверху… А здесь – ни одного полицая, да еще двадцать шесть человек – бывшие партизаны – вот тут у Тищенко список – и еще семнадцать в Красной Армии служили.
– По всем показателям – наше, советское село! – с восторгом произнес комсомольский работник. – Поговорить бы сначала…
– Так чего же они артачатся? – крикнул человек в кепке, свирепо оглядывая толпу. – Они артачатся, а вы с ними цацкаетесь! Что с того, что – ни одного полицая? Они ж в колхоз не хотят! Саботируют решения партии!
– Ты, Астафьев, не горячись, – осадил его Бульбаницкий, – это тебе не завод. Да и сил у нас мало. Вот дождемся Тищенко…
Начальник милиции приехал в сопровождении еще одного грузовика с танкистами. Увидев толпу баб, солдаты сначала растерялись – воевать вроде не с кем, – а потом стали шустро прыгать из кузова и расправлять гимнастерки… Молоденький лейтенант – тоже недоумевая – вскинул ладонь к виску:
– Товарищ секретарь райкома, бойцы танкового подразделения прибыли для борьбы… для борьбы… прибыли в ваше распоряжение! Командир взвода лейтенант Опенкин.
Заподозрив неладное, бабенки начали разбегаться.
– Задержать! – приказал Бульбаницкий. – Запереть в сарай! Никого не выпускать! Мужиков привести ко мне для беседы.
Танкисты ловили молодух с удовольствием, те визжали и, похоже, не прочь были еще побегать, но вскоре им стало не до шуток: на двух грузовиках прибыли автоматчики и принялись быстро и умело загонять всех в сарай. Загнав, заложили ворота засовом. Нужда в танкистах отпала, они уехали. Возле избы бывшего партизана Дубка секретарь райкома беседовал с мужиками. Из сарая доносились крики баб:
– Досыть нам вашего колгоспу! Наилысь!
– Досыть! Поголодувалы наши диты, хай вин пропаде!
Мужики молчали. Ночь прошла хлопотно. Бабы выли в сарае, дети кричали снаружи, солдаты били прикладами в стену, матерились:
– Молчать, немецкие подстилки! Постреляем к чертовой матери!
Мужики молчали. Утром Бульбаницкий понял, что с бабами ему не совладать.
– Собирайтесь в район, мужики. Там потолкуем…
– Так ведь мы что… – оправдывались те, но их уже выводили по одному, подталкивали к ЗИСу…
И бабы не выдержали, сломались.
В колхоз вступали хотя и со слезами, но дружно, голосовали единогласно, как раньше, и вновь колхоз «Путь к коммунизму» стал отдавать государству все, чтобы потом, к весне, плакать всем миром над пухнущими с голоду ребятишками.
Приезжая в Прилепцы, мы честно расплачивались за приют и ласку: в свободное от лесоповала время впрягались в плуг и вместе с бабами и девками вспахивали скудные наделы. За плугом обычно шел инвалид и чмокал на нас, как на лошадей, для веселья молодух. О такой пахоте я рассказал следователю.
– Клевета на колхозную действительность, – заявил он и вписал в мое «дело» еще одно обвинение. После этого я стал осторожнее, но его подлость подхлестнула мою память. Значит, все, что мы видели своими глазами, тоже назовут клеветой? Даже тех женщин в заколоченных досками вагонах, в Смоленске, в 1946 году?
Прибыв из Германии, наш эшелон разгрузился на станции Смоленск-Товарная. Боеприпасы и технику накрыли брезентом, поставили часовых. Прохаживаясь по платформе, я обнаружил на запасном пути эшелон с людьми. Нас тоже возили в телятниках, но не заколачивали двери крест-накрест досками… Через щели и окна на меня смотрели женщины, я слышал за их спинами детский плач, а проходя совсем близко, услыхал шепот:
– Товарищ, дайте хлеба!
– Кто вы? – крикнул я.
– Мы литовцы, – был ответ. И снова: – Товарищ, дайте хлеба, дети кушать хотят!
– Да за что же вас… досками-то заколотили?
– Мы литовцы, – был ответ.
Подошел часовой – не наш, с красными погонами, – спросил, какого х… мне тут надо, но, покосившись на мои медали и щегольский трофейный кинжал, сказал:
– Чего их спрашивать, они ни хрена не знают.
– А ты знаешь?
Он дососал цигарку, сплюнул в сторону и поправил винтовку с примкнутым штыком на спине.
– Я-то знаю.
– Тогда скажи, за что их заперли, куда везут?
Он с подозрением прищурился.
– Чо, знакомые, чо?
– Да нет, так интересуюсь.
– Которые антиресуются, велено задерживать.
– А ты задержи меня. – Я, как бы невзначай, поиграл кинжалом.
– Велено – которы гражданские подходют, – сказал он, – письма али еще что кидают.
– Хлеб?
– Хлеб тоже не положено. В ём колюще-режущее всунуть можно.
Из вагонов доносился стон.
– Их что же, не кормят?
– Чо, не кормят… Буряки даем, воду…
– А долго им ехать?
– Долгонько. Всех не довезти. Осьмнадцать намедни дуба дали, он, коронить повезли! А ну, скройсь, холера! – замахнулся он прикладом на чью-то тонкую и бледную руку, не то подзывавшую нас, не то махавшую кому-то другому. – Така вражина! Хвашистка!
– Это девочка. Или подросток. Видишь, рука какая тонкая?
– Все одно – хвашистка. Взводный сказал: все предатели.
– Дурак твой взводный, – сказал я.
– Послушайте, – донеслось из вагона, – она умирает! Пожалуйста, воды!
– Клеба! – кричали из соседнего. – Капельку клеба! Пожалуйста…
Я кинулся к будке, где у нас было что-то вроде караульного помещения. Разбуженные мной солдаты долго не могли понять, для чего мне нужен весь наш сухой паек. Опустошив вещмешки, я бросился обратно на станцию. На запасных путях стояло несколько эшелонов с горючим, техникой, трофеями, но вагонов с литовцами не было.
* * *
Насчет моего якобы крепкого сна следователь ошибся. Спал я мало, ибо именно здесь, в одиночке Минской центральной тюрьмы, начал писать. Сначала – чтобы не сойти с ума: Кишкин говорил, что у многих после трех-четырех месяцев одиночки «съезжает крыша», мое же сидение в башне перевалило за полгода. Затем – потому что уже не мог не писать. До тюрьмы я сочинительством не занимался. До нее я сначала был ребенком, потом, минуя юность, солдатом. У каждого из этих периодов свои заботы, далекие от литературы. Сочинять я стал в тюрьме, и, смею утверждать, благодаря одиночке. Робкие попытки писать стихи были и раньше, но для этого хватало эмоций. Для прозы, которой я теперь занялся, одних эмоций мало, нужен жизненный опыт. Его у меня тоже было маловато, но зато имелась буйная фантазия, которая, говорят, во многом заменяет и опыт, и знания, и немалая начитанность. В доме деда шкафы с книгами стояли в кабинете, в спальне, в гостиной и даже в прихожей, они всё прибывали и прибывали, постепенно вытесняя хозяев. До ухода на фронт я успел перечитать всех русских классиков, в том числе и тех, кого советская власть читать запрещала. Маленький томик стихов Есенина у меня отобрали при очередном шмоне в армии. Отобрали не потому, что это был запрещенный поэт, – старшина, проводивший обыск, вряд ли когда-нибудь читал стихи, – а потому, что в солдатском вещмешке не должно быть посторонних предметов.
Дома моим чтением руководила бабушка Оля, иногда дед интересовался прочитанным. Мать с отцом посещали нас редко – отец служил в Средней Азии – и тоже привозили книги. Из них хорошо помню повесть Гайдара «Мальчиш Кибальчиш», стихи Исаковского о колхозной деревне, Ивана Доронина – о том же, «деревенские» стихи Суркова и Жарова. После отъезда родителей я находил эти книги на помойке – одним из преступлений советской власти бабушка считала разорение деревни, которое тогда только начиналось.
Другие книги были моими товарищами. Я пил из этой чаши познания то большими глотками, захлебываясь от нетерпения и жадности, то, наоборот, маленькими, как дорогое вино, смакуя.
В творчестве гениев есть одна особенность: написанное ими кажется сотворенным легко, за один присест. Таков был и Пушкин. Его стихи я перечитывал десятки раз, многое помнил наизусть, и однажды пришел час, когда я, воскликнув: «как это просто!» – взял лист бумаги и за час накатал стихотворение. Потом цветными карандашами изобразил рамку и показал деду. Занятый своими больными, он мельком прочел и сказал «недурственно». К вечеру у меня было готово еще пять стихотворений. Бабушка раскритиковала их, а потом выговаривала деду:
– Ты хочешь искалечить ему жизнь?
– Почему искалечить? – искренне удивился он. – Пусть пишет, коли есть охота.
– В романе Золя «Творчество», – пояснила бабушка, – показан один тупоумный крестьянин. Попав случайно к знакомым художникам, он что-то намалевал. Это «что-то», ради смеха, продали, а крестьянин решил, что он художник, вернулся в деревню, продал дом, скот, переехал в Париж и стал малевать картинки, которые никто не покупал.
– Ты думаешь, наш Сергей бездарен? – догадался дед.
– Каждому свое, – сказала Ольга Димитриевна, – в чем-нибудь другом он, возможно, и преуспеет, но только не в поэзии.
Она много читала – и не только на русском – и мне прислушаться бы к ее словам, но случилось иначе. Как-то поздно вечером у нас в доме появился странный человек. Было это в самом начале Рождества – назавтра мы собирались наряжать елку.
В парадное позвонили, бабушка пошла отворять, и я услыхал ее удивленный возглас:
– Вы?! О боже!
Старый ковер, закрывавший зимой дверь в парадное, колыхнулся, и в прихожую шагнул очень высокий человек с худым, словно высеченным из дикого камня, неподвижным лицом и светлыми, как будто наполненными водой, глазами. Был он примерно одного возраста с моим дедом, но, в отличие от него, имел хорошую военную выправку. На нем было серое пальто толстого драпа с башлыком и фетровые белые бурки. Именно такие носили у нас в городе партийные работники и кое-кто из очень старой интеллигенции. В руках он держал шапку из серого каракуля.
– Признаться, любезная Оленька… Простите великодушно – любезная Ольга Димитриевна, я думал, вы меня не пустите. Многие отказывали…
– Зачем вы приехали, Юрий Андреевич? – затравленно озираясь и выталкивая меня из прихожей, говорила бабушка. – Вас же могут… арестовать!
– Не сегодня, бесценная Ольга Димитриевна, и, надеюсь, не здесь, – с улыбкой говорил гость, но, даже когда он улыбался, лицо его не меняло выражения суровости и каменной неподвижности. Развязав башлык и сняв пальто, он прошел за хозяйкой в гостиную, потирая при этом руки, как видно, от холода.
– Рад! Душевно рад, что у вас ничего не изменилось. Те же кресла, те же картины и, надеюсь, те же привычки… – Пружинно ступая на носки, он ходил по комнате, с удовольствием слушая скрип половиц и трель нашего старого сверчка Эола – дед говорил, что этот сверчок – его ровесник… – А знаете, Ольга Димитриевна, такой прелести нет даже в Париже! Впрочем, понять это может только русский. – Он остановился у книжного шкафа, длинными сухими пальцами провел по переплетам, как по клавишам фортепьяно, прислушался, достал томик Пушкина и начал листать, забыв о хозяйке. Она зашла с другой стороны, умоляюще произнесла:
– Ради бога: зачем вы здесь?
– Одну минуту, – сказал он и продолжал перелистывать страницы, потом что-то нашел: – Вот! – и стал читать с каким-то особенным наслаждением:
Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И бранный ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?..
– Но это же самоубийство! Вы сумасшедший! – возбужденно говорила бабушка.
Он не слушал и продолжал чтение:
Ты помнишь час ужасной битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
– Умоляю, остановитесь! Нам надо поговорить…
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.
– О господи! – в страхе говорила бабушка. – Он, конечно, сумасшедший. Сереженька… Хотя, нет, ты останься. Оксана, милая, сбегай в больницу, скажи Петру Димитриевичу, что у нас… Впрочем, ты сама знаешь, беги! – и снова обратилась к нашему гостю: – Юрий Андреевич, дорогой, не лучше ли вам отдохнуть с дороги? Вы, верно, устали?
– Напротив, я бодр как никогда! – отвечал он. – Вы лучше послушайте, как это символично!
А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился…
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.
Он закрыл книгу, но не выпустил ее из рук, а долго стоял возле шкафа, подняв подбородок, словно опять к чему-то прислушиваясь.
– Вы знаете, любезная Ольга Димитриевна, о чем я вспоминал все эти годы? О нет, не о революции – боже сохрани! Вот о них, моих милых друзьях, – он опять провел пальцами по переплетам, и опять мне показалось, что я слышу музыку, – дорогих сердцу! Сколько слез пролито там, – он неопределенно махнул рукой в сторону окон и на секунду закрыл глаза. – Там ведь нет этих книг, там – другие… А у человека нет и не может быть ничего дороже его юношеской привязанности. Если, конечно, она была! – тут он взглянул на меня. – А вы согласны со мной, юноша? Или тоже вместо Пушкина Демьяна Бедного читаете?
Как родная меня мать провожа-а-ла,
Тут и вся моя семья набежа-а-ала…
– Юрий Андреевич, – ломая руки, произнесла бабушка, – пройдите в кабинет! Здесь… дует…
Хлопнула входная дверь, и на пороге появилась Оксана.
– Идут!
– Отлично! – воскликнул Юрий Андреевич. – В таком случае, я продолжу. – Раскрыв книгу, он прочел, жестикулируя свободной рукой:
Как дикий скиф, хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить…
Дверь распахнулась, и дед в накинутой на плечи шубе вбежал в гостиную. Секунду оба смотрели друг на друга, потом бросились в объятия. Так, обняв за плечи, дед повел гостя в кабинет. Я проскользнул следом. Многого из разговоров не понял, но память была великолепная, и, что не было понято тогда, осозналось через много лет.
Усадив друга в кресло, дед долго молчал, разглядывая его как музейный экспонат, потом сказал:
– Знаешь, Юрий, здесь у нас ходили слухи… Будто ты дрался против большевиков под Перекопом… Конечно, мы этому не верили…
– Нет, почему же, – возразил гость, – все правильно: против большевиков под Перекопом.
Дед осекся и долго молчал. Я видел, как он волнуется.
– Тогда уж рассказывай все. Информация, которую мы получаем, так сказать, из официальных источников…
– У тебя есть карта Крыма? – перебил гость.
Дед на секунду растерялся, потом торопливо достал из шкафа карту, развернул.
– Понимаешь, мы с женой в прошлом году ездили в Крым отдыхать. На Ай-Петри лазали, в Бахчисарае были…
Гость не слушал, склонясь над картой, затем пальцем поманил деда.
– Это здесь. Мой полк оборонял Чонгарскую переправу. Предполагалось наступление красных на этом участке, но шестого ноября неожиданно ударили морозы, лиманы замерзли, и Азовская флотилия красных не смогла подойти к Чонгару. Поэтому Фрунзе начал наступление в другом месте. Вот здесь, у Перекопа.
– Понимаю, – сказал дед, – продолжай.
– На моем участке велась в основном артиллерийская дуэль, но в конце недели красные вышли нам в тыл. Оборонять Чонгар стало бессмысленно, и я повел полк на Таганаш. – Гость откинулся от стола, закурил трубку и долго молчал. – Штыками мы проложили себе дорогу и прорвались к Ишуню. Его еще можно было оборонять, но генерал Врангель, не желая лишних потерь, приказал отходить. Фрунзе предлагал нам сдаться, обещая жизнь всем защитникам Крыма. Многие поверили, но красный главком свое слово не сдержал: в Симферополе узнали, что все сдавшиеся расстреляны. – Он немного походил по кабинету, затем опять сел в кресло. – Тринадцатого мы вышли к Севастополю. Там уже шла погрузка на французские суда. Грузили госпитали, штабы, беженцев. Потом стала грузиться пехота. Артиллерия занимала позиции на высотах вокруг города до рассвета пятнадцатого. Только благодаря стойкости этих молодцов все воинские части удалось вывезти из Крыма. Вечная память героям! – он опять надолго замолчал. Дед сидел неподвижно. Немного успокоившись, Юрий Андреевич продолжил: – На палубе я стоял рядом с Петром Николаевичем. Когда Крымский берег скрылся из глаз, Врангель сказал: «Для нас с вами все кончено» – и ушел в каюту. И не выходил до самого Марселя. – Он снова встал, подошел к печке и стал греть руки, прижимая ладони к изразцам. – А потом была долгая жизнь в эмиграции, но это уже неинтересно.
После затянувшегося молчания дед спросил:
– Как же ты решил вернуться, Юра? В такое время… А главное – зачем?
– Тот же вопрос задала мне твоя Оля. Отвечу обоим: не знаю!
– Но это же несерьезно! Мальчишество какое-то. Постой, а может, ты мне не доверяешь? Может, ты здесь с каким-то важным заданием?..
– Чепуха, – твердо возразил Буров, – наверное, больше не мог жить там, вот и всё. Я – там, а моя Россия – здесь… Немыслимо! Все годы только и думал, как сойду на нашей маленькой станции, пройду по Романовской, сверну на Ярославскую, потом на Вологодскую, войду в наш старый-престарый дом…
– Но его давно нет! – дед даже привстал в кресле.
– Я знаю, – Буров кивнул, – там теперь сквер. От нашего дома остался один дуб. Его сажал мой прадед. В нашей семье существовал обычай: перед отъездом на войну посидеть под дубом, чтобы вернуться живым. Сегодня я опять посидел под ним… А вообще-то глупо – проделать такой путь, чтобы посидеть в загаженном скверике на неструганой скамеечке. А? Ты не находишь?
– Да. Тем более что за тобой наверняка следили.
– Конечно. От самой границы. И всё не брали. Думали, выведу на связь. А возле Петербурга потеряли! – он хрипло засмеялся и даже хлопнул себя по колену. – Ну не свинство ли с их стороны? Следить за человеком, который сам напросился сюда и которому официально разрешили… Ты что на меня так смотришь? Удивлен?
– Не то слово. Воспитанник Пажеского корпуса, полковник, убежденный монархист…
– Понимаю. Ты был уверен, что я полз через границу по-пластунски… Ах, Петр! Хотя лет десять назад, наверное, так бы и поступил. Тогда было безразлично, где сдохнуть. Сейчас иные планы.
– Ага! – встрепенулся дед. – Я был прав: ты здесь не просто так! Кстати, ты был в Питере? Как там?
– Я там не был, – ответил Буров, – времени отпущено лишь на то, чтобы посетить родные могилки.
– Кем отпущено? – мне показалось, что дед затаил дыхание.
– Судьбой, конечно. Или ты думал, я здесь с разрешения чекистов?
Дед вскочил и в сильном волнении стал бегать по кабинету. Остановившись наконец, спросил резко:
– Ну-с, куда же вы теперь от нас проследуете? Или это тоже военная тайна?
Буров удивленно повернул к нему свою большую, наполовину седую голову.
– Ты хотел спросить – когда? Могу ответить точно. – Он вынул часы, взглянул на циферблат. – Поезд на Петербург через два часа и одиннадцать минут. Ты позволишь провести это время в твоем доме? И, пожалуйста, не переходи на «вы»! Мне больно…
Кажется, деду стало неловко. Спросил уже мягче:
– Но ведь тебя же ищут! Я полагаю, все тамошнее энкавэдэ поднято на ноги. Да и в Москве то же самое. Смотри, Юрий, как бы они не вспомнили, откуда ты родом!
– Не считай их наивными. Об этом они подумали в первую очередь. Уверен: у всех моих знакомых в столицах – а возможно, и здесь – сидят чекисты, лицам в штатском розданы мои фотографии, на вокзалах шныряют патрули – проверяют документы у высоких ростом, с военной выправкой… Черт побери, а ведь я действительно не умею сгибаться!.. Впрочем, они все равно опоздали. То, что было намечено еще в Париже, я выполнил. Почти выполнил. Осталось совсем немного…
– Что именно, Юрий? Ты прости, я штатский человек, в ваших делах ничего не понимаю и все время тебя о них спрашиваю…
– Нет никаких военных секретов. Ты, наверное, удивишься, если я скажу, что моя цель – побывать на кладбище.
– М-м… почему на кладбище? Зачем – на кладбище?
– Наверное, затем, чтобы проститься с близкими.
– Ты серьезно?
– Вполне. Можешь не верить, но именно ради этого я здесь. Дело в том, что давно было решено: если станет совсем невмоготу, я сделаю этот шаг. Мы, русские, странные люди. Для нас материальные блага не главное. То, что мы там голодали, – ерунда. Большевистский вздор. Постоянной работы, правда, у большинства не было, но имелось множество благотворительных организаций… Словом, жить можно. Многих это устраивало. Меня же все время тянуло в Россию. Голодную, чужую, но – Россию.
– Эс-эс-эс-эр, – поправил дед.
– Ерунда, – отмахнулся Буров, – эта земля для нас всегда была Россией. Как Санкт-Петербург никогда не был Ленинградом.
– Да… А вот нам пришлось согласиться. Мы – не те, Юра, мы теперь другие. Изменились не только названия городов, изменился сам народ. Не обольщайся: мы приняли эту власть! Мы ей подчинились, не боремся больше против нее, а тех, кто еще борется, называем изменниками… Ты уж нас прости. В угоду этой власти мы своими руками ломали и ломаем церкви, в которых когда-то крестились, сбрасываем кресты, сжигаем фамильные иконы… Наконец, мы предаем друзей и даже родных ради того, чтобы нас самих не тронули. Юра, мы следим за соседями! Каждый обязан донести… Юра, я ненавижу себя! Хотя, как ты понимаешь, на подлости меня не сможет толкнуть даже Лубянка с ее страшными подвалами, просто, говоря о народе, я по привычке произношу «мы»…
– Можешь не объяснять, ты ведь всегда был патриотом.
– Я его любил и люблю! И не надо меня за это осуждать. Я болею оттого, Юра, что этот народ стал другим!
– Успокойся… Не будем об этом. Каждый человек хочет жить и боится смерти. Даже не такой лютой, как в ГПУ. Но ведь есть и другие…
– Знаю. У вас, наверное, иная нервная система.
– Чепуха. Нервная система у всех одинаковая, а вот принципы – разные. Одни неизбежное воспринимают спокойно – это верующие. Другие ждут смерти с радостью. Это фанатики. У меня в полку служили мусульмане – рядовые и унтер-офицеры, человек десять. В их глазах я ни разу не увидел страха – даже когда шли в штыковую атаку! Кстати, один из них спас мне жизнь… Если б у меня было немного денег, я бы ему памятник поставил. Там, в Париже.
– Он погиб?
– Да.
Оба долго молчали, потом дед сказал:
– И все-таки не понимаю, Юрий, какого лешего тебя понесло сюда. Поступок сумасшедшего, а никак не разумного человека.
– Говорю же тебе: это была моя давнишняя мечта! – воскликнул Буров. – Вот и всё! Сначала планировал идти через границу с боем. Даже команду подобрал. Таких же, как ты говоришь, сумасшедших. Потом одумался: пристрелят как собаку где-нибудь в туркменских песках, а я хочу лежать здесь, в этой земле, где лежат мои предки! Я здесь родился… – он долго курил. – Подал прошение через посольство: так и так, во всем раскаялся, осознал, готов понести наказание… По рожам понял: обрадовались. Матерый враг сам лезет в лапы! Много знает, расскажет, а заупрямится – клещами вытянем… Глупцы. Полковник Буров не может стать предателем. Им этого не понять. Для них как раз я – предатель, а они патриоты… Все наоборот. Они охотились за мной с самого начала. За нами всеми. Генерала Кутепова похитили, как какую-нибудь черкешенку, в самом центре Парижа, на глазах у публики. Он прогуливался по набережной, когда рядом остановился автомобиль и элегантный офицер спросил, как проехать в Пале-Рояль. Кутепов начал было объяснять, но офицер разложил на коленях карту… Кутепов нагнулся, тут его схватили, втащили в машину и увезли. Страшно подумать, что они с ним сделали! – Буров закрыл лицо руками. – Ты был прав: у меня имелась еще одна цель: отомстить! Но я их недооценил… – Дед бросился к аптечке, загремел склянками. Буров остановил его: – К черту валерьянку. Мне Оля водки обещала. Петр, Оля, дайте мне водки, хочу напиться до зеленых чертей! Теперь мне все можно: финита ля комедиа!
– Постой, разве ты никуда не едешь? – дед был смешон в домашнем халате с пузырьком валерьянки в руках.
– Не еду.
– А как же поезд на Петербург?
– Пошутил. Хотелось еще побыть в этом доме. Здесь совсем как у нас на Вологодской. Даже часы тикают так же: тик-так, тик-так… – Он повернулся к двери и увидел бабушку и свое пальто в ее руках. – Однако, кажется, мне пора… Позвольте, господа, хотя бы посошок на дорогу? – Он взял со стола уже давно приготовленную рюмку, выпил стоя. – Вот теперь всё. Прощайте.
– Куда ты? – удивился дед, – Теперь, когда мы всё выяснили… Да постой же, ведь никто тебя не гонит!
Буров повернулся в дверях, сказал тихо:
– Не надо, Петр. Я могу… ослабнуть…
Хлопнула парадная дверь. Бабушка осмотрела стол.
– И не поели ничего… Неловко получилось. Лучше бы вместо разговоров поели. И зачем я с его пальто – в кабинет? Хотела у печки повесить, погреть, а он решил…
– Не надо, Оля! Не по-христиански это… На дворе мороз…
– Прости, Петя, я хотела как лучше. Ведь спрятать его мы все равно бы не смогли. Соседи наверняка уже пронюхали – у них кухонное окно на нас смотрит… Сейчас все друг за другом следят, а мы вообще под микроскопом…
– Да, да, всё так, – дед бегал по кабинету, заложив руки за спину, – и все-таки нехорошо, Оля. А соседи не виноваты. Законы у большевиков такие: не донес – сам в ответе. Пора это понять и не осуждать их.
– Я и не осуждаю…
Внезапно дед остановился.
– Но ведь можно было отвести его к кому-нибудь! Например, к Прудниковым. Оля, его надо вернуть! Немедленно! Оксана! Где Оксана?
– У себя, наверное. Где же ей быть среди ночи…
– Так пойди и разбуди! Хотя нет, лучше я сам пойду, – он резво побежал в прихожую и стал надевать шубу и боты.
– Тогда отведи не к Прудниковым, а к Томниковым. У них дом большой – роту солдат можно спрятать – и на отшибе стоит, до леса рукой подать…
Она не договорила. В гостиную вбежала Оксана в расстегнутом на груди пальто, простоволосая.
– Ой, лышенько! Що ж це робытся? – она по-детски размазывала слезы кулаком.
– Оксана! – одновременно воскликнули старики. – Что случилось? Где ты была? – бабушка подошла, обняла девушку за плечи. – Ты бегала за ним? Где он сейчас? Где Юрий Андреевич?
– Пид дубом лежит, – ответила девушка.
Ольга Димитриевна в ужасе отшатнулась.
– Под каким дубом? Ты в своем уме? Мороз ведь…
– И височек в крови, и снег вокруг – як куренка зарезали…
– Какая кровь? Что ты мелешь? Петя, что с ней?
– С ней – ничего, – ответил дед, – а вот с ним, похоже, все кончено. Оксана, успокойся, расскажи обо всем.
Сбиваясь и плача, девушка рассказала:
– Як вин пийшов, я за ним тэж… Як чуяла. Вин до погосту – и я. А там милиция…
– Как милиция? Зачем? – тихо спросил дед. – Так, значит, это они его убили?
– Ни. Воны його не бачилы. Воны с горла водку пили. Биля часовни. А вин, як их побачил, так в сторону звернул. Та швыдко так на Вологодску пийшов, дэ його дом стоял. Я не поспила. А колы поспила, вин вже в снигу лежить и пистоль в руце.
Дед снял шапку, потрогал рукав своей шубы.
– Скажи, там тебя никто не видел?
– Ни.
– А ты близко к нему не подходила? Ну, не трогала его?
– Та ни же!
– Тогда я – счас! – дед рванулся к двери, но бабушка прямо-таки повисла на его плечах.
– Не пущу! Себя погубишь и нас тоже!
– Но он же, возможно, ранен! – крикнул дед. – Как ты можешь, Оля?!
– Могу! – Я впервые видел свою бабушку такой, и мне было страшно. – Да и не таков полковник Буров, чтобы делать что-то наполовину… Скажи ему, Оксана!
– То так, – сказала девушка. – Я бачила: ось туточки, – она пальцем тронула висок, – малэсенька дирочка… И кровь. Я такое вже бачила. На хутори нашем, як мойого батьку вбилы… – она всхлипнула, – тэж така дирка… И кровь…
На другой день деда вызвали в милицию. Но это не было арестом. В маленькой комнатке на деревянном столе лежал голый человек, в котором дед узнал своего друга, но виду не подал. Его вызвали на вскрытие найденного ночью самоубийцы. Вернувшись домой, дед заперся в кабинете и пил горькую, чего с ним раньше никогда не бывало. Поздно вечером вышел оттуда осунувшимся, с растрепанными волосами и, присев к столу, рассказал: кроме двух милиционеров на вскрытии присутствовал сотрудник районного ОГПУ Ларичев – Слоновы его хорошо знали.
– Скажите, доктор, – спросил он, – что сейчас, в нашей прекрасной советской действительности, заставляет людей лишать себя жизни?
– И что же ты ответил? – спросила бабушка.
– А ничего. На дурацкие вопросы отвечать не умею.
Ларичев был молод и боялся смерти. Через год его арестовали, увезли в Москву и там расстреляли. Кто-то донес, что брат его матери состоял в «зеленых»…
На другое утро после ухода Бурова я нашел томик Пушкина, который он читал, и то же стихотворение, но ожидаемого благоговения не ощутил. В окно вместе с солнцем бился и кричал мальчишескими голосами морозный зимний день, в прихожей нетерпеливо топал валенками больничный кучер Ефим – мы с ним поедем за дровами для наших печек – сенбернар Мишка (по паспорту Миних Брауншвейг Резон) в доказательство того, что Ефим уже здесь, стащил у него рукавицу и принес мне, бабушка пекла нам на дорогу лепешки…
Вздохнув, я поставил Пушкина на место. Позднее не раз делал попытки вернуться к нему, однако состояние души, о котором говорил Юрий Андреевич, всё не являлось.
Но однажды я заболел ангиной. Вообще болел часто и всегда с удовольствием: никто не поднимал с постели ни свет ни заря, не гнал в школу; в комнате по такому случаю разрешали находиться моему другу Мишке; я мог читать сколько захочу; наконец, на время болезни меня поселяли в дедушкин кабинет, где зимой очень тепло и особенно уютно: нет нужды просить книгу – они все под рукой. И вот, лежа в одиночестве на диване, я опять потянулся к Пушкину, но взял на этот раз не стихи, а прозу. «Повести Белкина» я читал не раз, но чаще всего перечитывал «Капитанскую дочку». Повесть поражала меня широтой охватываемых событий при очень уплотненном тексте. Как Пушкин мог уловить ту тончайшую грань, до которой только и можно сжимать текст, – как говорила бабушка Оля, «отжимать воду» (многое в тайнах творчества она понимала), – после которой художественность исчезает, а остается сухая схема? Иногда мне казалось, что я нахожу слова, которые Пушкин выбросил в процессе доработки, иногда это был целый абзац, но, прочитав – теперь уже не пушкинскую, а свою – эту новую фразу, я убеждался, что гениальный писатель был прав. В результате таких экспериментов я однажды ощутил себя причастным к… созданию «Капитанской дочки»! Ведь не исключено, что Пушкин сначала находил, а потом выбрасывал именно эти слова и абзацы. С удивлением и страхом оторвался я от чтения и осмотрелся – не брежу ли?.. Но вокруг виднелись знакомые предметы, успокаивающе тикали часы в высоком футляре, похожем на шкаф, приятно пахло камфарным маслом. Дед мой не был охотником даже до пустяшных перемен. Изношенные кресла он не давал выбрасывать не из скупости, а вследствие привычки к ним и, отдавая в починку, настаивал, чтобы новая обивка была по возможности такого же цвета и рисунка. Родственники, в том числе и мои родители, находили это чудачеством, и я был с ними согласен, а тут вдруг в один день понял, почему и Петру Гриневу, и полковнику Бурову было очень важно вернуться в отчий дом, где все осталось без изменений, – им были важны и дороги их корни! Все остальное в жизни – ерунда. И хотя Пушкин ни словом не обмолвился по поводу обстановки в доме Гриневых, я представлял ее так, словно сам там побывал… Начиная с этого дня я читал Пушкина не иначе как в кабинете деда, на диване, в полулежачем положении, и непременно вечером. Для пущей материализации зажигал свечи, поскольку они наверняка горели в доме Гриневых и Пушкиных.








