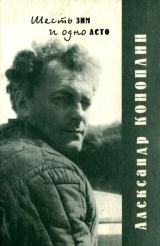
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Это был единственный протокол, который Лариса Хорунжая подписывала с удовольствием.
Меньше чем через неделю специальная сессия Кировского районного суда города Ленинграда осудила Ларису Хорунжую на пять лет ИТЛ за злостную клевету на советские следственные органы.
Так она превратилась в обыкновенную политическую заключенную. Шестого июля – в день ее рождения – Ларису из следственного изолятора перевели в Кресты, а еще через неделю этапом отправили в Сибирь.
* * *
Несмотря на строгие приказы и инспекторские проверки, в спецлагере НКВД № 40 систематически нарушался режим. Происходило это вовсе не по вине заключенных. Дело в том, что среди основного контингента – политических – не было ни поваров, ни сапожников, ни портных, ни слесарей, ни электриков. Посудомойкой или ассенизатором бывший профессор истории еще мог быть, но слесарем или хлебопеком – никогда. Этих специалистов отбирали из проходивших через этот лагерь этапов. Поскольку отбор производился не только по формулярам, но и согласно устному опросу, в спецлаге № 40 оседало множество неспециалистов, а то и просто блатных, привлеченных слухами о том, что это один из немногих ОЛПов, где вместе с мужчинами содержались и женщины.
На самом деле, это было истиной наполовину. № 40 был ОЛПом женским, мужчины же, специалисты, содержались в отдельной зоне, отгороженной от общей колючей проволокой. Там же, в мужской половине, находилась больница-стационар и поликлиника.
Заболевших женщин водили туда в сопровождении надзирательницы. В стационаре они занимали одну палату, возле дверей которой дежурил надзиратель-мужчина.
Однако недаром говорится, что нет правил без исключений. Ворота, отделяющие мужскую зону от женской, накрепко запирались только в дневное время. В ночное строгие запоры пасовали перед мастерством тех, кто очень хотел попасть в женский барак. Вместе с запорами перед ними пасовали дежурные надзиратели – в основном старики. Строптивцев же либо запугивали, приставляя к горлу самодельный нож, либо покупали деньгами. Не довольствуясь кратким свиданием в женском бараке, счастливцы уводили подружек в мужскую зону на всю ночь.
Ходила туда и Оксана. Земляк прислал записочку, мол, с надзирателем все улажено, приходи после отбоя. Как узнал имя, где видел Оксану до этого, – не сказал, но она была рада. Потерявшие семью, свободу и надежду вернуться в прежний мир, люди искали если не любви, то хотя бы сочувствия и тепла и изредка находили у таких же несчастных. Никто на земле не любит так неистово и не расплачивается за свою любовь так жестоко, как зэки. У них нет прошлого, нет будущего, их энергия, разум, воля слишком долго были направлены к единственной цели – выжить. Гнетущая тоска по простому человеческому счастью концентрируется в короткий миг свидания. В этот краткий миг зэк или зэчка отдают друг другу не просто истосковавшуюся плоть – они отдают любимому всего себя, без остатка, без мысли о будущем, без оглядки на последствия. Слишком часто после свидания влюбленные отправляются прямиком в карцер или, что еще хуже, на этап.
После первого свидания Оксана вернулась счастливая: ее Николай не женат, хорош собой, работает механиком на пилораме. Кормил Оксану досыта картошкой и хлебом – ему дают усиленный паек – и обещал жениться, как выйдет на свободу, а пока клялся, что никому на свете ее, Оксану, не отдаст.
Не забыла Оксана и подругу: принесла ей записочку. Какой-то Володя писал, что видел Ларису однажды на приеме в больнице, влюбился и желал бы дружить. Кто такой Володя, Оксана не знала, просто кто-то сунул ей в руку записку, когда она с помощью Николая на рассвете пролезала через колючую проволоку.
Лариса тотчас порвала записку. О любви она имела совсем иное представление. Оксана не поняла, стала уговаривать, Лариса вспылила, назвала все, что происходит, аморальным, постыдным. Оксана расплакалась. Сквозь слезы призналась:
– С голодухи я до нёго пишла, подружка. Казал, накормит… А вин добрый хлопец, гарные слова говорил та ласкал, як жинку, вот серденько мое и тронул. А щёсь ты тут про мораль гуторила, так гэто не для нас. Нема туточко ниякой морали. Микола мени на прощевание калач дал – мабудь, с дому прислали – так надзиратель Шкворень в воротах отобрал. Це – мораль? А як каку зэчку полы мыть в надзорку погонють, так яе уси трое, бо четверо усю нич насилують! Це – тэж мораль? Хиба ж ты не знаешь?
Лариса знала и это и страшилась надзорки больше, чем карцера, – ведь она была еще девочкой!
С Оксаной отношения кое-как наладились, но мужики одолевали сначала записочками, а потом и приходить стали. Первым появился прыщавый оборвыш лет шестнадцати, с больными красными веками и глазами без ресниц. Неслышно подобрался к бараку и, когда Лариса пошла в уборную, увязался за ней. Голос у него был хриплый, то ли простуженный, то ли сифилисом тронутый.
– Ты, лапушка, меня не бойся, я не сам от себя, меня Щербатый прислал. Глянулась ты ему, к себе зовет. Ты… того… не ершись больно-то, как бы хуже не было!..
Он исчез так же незаметно, как и появился, – наверное, у блатных в колючей проволоке имелся свой лаз, – но Лариса больше одна не ходила даже в уборную. О главаре блатных, по кличке Щербатый, она слышала давно. Говорили, будто сняли его с этапа с мастыркой, поместили в лазарет, а когда подлечили, отправлять не торопились: Шербатый играл по-крупному не с зэками, у которых денег вовсе не было, а с надзирателями – любителями карточных игр. Судя по тому, что он пользовался свободой передвижения по женской зоне, посещал клуб и столовую и один занимал весь первый ряд, когда крутили кино, должны ему были не одни только надзиратели. Начальник надзорслужбы младший лейтенант Сапрыкин лично выводил его за зону и раза два угощал домашним обедом у себя в доме. Обо всем этом в открытую болтали в зоне. Щербатый не раз, во время прогулок по женской зоне, входил в бараки и высматривал себе подружку на ночь. После отбоя за ней приходили, и еще не было случая, чтобы хоть одна отказалась от приглашения. Выбранные Щербатым для любовной утехи были, как правило, молоды, не слишком истощены и красивы лицом.
– Вот и до тебя добрался, поганец! – с тревогой говорила Оксана. В посыльном мальчике женщины узнали шестерку Щербатого – педераста по прозвищу Кот.
– Теперь они тебе покоя не дадут! – уверяли женщины. – Пока ты этому Щербатому не уступишь…
– Лучше смерть! – восклицала Лариса, заливаясь слезами. Со дня первого прихода шестерки Кота она потеряла сон. Ночью ей в каждом шорохе мерещился либо прыщавый оборванец, либо сам Щербатый, которого она однажды видела в клубе, – косолапый и толстозадый огненно-рыжий парень, больше похожий на толстую женщину, нежели на мужчину.
Кот прибегал еще два раза. В последний приход принес записку от своего хозяина. Лариса, не читая, разорвала ее, а Кота прогнала, пригрозив пожаловаться надзирательнице, но женщины подобрали клочки бумаги, сложили вместе и прочли записку. Щербатый приглашал ее на одно свидание – только на одно! – обещал вести себя «как положено» и накормить до отвала гречневой кашей с настоящим маслом.
– Целый котелок! – свистящим шепотом подтвердил Кот, странным образом оказавшийся в женском бараке, под Ларисиной лежанкой. Кота тут же прогнали, но о котелке, полном каши, говорили еще долго. Почти все сходились на том, что не такое уж это страшное дело – сбегать к мужику на часок-другой, тем более что мужик-то не простой доходяга-вздыхатель, а богатенький – по роже его толстой видать – а что блатной, так это даже лучше: попользуется один и другим не отдаст…
– Ты на себя глянь! – уговаривала Ларису староста барака – воровка со стажем, которую все почему-то звали «бандершей». – Кожа да кости. Еще дивно, что глаз положил. На меня вот не посмотрел, а у меня и тут, и тут – все на месте! Она вертелась перед Ларисой, поочередно показывая бедра, грудь и, действительно, не по-лагерному полные ноги. Староста барака за зону не выходила; когда бригады уводили в лес, бежала на кухню к своей подружке – тоже воровке – и там закусывала под водочку чем бог послал. Щербатого она знала хорошо еще по Беломорканалу и уверяла Ларису, что хоть на вид он и неказист, но мужик стоящий, вор авторитетный и слово свое держать умеет. Обещанный котелок с кашей рассматривала только как повод для знакомства:
– Приглянешься ему – будешь в лагере жить королевой: ни тебя на лесоповал, ни тебя в карцер – всё куплено!
Время шло, Лариса все больше доходила от скудной пищи и тяжелой работы в тайге. Котелок с кашей не раз возникал перед ней как мираж в пустыне, и от мечты о нем у нее начинала кружиться голова. Гречу она любила с детства.
– Где они берут крупу? – спросила как-то у Оксаны. – Ведь ее еще сварить надо!
– У них все есть, – помолчав, ответила Оксана, – и сало, и масло, и чего душа пожелает. Даже цыбуля! Сама бачила, да и Микола говорил…
Насчет одного-единственного свидания с главарем блатных у нее имелось двоякое мнение.
– Як бы не була ты дивчиной, так и балакать нема чего – ничего бы не потеряла, а вот то що ты дивка – погано. Було б кому витдаватыся…
Но если Оксана жалела подругу, то староста, а за ней и другие женщины прямо-таки толкали Ларису к Щербатому в лапы.
– Смотри, девка, сгинешь в тайге, и никто не вспомнит, а с этим законником, может, и до свободы дотянешь.
В конце концов бабьи разговоры и записочки, которые приносил Кот, сделали свое дело: Лариса согласилась. Она отлично понимала, что за котелок с кашей нужно будет расплачиваться своей честью, но, измученная голодом, смирилась и с этим.
До мужской зоны ее сопровождала Оксана, впереди, как пес, бежал мальчик-педераст – показывал дорогу.
Как она и предполагала, у блатных имелся свой проход в мужскую зону. Надо было в одном месте опуститься на коленки и пролезть под колючей проволокой, затем проползти по-пластунски метра два в сторону от нее и только затем подняться во весь рост.
– Сегодня в воротах стоит старшина Гузин, – сказал шепотом Кот, – этого ни за какие башлы не купить. При нем даже Щербатый из зоны не выходит.
Она молча кивнула. В конце концов, даже лучше, что надзирательские жадные глаза не шарили по ее фигуре, разглядывая очередную кралю Щербатого.
В зоне Кот тут же исчез, а вместо него возле Ларисы оказались сразу двое: один – длинный, как жердь, с крючковатым носом; другой – короткопалый и кривоногий.
– С благополучным прибытием вас! – церемонно раскланялся длинный. – Как доехали?
– Краля! – восхитился, рассмотрев Ларису в полутьме кривоногий. – Натуральная краля! Везет же Щербатому!
Лариса в тоске оглянулась. До колючей проволоки было метров пять. Если броситься бежать, найти лаз и пролезть в него, то еще можно успеть. Надо только громко крикнуть, чтобы услышал надзиратель у ворот…
Должно быть, разгадав ее желание, оба вора одновременно вцепились в нее мертвой хваткой.
– Брось, девушка, с нами такое не пройдет!
– Только пикни, падло, пасть порву!
Она поняла, что все кончено. Сказала, обреченно понурив голову:
– Пустите, я сама пойду. Куда тут идти?
Ступив на порог небольшого барака, стоявшего отдельно от остальных, невзначай обернулась. Ей показалось, что по ту сторону колючей проволоки белеет платок Оксаны…
Дальше она шла не сама – ее тащили. Она за что-то запиналась и едва не падала, но те, что тащили, поднимали ее и толкали вперед. Боковым зрением она видела, что это обычный барак, правда небольшой, с двухъярусными нарами, на которых сидели и лежали раздетые до пояса мужчины. Некоторые играли в карты, некоторые спали, но, как только она приближалась, картежная игра прекращалась, а спящие поднимали головы. Что они говорили, она не понимала из-за сплошного гула голосов, хлопанья дверей и топота, – кажется, в середине барака кто-то отбивал чечётку – типичный танец тюрьмы. К тем, кто ее силой волок вдоль барака, то и дело подбегали полуголые зэки, но конвоиры пинали их ногами. Но вот за спиной Ларисы захлопнулась последняя дверь, и она оказалась лицом к лицу со Щербатым. «Пахан» сидел, поджав ноги, на сложенных штабелем пяти или шести тюфяках, тасовал карты и смотрел на Ларису. Справа и слева от него сидели еще двое – оба по пояс голые, с бритыми наголо синими головами. Наверное, они только что кончили играть в карты, но уходить не торопились.
– Привет, красючка! – у Щербатого оказался очень тонкий, почти женский голос, а из-за выбитого зуба он слегка присвистывал.
«Так вот почему – „Щербатый“!» – подумала Лариса и увидела Кота. Мальчик что-то делал за висевшей на веревке очень грязной простыней – кажется, устилал постель.
А Щербатый все смотрел и смотрел на Ларису. Потом он что-то негромко сказал партнерам, и те неслышно исчезли, один вправо, другой – влево. Однако Ларисе показалось, что они не ушли совсем, а затаились где-то рядом… Зачем? Неужели они думают, что она способна сейчас убежать?
Ноги ее не держали. Не спрашивая никого, она присела на край нар, на которых сидел на своих тюфяках Щербатый. Он понял это по-своему и, протянув руку, взял подбородок Ларисы в свою ладонь.
– Долго стойку держать вредно, девочка, могут ножки подогнуться, тогда шлепнешься в грязь… – и крикнул, не оборачиваясь: – Ну, что там у тебя, Котяра? Долго мне еще ждать?
– А все… все давно готово, – залепетал испуганно мальчик, – пожалуйте отдыхать.
Не говоря ни слова, властно и сильно, как какую-нибудь вещь, Щербатый легко поднял Ларису, перенес за занавеску и небрежно бросил на тюфяк. Кто-то – кажется, мальчик – торопливо и неумело раздевал ее, обрывая шнурки и пуговицы. Теряя сознание, она почувствовала вдруг навалившуюся на нее тяжесть, которая душила ее, не давала шевельнуться. Потом она ощутила сильнейшую боль в нижней части живота и закричала и от этой боли вновь пришла в себя и, упершись обеими руками во что-то скользкое, потное, липкое, отодвинула его от себя, но уже через секунду оно снова навалилось сверху, и новый приступ боли отключил ее сознание надолго.
Однако не боль была причиной ее глубокого обморока, а прилив еще невиданной слабости. Если раньше ей все время хотелось есть, то в последние две-три недели чувство голода странно притупилось. За обедом она без всякой жадности съедала свои полмиски баланды и ложку каши, но при этом не испытывала ни сытости, ни голода, ни даже вкуса к тому, что ела. Знающая все, что касалось лагерной еды, староста барака сказала, что с этого времени не Лариса ест пищу, а пища ест Ларису и недалек тот день, когда вкус еды она забудет навсегда…
Сейчас, в чужом бараке, среди полуголых мужчин, жадно на нее глядящих, Лариса вдруг вспомнила слова старосты. Она была одета в свое казенное темносерое негнущееся платье и телогрейку. Даже ватные брюки и бахилы были на ней. Она не помнила, когда и как оделась и почему в руке оказались зажаты белые трикотажные трусики, разорванные почти пополам и запачканные свежей кровью…
Среди гробового молчания окружавших ее мужчин она попыталась подняться, но силы снова оставили ее – она легла на спину.
И тут, как по волшебству, перед ней возник черный от копоти алюминиевый котелок, наполненный с верхом слегка остывшей гречневой кашей. Котелок держал в руках тот самый мальчик с нелепой кличкой Кот. И лицо мальчика, почему-то в слезах, и тонкие пальцы его, державшие котелок, были невыносимо грязны, и Ларисе захотелось непременно встать, принести воды и вымыть мальчика. Она вновь сделала движение вперед, но ткнулась лбом в край котелка. От этого неловкого движения вся горка каши, которая была сверху, странным образом перевернулась. Каша упала вниз, на дно пустого котелка, а вровень с краями оказалась круглая фанерка, совсем новенькая, недавно обрезанная по кругу…
Лариса еще не успела сообразить, что случилось, как вокруг раздался хохот множества мужских глоток. Пустой котелок выпал из грязных пальцев мальчика-педераста и покатился по полу, остатки каши серыми ошметками налипали на края нар, на колени и пальцы тех, кто хотел рассмотреть представление поближе. Сопровождаемая неистовым хохотом, Лариса, держась за стенки, прошла вдоль всего барака, с трудом отворила наружную дверь и почти упала в подставленные руки надзирателя – старшины Гузина.
– Эк, налопалась! – свирепо произнес он и, взяв Ларису за шиворот, толкнул ее к другому надзирателю – старику Нефедову. Его лицо и лицо Ларисы на секунду оказались совсем рядом.
– Она не пьяная, – сказал Нефедов, – только, похоже, не в себе.
– Сознавайся, сука! – не слушая его, спрашивал Гузин и тряс Ларису за плечо. – С кем пила? Кто поил?
– Да не пьяная она! – уже тверже повторил Нефедов. – Похоже, тут надругались над ей, а потом выкинули. Это все Щербатый энтот проклятый! Скольких бабенок замордовал. Гнать бы его на етап!
– Не твое дело! – свирепо заорал Гузин. – Когда надо, тогда и отправят! – Из барака, как тараканы, разбегались зэки, поймать хоть одного Гузин даже не рассчитывал, и гнев его обратился на старика Нефедова: – Веди в карцер! – он грязно выругался. – Да из надзорки людей покличь, зараз шмон будем делать, они тут целый шалман устроили!
– Ах ты, беда какая! – жалостливо глядя на Ларису, говорил Нефедов. – Идтить-то можешь?
Она отвалилась от калитки, возле которой стояла, прислонясь к ней, и, шатаясь, побрела впереди Нефедова. Сначала она не понимала, куда идет, потом сознание стало проясняться. Позади она услышала жаркий шепот Оксаны и бубнящий старческий голос Нефедова.
– Куда ж ты ее, Никодимыч? – говорила жалостливо Оксана. – Видишь, в чем душа держится! Отпусти! Вот тут… тебе наши бабы табачку посылочного собрали.
«Как странно, – подумала Лариса, – Оксана, когда очень волнуется, говорит совсем без украинского акцента».
– Да я бы и так… с радостью. Сам вижу, что плоха, да ведь не положено! Меня уж и так за мою доброту – на свалку скоро со службы…
Пока они сговаривались, Лариса ушла далеко вперед и завернула за угол крайнего барака. И увидела вышку. По форме она была точь-в-точь такая, как возле их дома на заставе в Средней Азии, и Лариса ее не боялась. Она вообще не боялась этих вышек – ведь они ей напоминали детство!
И она пошла к этой вышке напрямик, к той самой колючке, которая была натянута на низкие столбики. Запретка… Для нее она не была запретной никогда – ведь Лариса не собиралась бежать из лагеря, она ждала, что ее освободят, – не могут же они, в самом деле, считать ее отца врагом народа!
Она шла прямо к вышке, и силы ее с каждым шагом как будто прибывали. Под шатровой деревянной четырехскатной крышей на высоте пяти метров было темно, но она видела крохотный огонек папиросы. И еще она слышала пение. Пел молодой киргиз, она разобрала некоторые слова. Да, это та самая пограничная вышка, и на ней – пограничник, подчиненный ее отца!
Она легко перешагнула низко натянутую проволоку и по вспаханной земле запретки пошла к вышке.
И услыхала всполошенный крик надзирателя Нефедова:
– Куда ты, чумовая?! Назад! Назад!
Пение на вышке прекратилось, клацнул затвор карабина.
– Ложи-ись!! – что есть силы закричал Нефедов и сам зачем-то упал на землю.
Сорвав с головы белый платок, Оксана на бегу размахивала им над головой и кричала:
– Не тронь ее! Не стреляй! Миленький хлопчик, прошу тебя!
Он выстрелил без предупреждения. По уставу. А поскольку нарушительница запретки была в нескольких шагах от бревенчатой стойки вышки, то получилось – в упор. Сверху он видел, как кто-то упал лицом в землю, потом медленно перевернулся на спину. Для верности сын киргизского народа и послушный служака выстрелил еще раз…
Хоронили Ларису как остальных – раздетой догола с биркой на большом пальце левой ноги. Из мертвецкой, куда она попала после запретки, ее вывезли на телеге вместе с двумя то ли подростками, то ли дистрофиками-мужчинами. На вахте дежурный надзиратель еще раз обыскал телегу – железной пикой ткнул по разу каждого покойника, перевернул на спину, – бывает, под мертвыми притаится живой беглец, – махнул рукой вознице.
Ров, куда до весны, чтобы каждый раз не закапывать, сбрасывали покойников, находился далеко за поселком, позади свалки, возле небольшой рощицы. Развернув лошадь, возница-бесконвойник подпятил телегу к краю обрыва и отвернул передок. Оставалось только слегка приподнять плечом край телеги – и мертвецы, как головешки, сами покатятся вниз. Однако вместо этого он расстегнул на груди бушлат, достал из-за пазухи помятый, сшитый из красных лоскутов цветок на проволочной ножке и деловито прикрепил его к ноге той, которая казалась ему женщиной. Потом подумал, отвязал снова и привязал его уже к руке убитой – привязывать рядом с биркой показалось ему неправильным.
Потом он поддел телегу плечом, она накренилась – мертвецы, шурша, скатились по крутому склону вниз и там обо что-то глухо стукались бритыми головами. Наверное, о камни. Потом он не торопясь развернул лошадь, сел в телегу и закурил. Пробуя табак, удивленно покачал головой:
– Не омманула хохлушка: добрый табак, – куря, он иногда косился на невидимое отсюда дно карьера, – небось сама делала цветочек-то. Чудно, однако: на кой он мертвой-то? Вот через месяц придут бульдозеры, энтот карьер заровняют, другой выроют, и не будет видать ни цветочка ентого, ни самой покойницы. Но, драная! Собаки б тебя жрали! Поехали, однако: солнышко высоко, обед скоро… Но-о-о!
С тех пор как Вечный Зэк, как его называли в зоне, начавший хождение по лагерям еще при дедушке Ленине, почти оглох от простудной болезни, он разговаривал только сам с собой. Ну, разве иногда еще со своей кобылой, которая, он подозревал, тоже была глухая…
* * *
Итак, я ехал обратно в Минск еще на одно следствие, прекрасно понимая, что ничего нового оно мне не даст. Не пришло еще время отпускать нашего брата на свободу, не завершены еще Великие Стройки коммунизма, запланированные компартией и рассчитанные на наши руки – молодые, сильные и бесплатные, не подросла еще наша смена – молодые рабы страны Советов.
К счастью, в лагерь я попал не от родной мамочки. Почти пять с половиной лет армейской службы, включая войну, подготовили нас к лишениям, кроме того, для меня лично лагерь оказался хорошей школой, если не университетом. Лишних предметов мне не преподавали, зато необходимые – сначала для прозрения, затем для общего развития – преподнесли полностью, без купюр, умолчаний и обычного для советского просвещения ханжества. В лагере зэки группируются, как правило, согласно интеллекту: умному среди дураков жить тяжело. Находясь в одном бараке с профессорами и докторами всевозможных наук, волей-неволей получаешь от каждого понемногу, что в сумме составляет некую часть различных курсов университета. Если к этому прибавить целенаправленные «лекции» о революции, гражданской войне и партийном строительстве соратников Ленина, Дзержинского, Троцкого и прочих вождей, да приплюсовать сюда же рассуждения прозревшего наконец-то бывшего работника ЦК, да влить в поток информации откровения крупного разведчика да воспоминания нескольких десятков белоэмигрантов – ученых, офицеров, интеллигентов, – то просто грешно говорить, будто в лагере я терял время попусту.
Учась в университете, человек затрачивает на учебу шесть лет, но много теряет на студенческих попойках, девочках, женитьбах. Я был лишен удовольствий, но зато и потерь времени. Скудное питание, конечно, не веселило, но я помнил, что в мире есть люди, добровольно обрекающие себя именно на такую жизнь, – монахи. К тому же занятия литературой радовали и вдохновляли меня. Еще в одиночке Минской тюрьмы я уверовал в свое призвание и стал жить ради будущего.
Последний этап в Минск, встречи с обитателями тюрьмы использовал для накопления литературного багажа, следствие же и третий по счету военный трибунал воспринимал как досадную задержку и совершенно сознательно стремился обратно в лагерь.
Вероятно, другой бы на моем месте мечтал об освобождении, но я, хорошо подготовленный моими учителями, уже знал о железной необходимости для советской власти существования концлагерей и не строил иллюзий насчет досрочного освобождения.
Через неделю после заседания военного трибунала меня отправили на Восток, в Красноярский край, с тем же сроком. До его конца оставалось больше пяти лет.
Но случилось непредвиденное: я вышел на свободу раньше. 5 марта 1953 года умер вождь всех народов товарищ Сталин, и наши дела начали пересматривать.








