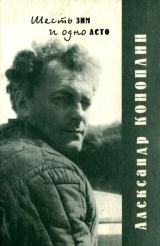
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Глава седьмая. ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
Книга притчей Соломоновых, гл. 3, ст. 4.
Очень многие сибирские поселки обязаны своим развитием или даже рождением советским концлагерям. Поселок Решеты возник на базе лагеря в начале тридцатых. Через три года таких лагерных пунктов в системе Краслага было уже шесть, а еще через десять лет – 23 ОЛПа, имевших, в свою очередь, по нескольку подкомандировок с количеством зэков от ста до пятисот человек.
Советский концлагерь – это экономически независимое образование со своей администрацией, сельским хозяйством, промышленностью, иногда весьма мощной, вооруженной охраной, а также штрафными лагпунктами, БУРами[30]30
Барак усиленного режима.
[Закрыть] и карцерами для тех, кто не хочет трудиться на благо любимой Родины.
Если начальника всего Краслага принимать за наместника государя императора в данном регионе Сибири, то начальники ОЛПов будут удельными князьями: могут сгноить заключенного в шахте, умертвить непосильным трудом на лесоповале, уморить в штрафном изоляторе или, наоборот, послать его на УП[31]31
Усиленное питание.
[Закрыть], ОП[32]32
Особое питание.
[Закрыть] или положить в больничку на лечение. Каждый такой начальник имеет в подчинении начальников поменьше, те набирают помощников, которые тоже изображают из себя начальников.
Еще древние заметили: на свете нет более беспощадного надсмотрщика, чем бывший раб. Система эта, доведенная до совершенства, казалась вечной. Как некогда вечным казался Рим. Но пробил час, и система рухнула. Как некогда рухнул Рим.
Крушение началось 5 марта 1953 года. Стоял солнечный, довольно теплый для Сибири день. Согнанные к вахте, мы курили и слушали радио. На вышках дежурили пулеметчики. С крыши свисали сосульки, малолетки отламывали их и бросали в спины надзирателей, когда те отворачивались. Потом нас снова загнали в бараки и не выпускали до следующего утра. На вышках по-прежнему стояли пулеметы.
А музыка играла и играла, и казалось, ей не будет конца. Когда она ненадолго умолкала, мы слышали выступления известных писателей и поэтов. Они клялись в любви к великому покойнику и верности идеям коммунизма. Некоторые рыдали прямо в микрофон.
А мы, запертые в бараках, плясали под траурные марши, и гнилые половицы трещали под нашими сапогами.
Потом двери отперли, мы взяли в руки поленья и пошли в третий барак. На глазах перепуганных придурков[33]33
Вся обслуга из зэков, включая музыкантов, каптерщика, поваров, помощника нарядчика, бухгалтеров, дневальных.
[Закрыть] набили морду нарядчику, повесили за ноги стукача и, развалив зачем-то печь, отправились в шестой барак, где кирпичом проломили голову «пахану», вымазали дерьмом его главного телохранителя и ссучили его, загнав в запретку.
Кто-то сорвал в клубе портрет Сталина, висевший там много лет, и сжег его прямо на сцене, правда без свидетелей…
На этом наши выступления закончились. Все начало понемногу стабилизироваться: из больнички вышел «пахан» и стал снова прибирать к рукам разболтавшийся ОЛП, с вышек наконец сняли пулеметы, возобновила свою работу КВЧ. Нам объявили, что, по-видимому, наши дела в ближайшее время начнут пересматривать и что нам надо лучше работать, потому что тех, кто сачкует, освобождать не будут.
Так, в ожидании чего-то лучшего, прошло полтора года. В конце августа 1954-го мне выдали долгожданный пропуск для следования на «объект» и обратно без конвоя. Сначала этим «объектом» стала для меня пожарка, затем поселковая баня, где я должен был работать истопником.
Всякую радость полагается обмывать. Я дал денег надзирателю, он сбегал в магазин и принес бутылку водки. Мы выпили с дневальным клуба, где я некоторое время работал художником и где теперь будет работать другой, объяснились друг другу в любви и легли спать каждый в своем чулане. В пять утра мне предстояло отправляться на свой «объект».
Дневальный клуба бывший власовец Голубов мог спать спокойно: из отмеренного ему срока в двадцать пять лет он отбыл только шесть.
* * *
В поселке Решеты – административном центре комендантского ОЛПа № 5 – жило много бывших зэков. Одни зарабатывали на билет до Москвы и нормальные шмотки, другие успели «поджениться» и уезжать не торопились.
Многих я знал еще по лагерю. Среди них встречались «повторники». Теперь их вроде бы освободили окончательно, во что сами они верили плохо. Жили по-разному. В таежном поселке трудно найти работу даже молодому, с железными мускулами, и «повторники» устраивались посудомойками, ассенизаторами, ночными сторожами, грузчиками. Престижными считались должности рабочего в магазине, банщика и конюха на продбазе.
По вечерам все бывшие зэки собирались у Счастливчика – бывшего драматического артиста Валентина Басова, отсидевшего в лагерях девятнадцать лет и женатого теперь на поварихе столовой Ульяне Никитичне, у которой в Решетах имелся свой домик. Как выяснилось, она долго присматривалась и наконец выбрала себе мужчину тихого, культурного, не слишком пьющего и не очень старого. До того, что он был когда-то артистом, Ульяне Никитичне не было дела. Женщина обстоятельная, строгая, она концертов никаких не смотрела, считая это пустяками, и даже в кино ходила редко, предпочитая лишний часок поспать.
Басов нравился ей высоким ростом, гордой осанкой – даже лагерь не согнул его – и удивительно легким характером. Товарищи собирались к нему не для пьянки – такого бы Ульяна Никитична не потерпела – а поговорить, попить чайку. Не знала добрая женщина главного: собирались бывшие зэки, чтобы послушать радио «из-за бугра». Почти полгода Басов собирал приемник, и собрал-таки… Обитал он в переделанном своими руками чердаке, именовавшемся теперь мезонином. Внизу, при включенном громкоговорителе крепко спала хозяйка, а на чердаке до глубокой ночи, а то и до утра кучка мужиков слушала далекий голос. В глухом сибирском поселке самыми желанными вдруг стали не газеты, а «вражьи голоса», и особенно «Радио Свободы», летом 1954 года впервые вышедшее в эфир. Конспирация была как у блатных, когда они тайно, под полом, оттачивают свои страшные пики для кровавых разборок.
Расходились обычно по приставной лестнице через сад. За слушание вражеских голосов давали срок. Но так уж устроен интеллигент: дай ему сытую жизнь, легкую работу (или вообще никакой), но запрети общаться с себе подобными – и он умрет, как умирает муравей, изолированный от своих собратьев.
И потом, ничто так не сближает людей, как общие страдания, и ничто так не проверяет на порядочность, как лагерь.
Самым молодым в этой компании был я. Едва приступил к должности истопника, как был вызван к начальству и получил другое назначение – строить культурный центр славного поселка Решеты. Логика проста: раз ты художник, должен знать и архитектуру. Все было бы правильно, если бы я хоть немного учился на художника… Узнав о таком капризе начальства, я целый час пребывал в шоке, а на второй уже беседовал с бригадиром плотников, присланных в мое распоряжение. Иван Николаевич Затулый прекрасно понимал ситуацию.
– Та ты не бийсь. Хлопцы у меня уси работящи, на львивщине та на кыивщине хоромы робили без единого гвоздя, а це им сробить – як мени… Ну, та що там, не бийсь! – Перед тем как уйти, сказал о главном: – Кажить там начальству, нехай моим хлопцям дозволит йисты в гетой столовой, бо гонять их на обид до ОЛПу та обратно – тильке врэмя терять.
Все было правильно, но я не знал, как это сделать. Оказалось, Затулый предусмотрел и это. Едва я заикнулся насчет его просьбы заведующему клубом капитану Пронькину, как тот сказал:
– Вот и дуй с этим к Монахову. Тебя он выслушает, а меня… – тут он употребил лагерное выражение.
Начальник ОЛПа полковник Монахов сам вызвал меня в тот же день – стройка была объявлена ударной.
– Бригаду получил? – По старой чекистской привычке полковник сверлил меня взглядом. – Приступай к работе, а в шестнадцать ноль-ноль будь у меня на совещании вместе с Затулым.
От изумления у меня отвисла челюсть. Монахов усмехнулся.
– Ничего, привыкай. К специалистам у нас отношение особое. Насчет режима: внизу подойдешь к дежурному, он сделает отметку в твоем пропуске, будешь приходить ко мне с докладом в любое время. А также с просьбами и жалобами. Последнее желательно пореже…
– А можно прямо сейчас?
– Жалобу?
– Просьбу.
– Валяй, только покороче.
Я изложил просьбу Затулого.
– С завтрашнего дня будут питаться в подсобке, а теперь иди.
В вестибюле меня ждал капитан Пронькин.
– Ну, что он? Лютовал?
– Лютовал. Сказал, что этим должны заниматься вы, а мое дело – строить. – Я пьянел от собственной наглости. Пронькин снял и тут же надел фуражку, лоб его мгновенно стал мокрым.
– Хрен его поймет, это начальство: то орет, чтоб на глаза не показывался, то, чтоб сам доложил. Мне что, прямо сейчас к нему идти?
– Сейчас идите в столовую, скажите заву, чтобы сегодня бригаду покормили из остатков, завтра привезут продукты с ОЛПа.
Он поплелся в столовую, а я еще немного задержался на ступеньках Управления. Интересно, какой втык мне дадут за вранье? И еще: раз уж меня произвели в архитекторы, так пусть как можно больше людей увидят меня здесь, не то ковыряющим в зубах после обеда в офицерской столовой, не то просто греющимся на солнышке.
* * *
Среди посетителей басовского «мезонина» самыми заядлыми были: художник Иван Туманов, получивший срок за то, что на казенных портретах изображал членов Политбюро такими, какими они были в жизни, без прикрас; бывший политрук Александр Меляев – осужденный за то, что в сорок втором году, будучи ранен, попал в плен; архитектор Александр Александрович Вахромеев – сын богатого ярославского купца; моряк Петр Булкин, спевший в кубрике эсминца «не ту частушку», и я – бывший солдат доблестной армии-освободительницы.
С той минуты, когда я по приставной лесенке взобрался на чердак Ульяны Никитичны, слушающих радио «Свобода» стало двенадцать.
Не могу вспомнить, что именно передавали в тот вечер из Мюнхена, но зато отлично помню обстановку, царившую на чердаке. Длинный, худой, похожий на кузнечика, в лагерном бушлате и женских тапочках Валентин Басов колдовал над приемником; красавец Туманов, недавно «подженившийся» на вольняшке, полулежал на топчане; возле него, согнувшись пополам из-за тесноты, примостился Сан Саныч Вахромеев, а возле двери «на атасе» застыл Сашка Меляев, по прозвищу «Жак», – в лагерной самодеятельности он был клоуном, – далее, вдоль стен, все остальные участники сходки.
А приемник трещит, шипит, захлебывается. Припав к нему волосатым ухом, Счастливчик плавно вращает ручки настройки. Время от времени он выпрямляет спину и стряхивает с себя тела друзей.
– Не наваливайтесь, суки!
Бывшие зэки молча отстраняются, чтобы через минуту навалиться вновь. Еле слышный голос диктора то прорывается сквозь вой глушилок, то снова пропадает: «…политика Сталина довела страну до полного обнищания…»; «В советских концлагерях томятся миллионы ни в чем не повинных граждан».
Слушатели вздыхают, перебрасываются взглядами. Разговаривать здесь запрещено: трудно предположить, чтобы в поселке, где половина жителей – бывшие зэки, плохо работали «оперы». Скорей всего, компания Счастливчика уже на крючке.
– Узнают, чем мы тут занимаемся, – сказал он, – тогда – «по тундре, по железной дороге…».
– Нужна ширма, – сказал Жак, – лучше всего – пьянка. За нее не посадят.
– Алкашей среди нас нет, – отрезал Басов, – пьющих трое: ты, Ванька Туманов и Петро. Ну, разве еще я… У остальных гипертонии, язвы, геморрои. И еще принципы, – тут он посмотрел на меня, – думаете, они все это не просчитали?
Все замолкают и смотрят на занавешенное окно. Что за ним? Притаившийся в палисаднике стукач? Облава?
А далекий голос из Мюнхена продолжает: «Захватив власть, большевики сразу взялись за перевоспитание граждан в духе коммунизма, то есть за превращение свободных людей в рабов. Преступники во главе с Лениным и Троцким лишили Россию даже тех немногих свобод, которые были выстраданы русским народом». И далее: «Российское общество, в подавляющем большинстве, не было готово к демократии. Россия – страна монархическая, основной принцип – всякая власть от Бога…». И еще, сквозь вой глушилок: «…к власти пришли, потеснив интеллигенцию, бродяги, арестанты, каторжники, дезертиры. В своих планах Ленин мог опираться только на них – его соратники для таких мокрых дел не годились». «Места уголовников на тюремных нарах очень скоро заняли сподвижники вождя, идейные вдохновители переворота, интеллигенция, священнослужители и, разумеется, доблестное офицерство, перешедшее на службу к большевикам. Ленин не доверял никому. Он понимал, что образованные люди очень скоро поймут лживость большевистских лозунгов…».
Несмотря на скудное освещение, многие записывали.
– Зачем вы это делаете? – спросил я.
– У нас в зоне остались друзья, – пояснил Вахромеев, – вот для них… – Сан Саныч возил в зону стройматериалы для ремонта бараков. Туманов ничего не записывал, но запоминал все; Жак, похоже, владел стенографией; остальные старались запомнить.
Работы по строительству нового поселка шли полным ходом, и меня то и дело вызывали к полковнику Монахову. Числившийся начальником строительства капитан Пронькин старательно увиливал от дела, пока не оказывался между двух огней: не достанет зэкам чаю или водки – будут работать спустя рукава, не подвезут вовремя кирпич, цемент, доски – будет иметь дело с Монаховым. Каждое утро Жора – так звали Пронькина – встречал меня упреком:
– Опять настучал начальству? Стараешься, стараешься…
– Вы забыли про гвозди, из-за этого полдня не работали. Обещали же!
– Обещал, обещал… Думаешь, припасли их для нас?
– Но ведь требование подписано три дня назад!
– Подписано, подписано… Кроме бумажки, кладовщику надо бутылку.
– А две ему не надо?
– Нет, просил одну.
– Будет ему бутылка! – я начинаю застегивать куртку. Это означает: иду к Монахову. Жора пугается.
– Ну чего ты сразу?! Я и сам знаю, что надо. Улажу. – И едет на базу.
Сибирская зима наступает рано, всегда в одно время, но почему-то для всех неожиданно. В конце августа полетели «белые мухи», а главное здание будущего клуба еще стояло без крыши. Начался всеобщий разнос. С Пронькина пообещали содрать погоны, меня до конца срока запереть в зоне. Жора пугался, а я не возражал: все равно не справлюсь. Что я знал по архитектуре? Разве то, что какой-то Микельанджело в каком-то городе возвел какой-то храм? Но свет не без добрых людей. Как-то Вахромеев сказал:
– Приходи. Такие дела без науки не делаются.
Жил он в комнатке над конюшней, именовавшейся, как и в лагере, «кабинкой». Внутри было опрятней, чем у Счастливчика: на кровати лежало чистое крахмальное белье – как выяснилось, давняя мечта Вахромеева – шесть полок сплошь уставлены книгами, в воздухе аромат натурального кофе. Первое, что сделал Сан Саныч, выйдя на свободу, это купил кофемолку. Так и ходил с ней, пока не поселился в этой кабинке. Вскоре здесь стали появляться книги. Вахромеев скупал их у лагерных библиотекарей, надзирателей и у самого начальника КВЧ – любителя выпить. К чести Вахромеева, на приключенческую литературу, особенно любимую зэками, он не покушался, а скупал классику и справочники.
Лагерные библиотеки создавались на пятьдесят процентов из личных библиотек «врагов народа» и были значительно богаче и серьезнее районных. В лагере я читал Мандельштама, Есенина, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Аверченко, в поселковой библиотеке мне предложили прочесть «Как закалялась сталь»…
Кроме крахмального белья и кофе у Вахромеева имелась еще одна слабость – старый мерин, по кличке «Спокойный», чистокровный першерон. Сейчас ему лет пятнадцать-восемнадцать. Это исключительно добросовестный и умный конь. На вывозке на него клали немыслимый для других лошадей груз – более двенадцати «кубов» – и он вез. Только недавно его перевели наконец на легкую работу. С Вахромеевым они давние знакомые. Когда-то бывшего архитектора – тогда еще не старого зэка – обменяли на этого самого коня: начальнику одного из ОЛПов понадобился архитектор, а у другого не выполнялся план по вывозке леса… Встретились они через много лет, в Решетах, человек и конь, укатанные крутыми горками.
При немощной плоти мозг Вахромеева каким-то чудом сохранил молодость. Он помнил сложные формулы, на память цитировал классиков и читал мне целые поэмы наизусть. Он учил меня всему, что знал сам, в том числе и строительному черчению. Ради меня заказал в столярке чертежную доску, раздобыл где-то ватман и старенькую готовальню.
Построить и обыкновенный дом для человека несведущего дело трудное, я же нацелился строить дворец с колоннами, балюстрадой и красивым портиком, а зрительный зал с ложами, балконом, лепным потолком и живописными фризами. Узнав, что мой замысел пришелся по вкусу начальству и что Монахов обещал разориться на дорогую люстру и бра, Вахромеев загорелся. Постепенно под его руками рождался сказочный дворец, который я не раз видел во сне.
– Удивительно устроен русский человек, – говорил он в редкие минуты отдыха, – ведь, если разобраться, ни тебе, ни мне этот дворец не нужен. Ты освободишься – и уедешь, моего имени вообще никто не узнает, так что это даже не тщеславие. Хотя у нас обоих это первая серьезная работа: я ничего не успел – рано посадили, ты только начинаешь, – значит, у меня это «лебединая песня», а у тебя – запев.
Концы его пальцев были сильно утолщены. «Повторники» говорили, что в тридцатых годах на Лубянке была мода загонять подследственным под ногти гвозди. Вахромеев подтвердил:
– Мне еще повезло, а многих просто уродами сделали. Одного священника помню… Так они же его кастрировали! Вообще, на выдумки были горазды. Особенно один, рыжий, веснушчатый, с длинными обезьяньими руками. Случайно узнали: бывший буденовец. Его командир на допросе признал. «Петруха, – говорит, – да что же это ты со мной делаешь? Мы же с тобой вместе за советскую власть бились в одном строю!» А тот ему: «В одном строю, да не в одну струю» – и кулаком вышиб своему бывшему комбригу зубы.
Узнав, что бригада Затулого делает по две нормы в день, Сан Саныч пояснил:
– Вдохновение, а не плеть заставляет человека создавать шедевры. С помощью плетей строятся пирамиды, а вдохновение рождает Венер Милосских.
Кто-то из моих плотников придумал вытачивать базисы колонн на обычном токарном станке, зажав в руке стамеску. Тут же стамеску заменили специальным приспособлением. Монахов увидел, похвалил:
– Сколько этому изобретателю осталось париться у нас? – Ему ответили: больше восьми лет. – Многовато, растеряет себя, а жаль: он настоящий изобретатель.
Монахов по образованию инженер. Сначала к моей затее окружить Дворец сплошной колоннадой отнесся скептически, но, когда увидел первую колонну, согласился:
– Ладно, оставим после себя след… Только пазы во всю длину – зачем? Дорого.
– Это каннелюры, – вспомнил я уроки Вахромеева, – на коринфских колоннах полагается. Создают игру света и тени, имитируют дождь. С дождями у них было плохо.
– У кого это?
– У греков. Да и у римлян тоже.
– Ну, чернушники! Провозитесь со своими греками, влетят они в копеечку. А у меня баня не достроена! Ладно, валяйте, леший с вами.
Как ни был Сан Саныч увлечен этой работой, не забывал и «мальчиков» в зоне, возил им свои записки. Но попался не он, а Туманов. 2 сентября в людных местах поселка появились написанные от руки листовки. Жители сами сдирали их с заборов и относили «куда следует», предварительно прочитав…
Сначала проверили меня: заставили написать заявление на доппаек для моих бригадников. Я написал. Через день срочно понадобилась моя автобиография. Одновременно со мной проверялись еще двое – тоже художники-самоучки. 9 сентября арестовали одного, но вскоре выпустили и снова вернулись ко мне. Уже без чернухи приказали переписать одну из листовок. Едва взглянув, я узнал почерк Туманова. В листовке излагалась передача радиостанции «Свобода» недельной давности. Я переписал со всей тщательностью. Проводивший расследование майор выругал помощника: надо было диктовать!..
Туманова взяли с поличным спустя два дня: как ни в чем не бывало, расклеивал свои листовки на тех же местах. В свидетелях недостатка не было: народ как раз возвращался из клуба… В «мансарде» поднялась паника. Каждый говорил, что Туманов не выдаст, и каждый вспоминал свое следствие и допросы…
– Между прочим, я признался, что был польским шпионом, – вспомнил самый старый из «повторников».
Посмеялись невесело, помогли Счастливчику спрятать приемник, раскупорили бутылку «Перцовой»: кто знает, где каждый будет завтра…
– Слушайте сюда, пацаны, – сказал Счастливчик. – Если у кого еще что-то осталось, голову оторву. Сан Саныч, к тебе это особо относится: сам погоришь и нас потянешь. Сожги немедленно!
– Не враг же он сам себе! – сквозь кашель прогудел Булкин.
Помолчали, слушая ночь.
– Сюда пока не ходите, – сказал Басов, – когда уляжется, сам позову. – Он поднялся, упираясь плечами в потолок, словно ему сделалось душно и он пытался поднять крышу…
* * *
Из всех привилегий, подаренных мне Монаховым, я особенно дорожил правом возвращаться в зону поздно вечером. Необходимость этого я объяснял тем, что мой помощник – так мы называли Вахромеева – кончает работу в шесть и к чертежам садится после семи. Мне доверяли, но проверяли: не раз в конюшне появлялся колченогий вертухай Пашка, уволенный из вохры за связь с зэчкой. Уволенному тоже как-то надо жить, и Пашка зарабатывал на жизнь стукачеством.
– У тебя, Сан Саныч, табачку не найдется? Забыл днем купить, а сейчас Зинка-стерва ларек не открывает…
Курево Пашка забывает покупать систематически. Вахромеев платит эту дань безропотно, для него каждый вольняшка – по-прежнему начальник.
– Тебя спасает, что ты не бабник, – говорит он мне, – застал бы Пашка с какой-нибудь шмарехой, враз бы законвоировали. И чего они так о нашей морали пекутся? Кстати, почему ты не бабник? Парень молодой, здоровый, девки на тебя поглядывают…
– Освободится, свое возьмет, – подал голос Пашка, опять оказавшийся рядом, – у тебя, Сан Саныч, как насчет табачку?
Пашка берет дань не с одного Вахромеева, но с него – только табаком. Что взять с конюха? Другое дело – художник, пишущий маслом портреты вольняшек. Однажды сунулся ко мне за «пятерочкой». Я полез в карман, а вынул оттуда… кукиш.
– Но, ты! Зэк сраный! – возмутился Пашка. – Гляди у меня!
Я понимал, что с другим бы он не стал церемониться, но меня запросто принимает сам Монахов…
Пашка не одинок. Отношения вольняшек к бывшим зэкам, и тем более бесконвойникам, такое же, как в древнем Риме к рабам: патриции не замечают, свободные граждане могут похвалить за хорошую работу, даже не погнушаются выпить за наш счет, но стена, воздвигнутая Системой между этими сословиями, от этого не рухнет. Каждый вольняшка считает себя на голову выше. В Великой Книге Будущего, завещанной ГУЛАГу его создателями, наши имена должны вечно храниться в разных папках.
– Ты с ним поосторожнее, – говорит Сан Саныч, – говнист не в меру, шуток не понимает, а такие особенно опасны.
– Наши дела уже пересматривают, – говорю я, – теперь уж недолго…
Сан Саныч недоверчиво качает головой. Его лагерный опыт не зафиксировал случаев, когда бы радостные слухи сбывались.
Предупреждая меня об опасности, он все время забывал о себе. Зная, что идет расследование, продолжал возить в зону крамолу. Не довольствуясь радиопередачами, записывал и собственные мысли.
– Они, Сереженька, знают не все. Мы с тобой знаем больше. Например, то, что коммунизм у нас уже построен. Ну что ты уставился на меня? Я же не говорю, что на всей территории! Пока – отдельными очагами.
– Лагпунктами, что ли?
– Конечно. Наши вожди опять экспериментируют. Народ не догадывается, а мы видели. Вот он, за теми вышками. Зона! «От каждого по его способностям, каждому – по потребности». Все укладывается как нельзя лучше, если то и другое будешь определять не ты сам, а специально для этого назначенные люди. В данном случае, лагерное начальство. Соответствует учению Маркса! В лагерях нет денег – они просто не нужны, нас одевают, кормят, моют в бане, показывают кино – какое надо! – лечат, когда мы доходим. Единственно, что не соответствует учению, так это то, что наших «коммунаров» гонят на работу палками. Но это уже мелочи, главное – есть основа. Заложена еще в семнадцатом.
– Вы что же, и по этому вопросу просвещаете своих «мальчиков»?
– По мере возможностей. Кстати, молодой человек, все начинается с основоположников.
Были дни, когда ему становилось совсем плохо. Мы выходили из конюшни и подолгу стояли возле южной стены – здесь было теплее. Прямо перед нами барак, напоминавший нам обоим лагерь. Теперь в нем живут рабочие лесопилки с семьями, в основном тоже бывшие зэки, и барак, если присмотреться, бывший лагерный, и весь поселок – типичная зона с ровными рядами бараков, клубом-столовой, баней и кипятилкой. Неудивительно, что Монахов – человек здесь новый – торопится поскорее построить другой поселок, не похожий на прежний.
– Осуждаю я нашу интеллигенцию, – отдышавшись, говорит Вахромеев, – всех, кто с первых дней зарождения лагерей вкалывал, и тех, кто вкалывает теперь. Запомни, Сережа, наши концлагеря создал сам народ! Только в России возможно такое. Большевики придумали Соловки – пробовали: пойдет – не пойдет. Пошло. Создали Беломорканал – уже покрупнее. Опять пошло. Они нащупывали пути развития экономики, прекрасно понимая, что традиционные пути развития государства не для их системы. И нашли: подневольный труд! Думаешь, они сажали врагов народа? Чепуха. Они сажали сам народ! Врагов они давно уничтожили, а с народом экспериментировали. Сначала срока давали небольшие, призывали «исправляться». Те, кто побывал на Соловках, рассказывали, какие грандиозные спектакли устраивали там для приезжих знаменитостей. Даже Максим Горький попался на их удочку, описал жизнь зэков чуть ли не как сплошной праздник. А может, сам боялся, кто знает… После Беломорканала арестанты повалили тучами. Уголовникам по-прежнему давали маленькие срока: на них где сядешь, там и слезешь, а нашему брату не повезло. Интеллигенция, конечно, поняла все с самого начала, но – вкалывала. Каждый хочет жить. Но ведь именно с интеллигента дерут три шкуры! С них и простых мужиков! «Великие стройки коммунизма» – руками рабов! Каково? Сколько построили и еще сколько построят? Для кого? Для себя. Для избранных. Определили раз и навсегда кому жить, а кому… – Он закашлялся долгим нудным кашлем. – Проклятый катар!
– Где же выход, Сан Саныч? Похоже, его нет.
– Да нет, выход есть… – он замялся и продолжил с неохотой: – Выход, конечно, есть, да только не все его принимают. А ведь всё очень просто: не повторять ошибок предшественников. Тех самых, которые давно уже там… – он махнул рукой в сторону старого лагерного кладбища. От поселкового оно отличается размером и тем, что над могилами нет надгробий. – Теперь в отдельные могилы кладут, а до войны и долго после – только в братские, сиречь в яму. Ну вот скажи: чего они добились?
– Кто?
– Да те, что там лежат? Вкалывали, вкалывали – кто восемь, кто десять – а что получили? Креста и того нет. Между прочим, урки не вкалывают! Бились с ними, бились, и уговаривали, и морили – так ничего и не сделали. Пришлось узаконить. Как видишь, перед настоящей стойкостью даже большевики отступают. Я не идеализирую блатных – боже сохрани! Их стойкость, в конечном счете, за счет нас, но представь на миг, что все мы вместе отказались работать! Что получится!
– Пробовали уже. Постреляют – и всё, либо измором возьмут. Вы правильно сказали: человек жить хочет.
– Вот вот! Именно! Хоть на коленях, хоть вечно в голоде, хоть в крепостных у Пашки-вертухая, хоть год, хоть два… О других он не думает, даже о собственном сыне – тот тоже здесь будет. Когда подрастет. Потому как – корень один. Намечен к уничтожению до десятого колена… Да, слаб сын человеческий. Особенно если в душе нет Бога, а есть желудок, требующий пищи. Вот ему, желудку, и служит… Ах, как все у них продумано! Даже это: сначала лишили Бога, отвернули человека от него, потом подчинили себе через плоть голодную. Гениально! А насчет того, что, если все откажемся, постреляют, – верно лишь наполовину. Конечно, погибнут многие, но зато, возможно, исчезнут лагеря – это страшное порождение ленинизма. Лагеря существуют из-за того, что большевики не хотят платить настоящую плату за работу. Хотят, как в древнем Риме: сами властвовать и жизнью наслаждаться, а других заставлять на себя работать. В этом, а не в надуманных «врагах народа» корень наших лагерей. А впрочем, читайте Ленина, юноша. Наша беда в том, что мы его читали невнимательно, а ведь он, по сути, ничего не скрывал. Кстати, у меня есть почти все его произведения, изданные при его жизни. Не хотите почитать? Напрасно. Очень серьезные мысли.
– Поостереглись бы, Сан Саныч. Знаете ведь, что они с вами сделают, если услышат.
– Христос тоже знал… – загадочно ответил Вахромеев.
* * *
Возвращаясь в «мезонин», я еще в сенях услышал, как читает бывший артист драматического театра:
И блеск, и тень, и семена свободы
В мир унесут копыта их коней.
Слушателей в этот раз было двое: Петр Булкин и Жак Меляев, остальных распугал арест Туманова. Говорили, его содержат на пятом ОЛПе, в БУРе.
– Ну, как там, больше никого не взяли? – спросил Счастливчик. Похоже, он еще не вылезал из своей «мансарды».
Я пожал плечами и потянулся к баку с водой.
– А на тебя запрос поступил, – вдруг сказал Меляев, – дело затребовали, пересматривать будут.
Ковш с водой дрогнул в моей руке. Хоть выдержкой Бог не обделил, да и слухи были уже не слухами, но, когда касается самого себя, хоть какие нервы не выдержат.
– От кого узнали?
– Люська-машинистка сказала.
Воцарилось молчание. Стало слышно, как внизу, в «чистых комнатах», тикают на стене ходики.
Люська, о которой шла речь, работала на пятом ОЛПе – моем «родном» ОЛПе, за которым я числился, куда каждую ночь должен был возвращаться на ночлег и с которого только меня могли освободить.
– Надо бы отметить, – прогудел Булкин, – полагается.
– Рано, – отрезал Счастливчик, – сглазить можно. Ты вот что, сходи сам к Люське и всё разузнай. Она тут недалеко живет.
Где живет Людмила Филатова – маленькая блондиночка с кукольным личиком, я знал не хуже других. Освободившиеся с пятого ОЛПа сначала кидались на женщин и лишь после – на жратву и выпивку. С ней жили обычно неделю, потом уезжали. Но проституткой она не была, просто ей очень не везло с замужеством.
На мой звонок она открыла сразу. Стояла в прихожей, не зажигая света.
– Знала, что придешь. Извини, у меня не убрано…
– Скажи, Люся, это правда? Ну, то, что меня… мое дело…
– Правда. Мы готовили на троих, но тех двух, – она назвала фамилии, – не пропустила надзорслужба. У одного побег, у другого неподчинение надзирателю.








