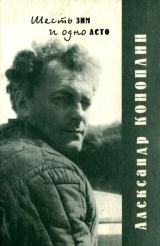
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Мое сердце трепыхнулось и ушло в пятки.
– Но у меня же… Люся, у меня же два побега!
Она ответила не сразу. Стояла, думала.
– Видишь ли… В общем, так уж вышло: побегов за тобой не числится. Когда ты прибыл с этапом на наш ОЛП… Помнишь, осенью позапрошлого года? И вас обыскивали у вахты…
– Да, у меня тогда еще рукопись отобрали, а потом в карцер посадили за то, что возражал.
– И через сутки выпустили. Думаешь почему?
– Наверное, потому, что это не «колюще-режущее».
– Нет, не поэтому. Посадили за драку и выпустили…
– Постой, значит, это ты?
Она засмеялась.
– Дошло? Да я тебя, дурачка, еще тогда приметила. Эх, вы, мужчины, ничего-то не понимаете!
Кинолента памяти в моем мозгу начала прокручиваться в обратном направлении, я вновь увидел тот злосчастный день восьмого сентября, холодный дождь, то и дело переходящий в снегопад, столы возле предзонника, людей в белых халатах за ними, охрану с собаками и наш этап – толпу совершенно голых людей на осеннем ветру…
– Так ты была там?
– Была. Личные дела вместе с Федоровым принимала. Тогда же это преступление и совершила, – она засмеялась, – теперь понял?
Я понял. Мое тело, обмякнув, поползло вниз, к ее животу, ногам, в носу защекотало. От платья шел запах чистоты, ветра и каких-то цветов – божественный, неземной запах!
– Ну, ну, что ты! Вот уж не думала… Пойдем в комнату, я тебя чаем напою с малиновым вареньем. Ты любишь малиновое варенье? Да успокойся, дурачок, с тобой все в порядке. Хорошо, что вовремя сообразила…
Затем мы долго сидели за чаем, я что-то ел и пил, не понимая вкуса и почти не слыша голоса Людмилы.
– Ты был строен, как кипарис. И без наколок. И взгляд – не лагерника, а гордый и…насмешливый. Как будто ты над всем происходящим смеялся. Словом, ты не был похож на остальных. Подумать только: к тому времени ты отсидел больше четырех лет, имел два побега! Тогда я всего этого не знала, думала, парень прямо из тюрьмы, ничего не понимает, отсюда – гордость, потом обломается, согнется… Словом, пожалела. А потом в зоне ты организовал художественную самодеятельность, и я ходила на ваши концерты.
– Да, ты всегда сидела в первом ряду, справа.
– Мы все сидели в первом ряду – вольнонаемные и охрана, а справа – потому что там из окна не дуло… Да, так вот: у тебя все было на уровне. Ты что, кончил театральный? Нет? Странно… Впрочем, я ходила не из-за этого. Не только из-за этого, а больше, чтобы посмотреть на тебя. А ты не обращал внимания…
– Зэку не положено пялить глаза на вольняшек.
– …потом тебе выдали пропуск, и самодеятельность умерла.
– Что, пропуск – тоже с твоей помощью?
– Нет, просто Монахову понадобился архитектор.
– Но я такой же архитектор, как артист и художник!
– Неважно. Ты на одиннадцатом ОЛПе что-то построил…
– Открытую эстраду и арку возле вахты. Чепуха, в общем-то.
– А Монахову понравилось. По его понятиям, хороший художник может быть и архитектором. Кстати, он не прочь задержать тебя в Решетах! – она опять засмеялась и откинулась на спинку стула. Теперь в ее взгляде появилось нечто от старшей сестры или пионервожатой. Право смотреть на меня свысока она имела, ее поступок требовал не меньшего мужества, чем мои дурацкие побеги в никуда.
– А что с теми документами?
– Они у меня в сумочке. Хочешь убедиться?
– И ты два года хранила?
– Могла бы и дольше. Ради твоей благодарности…
Она поднялась со стула, подошла и положила руки мне на плечи. Я смотрел на нее снизу вверх. Пожалуй, она была старше меня лет на пять, под слоем пудры угадывались морщинки, в углах губ залегли складки.
– Конечно, Люся, я тебе благодарен…
– И это все?
– А что еще?
Ее руки мгновенно ослабли, а потом и вовсе упали.
– Что ж, и на том спасибо. – Она отошла к окну, достала сигареты, закурила. – Освободишься – уедешь?
– Конечно. Я ведь сюда прямо из армии. Родных не видел одиннадцать лет, с тех пор как на фронт пошел в сорок третьем.
Она затянулась сильно, со всхлипом.
– Правильно, уезжай. Счастья тебе, парень. Дай хоть поцелую на прощанье!
Уходил я поздно. Выйдя из подъезда, немного постоял на крыльце. Требовалось дойти до ОЛПа, не налетев на патрулей, – как-никак, я все еще был зэком! Неожиданно на втором этаже стукнуло окно, и к моим ногам упал конверт.
– Возьми на память обо мне! – сказала Люся. Потом окно закрылось, занавеска задернулась, свет потух.
Я разорвал конверт. В нем лежали странички из моего личного «дела», касавшиеся двух побегов.
* * *
Свобода пришла ко мне 12 сентября. Друзья узнали об этом раньше, и, когда я примчался в «мансарду», все были в сборе.
– Едешь? – Счастливчик, как следователь на допросе, «ел» меня глазами. – Ну и правильно. Я бы тоже уехал, да поезд мой ушел. А вы молодые, вам можно и рискнуть. Привьетесь где-нибудь, глядишь, и доживете до пятидесяти… – и вдруг заорал на весь дом: – Ванька, дуй за водкой! Санька, сбегай к Катерине за капустой да гитару прихвати: Серегу-художника провожаем! И чтоб – никаких баб! Мужики гуляют.
Всю ночь, до утра тринадцатого, гудела мятежная «мансарда» от топота ног, блатных и пионерских песен, забористого лагерного мата – то ласкового, со слезой, то злого, с зубовным скрежетом, – от признаний в любви и верности до гробовой доски. Сидела внизу на высокой кровати с перинами накаленная от ярости до вишневого цвета хозяйка дома, дежурили в палисаднике дружинники и участковый, шушукались под окнами любопытные девчата, и гудели за ближними домами дальние поезда, унося очередных счастливчиков в землю обетованную – Россию.
Проснулся я в «чистых» комнатах, на хозяйском половике, возле кровати с высокими перинами. Самой хозяйки не было – еще затемно ушла из дома, дабы не видеть «бесстыдного мерзоства и паскудства». В обеих ее комнатах – на печке-лежанке, на большом, окованном медью сундуке, на пуховых перинах и просто на полу – спали бывшие зэки. Между ними, стараясь не наступить на кого-нибудь, бродил Затулый, искал своих бригадников. Увидев, что я не сплю, сказал:
– Двух найшов, а ще троих нема: Потапца, Завьялова и того… Тетери. Як прийшлы на стройку, так и сгинули. Вохра у лиси шукае, тильке я думаю, воны здесь, бо дуже до горилки охочие…
Я хотел подняться – Потапец с подручными должен сегодня ставить стропила, – но голая женская рука обвила мои плечи и уложила меня обратно, на половик.
– Ты кто? – задал я резонный вопрос.
– Дак Дуся же! – был ответ. – Со второго ОЛПу! Пятерых у нас вчера сактировали. Верка, Зейнапка и Катька с дневным в Красноярск укатили, а мы с Зойкой Кренделевой остались: ей в Киев, а мне в Воронеж. Сидим на станции, а тут ваш дружок Саня Меляев – курносенький такой, ласковый – говорит: «Пойдемте, девушки, к нам, мы вас не обидим, мы своего друга провожаем, и все у нас есть: и вино, и жратва». Мы и пошли. А что, верно, вы кого-то провожаете или он нас на понт взял?
Я с трудом поднялся, шатаясь дошел до рукомойника, хотел напиться, но он был пуст, как моя голова, и так же гудел при постукивании. Дуся полулежала, опираясь на локоть, и ее тощая грудь, вывалившись из мужской майки, касалась половика.
– Точно: на понт взял! Говорила Зойка: «Давай смоемся!» – а я, дура, уши развесила!
– Вас не покормили? Или вина не хватило?
– Я чего, за водкой, что ли, шла? А жратвы у меня до Воронежа хватит.
– Тогда в чем же дело?
– В чем? – она не спеша, даже как-то задумчиво, сняла с себя майку, трусы, юбку и осталась совершенно голой, а поскольку я медлил, пояснила: – Мы с Зойкой что, хуже других? Пять лет в зоне! Мужики – только попки на вышках, а мне живого хочется. Да ты не смотри, мне ж всего двадцать годочков. Я ж не мужиками – лагерем измочаленная. А мне хочется! Один только разочек, перед самым арестом, попробовала… Ну, чего ты? Чего стоишь-то? Думаешь, больная? Да здоровая, здоровая. Ну, иди же, иди, миленький! Может, я тебя одного и ждала…
Я выскочил в палисадник, с жадностью хлебнул свежего, уже довольно холодного воздуха. Из дома, постанывая и кашляя, выходили вчерашние зэки, дрожащими пальцами свертывали цигарки, затягивались и блаженно вздыхали, подняв глаза к небу.
– Свободушка! Вот она, родимая! Слышь, художник? Свобода, говорю, матушка: что хошь делай, хошь – водку лопай, хошь – чего хошь…
Некоторые, еще не совсем проснувшись, мочились тут же, с крыльца. Серыми тенями прошмыгнули Завьялов с Тетериным, за ними Потапец. Перемахнув через забор, подобрали какую-то доску и, уцепившись за нее втроем, чинно пошли на стройку.
Я вернулся в дом, нашел в «мансарде» Счастливчика. Возле него на топчане спала девица.
– Вот уж теперь меня Уля, точно, выгонит, – сказал он, с удивлением разглядывая раскиданные на подушке женские волосы. Зажав обеими ладонями свое лицо, принялся мять его, потом спохватился и начал разглаживать… – А ведь ничего с ней не было, ей-богу! Помню, выпил и лег… А откуда она взялась, хоть убей… Да и кто она, ты не знаешь?
– Это Симка Малина, дочь надзирателя сержанта Малина.
Басов по-молодому вскочил, стал одеваться, бормоча:
– Ей-богу, ничего не было! Она же молодая, может, чиста как ангел, а я старше. И чего она тут? Слушай, проводи ее! Она, кажется, выпила лишнего.
Этого «ангела» я знал давно. Бесконвойницы женских лагпунктов подрабатывали: пробирались рано утром, до прихода бригады в оцепление, а когда пригоняли работяг, обслуживали желающих. Промышляли этим и только что освободившиеся зэчки – эти вообще ничем не рисковали. Года три назад к ним начали присоединяться жены некоторых надзирателей. Поговаривали, что мужья сами толкали их на такое дело, помогали устроиться в «заначке» на лесоповале или на стройке. В Решетах первой начала заниматься этим промыслом жена сержанта Малина – Роза. Говорили, что сержант бил ее, если приносила мало. Работая в лесоповальной бригаде, я не раз видел ее под кучей хвороста обнимающей кого-нибудь из работяг. Год назад по той же дорожке пошла ее пятнадцатилетняя дочь.
Зачерпнув ковшом воды из бачка, я напился, а остатки вылил на голову спавшей. Она вскочила, фыркнула и уставилась на меня.
– Ты что? Да ты забыл, кто ты есть? Да я ж тебя, суку… Да мы же тебя в БУРе сгноим!
– Уже не сгноите, – я зачерпнул еще и плеснул ей в физиономию. Она запустила в меня ботинком Басова.
– Ну, ты меня попомнишь! Считай себя в зоне, «архитектор»! – нашарив на полу свой лифчик, не торопилась надевать, сидела на топчане, белея в полутьме тугими грудями. – Все вы тут будете меня помнить.
– Чего вы? Ну, чего вы, ей-богу? Как взбесилась… – Басов прыгал на одной ноге, тщетно пытаясь попасть другой ногой в штанину. – И потом, не кипятком же он в тебя плеснул!
– А ты заткнись, старый козел! – Малина подбирала волосы, держа шпильки во рту, и оттого говорила невнятно. – Завел притон, бандерша? Со всего Краслага блядей собираешь. Сколько с пары берешь?
– Какой притон? Какие пары? – Счастливчику все не удавалось надеть брюки. – Ты что болтаешь, идиотка?
– Я идиотка? – точным ударом в подбородок Малина сбила Счастливчика с ног и двинулась на меня, прихватив с полки молоток. Но тут сильная женская рука выдвинулась из-за моего плеча и схватила Серафиму за волосы.
– Я те покажу, как чужих мужьев избивать, – сказала Ульяна Никитична и отбросила Малину к двери. Затем она обратила свой взор на супруга. – А ты, милок, всё порточки свои надеть не можешь? Да-ко помогу! – и влепила Счастливчику затрещину. – У, кобелина! Свежатинки захотелось? Солонина надоела? Я те покажу свежатинку! – однако последний удар был чисто символическим: носком ботинка – по мягкому месту. Затем Ульяна Никитична величественно выплыла из «мансарды».
Счастливчик поднялся с пола, надел штаны и пропел своим чудесным баритоном:
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
* * *
Следующей ночью за мной пришли. Хмурый, заспанный отставной надзиратель Семен Гапич пальцем откинул крючок на двери, вошел и зажег свет.
– Чего запираетесь? Не положено. – Тут он вспомнил, что мы уже не зэки, и поправился: – Мабудь, не украдут вас…
После выхода из зоны, я поселился у Вахромеева: огорченный моим решением после освобождения уехать домой, Монахов слезно просил не бросать стройку, обещая платить большие деньги.
– Я до тебе, – кивнул головой Гапич, – треба доставить у целости.
– К кому доставить? – удивился я. Монахов ночами не вызывал…
– До якого-сь полковника. Николы его не бачил. Казалы, следователь с Красноярску.
– Как следователь? Зачем следователь? Я же – вольный!
Гапич пожал плечами.
– Мени казалы, я прийшов. – Он работал посыльным.
Сердце мое упало. Вообще в последнее время оно что-то слишком часто падало… Неужели и до меня добрались? Я не замечал, что все время стою с поднятыми руками – надевал рубашку. А почему бы нет? Дружу с матерым врагом народа Басовым, с классово чуждым Вахромеевым…
– Копаешься, як немка у заднице, – напомнил Гапич и зевнул.
– Так вы идите, Семен Иванович, я дорогу знаю.
– Ни. Прыказано доставить.
Господи, неужели опять арест? Не успел выйти… Я увидел глаза Сан Саныча. Прежде маленькие, острые, с крошечным зрачком, они сейчас странно расширились, стали еще более светлыми. Не сказал, а прошептал так, что даже Гапич не услышал:
– Сережа, будь мужественным!
Я надел лагерный бушлат, хотя уже успел обзавестись приличным пальто. Если посадят, Вахромеев продаст – всё польза…
Гапич шел впереди, не оглядываясь, и это наводило на мысль, что случившееся – не арест. Арестовывать Гапича не пошлют. Он из бывших ссыльных, да и возраст… Его раскулачили на Украине, в начале всеобщей коллективизации, и сослали в Сибирь вместе со всей семьей. Везли в заколоченных досками вагонах, в пути давали только воду. Из семи детей Гапича умерло трое. Выгрузив на станции Сосновка, развезли на подводах по тайге. Гапичам и Нечипоренкам досталось место на берегу Тунгуски, в ста сорока километрах от ближайшего села, где жили староверы, сосланные еще раньше. Остановив лошадь, один из милиционеров воткнул в землю кол.
– Тут будут жить Нечипоренки. – Затем прошел сто метров вверх по течению и воткнул второй кол. – А тут Гапичи.
И уехал. Кругом тайга дремучая, лиственницы до неба, волки воют, а у ссыльных на две семьи два топора и одна пила. Ночевали кучкой под большой сосной, а утром начали копать землянку – одну на всех. Первую зиму жили коммуной: Тарас Нечипоренко приладился лепить из глины плошки и глечики, Семен обжигал их на костре, его старшая дочь Оксана обрабатывала неровные края острыми камнями. Топором делали ложки. Когда построили первую хату, на полках стояло вдоволь всякой глиняной посуды. В тайге собирали грибы, орехи, ловили силками зайцев, потом догадались копать волчьи ямы для более крупной дичи. У тунгусов научились вялить мясо над огнем и больше не бедовали.
Когда в красноярскую тайгу пригнали первых заключенных, Гапич нанялся в охрану. Через два года к нему присоединился старший сын, а еще через год младший. Сейчас у Гапичей два больших дома, восемь коров, шестьдесят овечек, двадцать свиней, множество птицы. Дома их окружены высокими заборами из лиственницы, ворота сторожат овчарки. Зэкам за эти заборы иногда случается заглядывать: каждый надзиратель и офицеры охраны частенько берут их для своих хозяйственных работ. Я сам не раз пилил дрова во дворе у Гапичей, чистил стойла, косил в тайге, скирдовал. За это Гапичи кормили меня жирными щами и гречневой кашей, а Семен Иванович, случалось, подносил чарочку – он ценил работящих и честных. Когда начальству вздумалось перевести меня из бригады лесорубов в художники, Гапич стал посещать меня в клубе. Сделав обход зоны, приходил в мою «кабинку» за сценой и садился на табурет возле печки. Я тогда усиленно практиковался в рисовании с натуры, и добровольный натурщик был очень кстати. Гапичу его портреты нравились, но еще больше нравилось то, что я с него не брал денег, как с других. Очевидно, от скуки он начал рассказывать. Сперва я узнал историю его семьи, потом семьи Нечипоренок, затем подробности женитьбы старшего сына, затем младшего, а однажды рассказал такое, чего, наверное, не знал никто.
Зимой 1938 года с очередным этапом в лагерь прибыл заклятый враг Семена Ивановича Степан Остапенко, но уже не как начальник Выселковской милиции, а как «враг народа». По словам Гапича, он глазам своим не поверил, решил уточнить: уж больно тощ был некогда упитанный милицейский начальник.
– Не пошло ему на пользу мое добро, – задумчиво говорил Семен Иванович, глядя на огонь. В нем, как я понял, он видел своих безвременно погибших детей – двух мальчиков и одну девочку.
– Усе животом маялись. Плакали, маты звали… А маты сама в бреду металась – думали, не выживет. Из вагонов нас не выпускали, доктора нема, хлиба нема, ничого нема… – Гапич достал тряпочку, вытер глаза, высморкался. – Диток похоронить не дали. Якие-то люди приняли, унесли, а похоронили, чи ни, кто знает… – Он снова вытер глаза. – Ну, я пиду до дому.
Страшную историю он досказал лишь через месяц. Как и раньше, пришел после обхода, сел у печки.
Конвоировали бригады не надзиратели, а стрелки охраны, в очердь: сутки на вышках, два дня в конвое. Ребята молодые, срочной службы, Гапич им в отцы годился. Но была одна небольшая зацепка: когда солдат не хватало, в конвой брали надзирателей – тоже в порядке очередности. Только через полгода повезло Гапичу: назначили конвоировать бригаду, в которой был Остапенко. Едва узнал его Гапич. Не жалует лагерь ни друзей, ни врагов. Когда пришли в оцепление, Остапенко кинулся разводить костер. Бригадир хотел прогнать – на такое дело только фитилей ставили – Гапич велел оставить. Сидел на валежине у огня, хмуро смотрел в спину суетившегося у костра Степана. Сколько лет молил Бога об этой встрече…
– Пойдем за топливом, – сказал и голоса своего не узнал: будто душил его кто-то… А Остапенко – с радостью, лишь бы лес не валить, идет впереди, болтает о пустяках. Между прочим, сказал, что служил в милиции, большим начальником был… Лучше бы не говорил! Последние сомнения у Гапича исчезли: правое дело задумал, Божий суд вершит!
– А ну, швыдче! – не заметил, как произнес по-украински. Остапенко насторожился, вперил в конвоира тревожный взгляд.
– Чи вы с Украины, гражданин начальник?
– Не твое дило, – ответил.
Спустились в балочку, поднялись на сопку, опять спустились. Остапенко заметался, да поздно: отсюда кричи – не докричишься, да и кому кричать? Кто услышит? А если и услышат, не поймут: на лесоповале все кричат: бригадиры на работяг, те – на лошадей и друг на друга, и просто так, от злости и тяжелой работы.
Снял Гапич с плеча винтовку, щелкнул затвором. Остапенко повалился в снег.
– Не губите, гражданин начальник! За что? Я же свой! Я в милиции служил и вам услужу!
– Подывысь на мене, – попросил Гапич. Остапенко поднял глаза и прочитал во взгляде конвоира свой приговор.
– Семен! Це ж ты… А казалы, нема бильше Гапичей…
И выстрелил Гапич, и хлынула из головы Остапенко черная кровь, задымилась на снегу.
Услыхав выстрел, встревожились конвоиры, положили своих бригадников в снег, лицом вниз, сорвались с места разомлевшие у костров собаководы, бросились вдоль контрольной лыжни.
На Гапича наткнулись случайно: искали за оцеплением, а он с убитым был в оцеплении. Удивились: лежит в снегу зэк, из пробитого лба кровь струится, а над ним стоит старик-конвоир и рукавицей глаза вытирает…
Подскакал на лошади начальник конвоя, спрыгнул пружинисто – молодой еще, – подошел.
– Чего ты, старый? Нервы не выдержали? Бывает… – Вгляделся в убитого. – Знакомый. Вчера в надзорслужбу приходил, донос приволок. Толковый, однако, донос. Ладно, оформим как попытку к бегству. Всем по местам! – и вскочил на лошадь.
Просто, оказывается, убить человека, а Семен Гапич над этим столько лет думал…
Вот о чем поведал мне Семен Иванович в одну из ночей прошлой зимой. Как всегда, пришел после обхода, сел у печки и начал… Признаться, в какой-то момент мне стало не по себе: уж не сумасшедший ли? Понял, когда Гапич уволился из вохры, – болела душа, не смог больше… Не просто это – убить человека!
Нет, не пошлют Гапича арестовывать вольного. Только почему – к следователю? Трахнуть старика по голове легонько да рвануть куда глаза глядят? А если это все-таки не арест?
Нет, Семен Иванович, не подведу я тебя, не сбегу, а грех твой давний, что ты мне поведал, – вовсе и не грех – кара человеческая.
Чтобы не искушал меня беззащитный Гапичев затылок, я стал смотреть по сторонам. Ночью лагерный поселок кажется большим городом. На зоне через каждые десять метров горит фонарь, внутри зоны, возле каждого барака и вдоль дорожек, – также. Предзонник снаружи освещен прожекторами – по два с каждой стороны забора. Кроме того, в каждом поселке имеется какое-нибудь предприятие, завод, мастерские, на базе которых и возник этот поселок. Они работают круглосуточно, и освещение там под стать зонному, поскольку обслуживается все теми же заключенными. Сам поселок всю ночь освещен. В домах живут охранники и специалисты, у тех и других рабочий день не нормирован. Кроме освещенных окон, возле каждого дома горит фонарь. Это уже требование безопасности: беглецы – народ решительный, но боятся света. Если к поселку подходит железная дорога, то количество огней удваивается.
Следом за Гапичем я вошел в вестибюль хорошо знакомого здания. За столиком дежурного сидел солдат и спал, положив голову на регистрационный журнал.
– Дывысь, хлопец, уворуют урки, и ридна маты не найде, – предупредил Гапич. Солдат вскочил, ошалело таращил на нас глаза.
– К полковнику Бурылину на допрос, – пояснил Семен Иванович.
– Сейчас доложу, – сказал солдат и поднял трубку.
Следователь оказался высоким, очень худым, начинающим седеть человеком приблизительно сорока лет. На бледном лице – потухший взгляд серых, ничего не выражающих глаз. Все, кто долго общался с зэками, умеют прятать взгляд: ничего не прочтешь, даже если – глаза в глаза…
– Можете идти, – это Гапичу. – А ты садись, – это мне.
Сажусь напротив канцелярского столика, на котором, если не считать телефона и стопки бумаги, ничего нет. А что, собственно, должно быть? Пресс-папье, которым меня ударил следователь шесть лет назад, или толстый том основоположника марксизма, которым, как выяснилось, тоже можно ударить? Ах, не все ли равно! Почему я сейчас не сосредоточиваюсь на вопросах, которые мне будут задавать? Мне очень нужно сосредоточиться! Значит, так: с Басовым знаком недавно, изредка бывал у него с целью… с целью… Допустим, выпивали. Нет, лучше слушал его пение. А вот никаких радиопередач не слыхал! Кроме, конечно, динамика. Что еще спросит? Наверное, о чем беседовали. Да ни о чем! Ну, если будет настаивать, то – о бабах. Мужики всегда говорят о бабах и водке.
– Где тебя арестовали? – спросил следователь.
– В Минске. Я служил в артиллерийском полку. У нас тогда в одну ночь около двухсот человек арестовали. Всю ночь возили в «студебеккерах».
Заговорил! Разболтался! Надо сдержанней, только о чем спрашивает. А полковник, похоже, не слушает, ходит по кабинету, открывает один за другим ящики стола, что-то ищет. А меня так и подмывает!
– Тюрьму набили битком, ни сесть, ни лечь. Спали стоя…
– А где велось следствие?
Оказывается, слушает.
– Да в Минске же, в центральной тюрьме. Это первое следствие… – Что же он все-таки ищет?
– А что, было второе?
– У меня было три.
– Почему так много?
– Нужно иметь богатую фантазию, чтобы сочинить обвинение человеку, который не совершал никакого преступления.
– У тебя были талантливые «писатели»?
– Гениальные. Они сочинили три тома. По одному на каждое следствие. Правда, два последующих просто переписывали с первого.
– Ну, вот, а ты говоришь, гениальные. Это же просто бездари.
Опять что-то ищет. А может, тянет время? Ему нужно, чтобы я потерял бдительность, чтобы расслабиться, и тогда он задаст ТЕ вопросы…
– Что такого страшного я сделал? Сказал, что «студебеккер» – хорошая машина.
– Ну да, это, и в самом деле, машина что надо. Ты-то тут при чем?
– Так там еще «полуторка» была…
– Какая «полуторка»?
– Которая хуже «студебеккера».
– А… – он засмеялся и стал совсем иным человеком с добродушным интеллигентным лицом. И вдруг я понял, что он ищет: курево!
– Гражданин полковник, вы, случайно, не курево ищете? У меня целая пачка «Беломора»…
– Чего же ты молчишь? – вскричал полковник. – Давай сюда!
Прикуривал торопливо, спички ломались в пальцах, затягивался с жадностью, дым выпуская долго, прикрыв от удовольствия глаза. Злой курильщик!
– Тебя как звать-то? Сергеем? Надо же! – очень удивился. – У меня сын Сергей. Такой же, наверное, шалопай и по возрасту подходит… Ну ладно, черт с ними, с «полуторками». Ты фамилию «Филипович» в своих одиссеях не встречал?
На какой-то момент я лишился дара речи. С Иваном Филиповичем судьба свела меня в минской тюрьме зимой сорок девятого. У обоих на руках имелись приговоры: у меня в «десятку», у него в «четвертак». Его судили как власовца. Ни на какое снисхождение Иван не рассчитывал.
«Все равно весь срок сидеть не буду, сбегу».
Я смотрел на его сильное, тренированное тело и думал: а чем я хуже этого власовца? Тем более что не совершал никакого преступления. Разговорились.
«Беги, не бойся, – сказал Иван, – чем в лагере погибать, лучше погулять вволю, а там что будет».
На всякий случай, он дал мне адрес родственников. Его я заучил наизусть, но бежал, не рассчитывая на него: если там живут родственники осужденного, то бежать к ним – самоубийство.
Неужели речь сейчас пойдет о моих побегах? Стало быть, мое освобождение – по боку?
– Так встречал или нет? – полковник наблюдал.
Если сказать «нет», сразу уличит во лжи.
– Так точно, гражданин начальник, встречал.
– Хорошо его помнишь?
Я рассказал все, что знал о Филиповиче. Полковник слушал внимательно, хотя и несколько удивленно.
– Ладно, на первый вопрос ты ответил честно. Вопрос второй: о чем вы с ним беседовали в камере? Ведь не сидели же молча?
Вот оно! Филипович сбежал! Сейчас будет спрашивать насчет его родственников, знакомых – так начинается каждое следствие о побеге. Ну, от меня-то вы ничего не узнаете. Иван попал в плен раненым – я видел сквозное ранение в спину – и к Власову пошел, чтобы перебежать к своим – другого выхода не было, это знают все. А у Власова служил при штабе генерала Малышкина, значит, сам ни в кого не стрелял…
– Не будем играть в кошки-мышки, – сказал следователь и протянул мне бумагу, которую уже давно держал в руках. – Это протокол допроса твоего знакомого.
Я взглянул на подпись. «И. Б. Филипович». У меня мгновенно вспотела спина. Значит, он не в бегах? Тогда при чем тут я? Поднимаю глаза и читаю вверху: «В Главную Военную Прокуратуру вооруженных сил Советского Союза». Донос? Но на кого?
«… И тогда, – писал Филипович, – доверившись мне, Слонов рассказал, что состоит в террористической организации, целью которой является свержение советской власти…».
Я с изумлением поднял глаза на следователя.
– Читай, там еще интересней, – пообещал он.
«Свергать власть организация собирается путем серии террористических актов, для чего привлекает в свои ряды несознательных граждан и тайных врагов советской власти».
– Бред какой-то! Он что, сумасшедший?
– Закури, – сказал следователь, – помогает…
Его глаза смеялись. И тогда я стал читать спокойнее.
«Во всех союзных республиках у организации имеются центры. Желая принести пользу Родине, я уже тогда старался запомнить фамилии руководителей. В Белоруссии центр возглавляет человек по фамилии Карпович, в Литве – Иванаускас, в Латвии – Довидайтис, на Украине – Горобец, в Грузии – Габриелян, в Армении – Петросян, в Киргизии… – Я перевернул страницу. – Связь осуществлялась „змейкой“: каждый рядовой террорист знал только командира отделения и одного товарища. Этим объясняется… – Я опять перевернул страницу. – Центр организации находится в Минске. Слонов подробно описал мне этот дом, и если бы я вдруг оказался в Минске, то мог бы…». Стоп! Ему очень хочется попасть в Минск!..
– Он же в Минск хочет! – сказал я вслух. – Он же, наверное, в каторжных лагерях. Ему вырваться хочется!
Полковник, не спуская с меня глаз, забрал бумагу, положил на стол.
– Появись такая бумага раньше… – начал я.
Он перебил:
– Но ведь она не появилась!
– Действительно… Выходит, Иван меня пожалел?
– Не знаю, не знаю, – полковник сел за стол, придвинул папку с бумагами, – не знаю, почему он не донес раньше.
– Донес?
– А как это называется на вашем жаргоне? Любовное послание?
– Действительно… – меня начал бить озноб. – А сейчас… меня повезут в Минск?
– Сейчас не те времена, – сказал следователь, – хотя и не полностью, но изменились, поэтому тебе отвечать на мои вопросы. Итак, что ты скажешь по поводу показаний Филиповича?
– А что тут говорить? Вранье все. Ничего такого я ему не рассказывал. У него, наверное, изменились условия содержания. Шесть лет молчал, потому что было терпимо, а теперь стало хуже, вот и хочет вырваться хотя бы на месяц.
– А ты философ! И много у вас на ОЛПе философов?
– Там все философы… – говорить мне больше не хотелось, все было ясно, но меня смущала его улыбка. Вот он встал, подошел ко мне и с минуту смотрел прямо в мои зрачки, а потом нанес неожиданный удар:
– А ведь все это ты действительно говорил, Слонов! Так-то… Не надо принимать нас за дураков. И раньше болтали сами, и доносы друг на друга строчили, и соседа своего, фактически, сажали, мы только оформляли документы. Я после войны в Германии служил, в Чехии был, в Польше. Нигде такого нет, ни в одной стране!
– Гражданин следователь, вы что же, верите всему, что писал Филипович?
– Не о том речь. Врал ты, а не Филипович, вот в чем дело. Филиповичу век бы до такого не додуматься. Парень из белорусской деревеньки, до войны окончил восьмилетку, по комсомольской путевке был послан в военное училище, а тут война… Дальше плен, власовская армия. И то, что пошел туда, чтобы затем перебежать к своим, тоже похоже на правду, вот только не был он у Малышкина в штабе – рылом не вышел. У Малышкина был наш человек… И то, что его донос опоздал, он тоже не допер, так что давай признавайся, Слонов, чего уж…
Холодный пот выступил у меня на лбу. Что же теперь будет? И вдруг понял: ничего не будет! Следователь не станет раздувать мыльный пузырь – себе дороже, начальство подумает, дурак Бурылин, пора на пенсию. В крайнем случае, меня отругают… Тут я снова вспомнил о «голосах» из-за бугра. Что, если история с письмом Филиповича всего лишь для отвода глаз и через минуту следователь спросит: «Расскажи, о чем вам поведала радиостанция „Свобода“»? Это уже не бред, это преступление, и свидетелей хватает…








