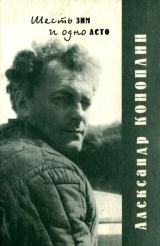
Текст книги "Шесть зим и одно лето"
Автор книги: Александр Коноплин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Но не только предельная сжатость текста приводила меня в восторг. Пушкин как-то умел одной короткой фразой показать всего человека, его характер, склонность к чему-либо, положение в обществе.
«…Папенька нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла». Тремя неполными строчками показан быт Белогорской крепости: «Все, слава богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды». Ах, если б мне когда-нибудь научиться так писать! По мере возмужания я делал все новые открытия. В школе в понимании литературы я давно перерос сверстников и писал сочинения как бы шутя, иногда стихами, за что неизменно получал «неуд» – сочинение полагалось излагать на четырех страницах, а стихи на ту же тему занимали всего полстранички…
Сам не понимая зачем, я многое тогда заучивал наизусть. Теперь, в одиночной камере, мне это здорово пригодилось. Расхаживая в узком пространстве от двери до противоположной стены, вспоминал целые абзацы и читал вслух монологи и диалоги, с удивлением сознавая, что от моих невольных добавлений – кое-что я все-таки забывал – они не всегда становятся хуже… Постепенно я начал отходить от чужих текстов и сочинять свои. Вначале они не выходили за рамки воспоминаний детства, потом стали перебиваться сюжетами прошедшей войны. Скоро я уже уверенно ходил по камере и громко беседовал то со своим другом лейтенантом, то с медсестрой Катей, то с пленным фельдфебелем. Кончилось все это тем, что меня поволокли к тюремному фельдшеру, чтобы освидетельствовать на предмет тихого помешательства. Постукав молоточком по моему колену, фельдшер уверенно заявил:
– Симулянт. Лучшее лекарство – мокрый карцер.
Господи, как же они все любят этот мокрый карцер! Самих бы туда на недельку…
Кроме литературы меня спасали от настоящего сумасшествия очные ставки. И хотя перепуганные сослуживцы наперебой «уличали» меня, послушно повторяя за следователем придуманную им чепуху, я с удовольствием смотрел на их загорелые лица и ощущал себя солдатом…
Огорчали меня лишь подельники. Уж слишком трагично переносили они всю эту нелепую историю, в которую я их втянул. Следователь сумел убедить Полосина и Шевченко, что они оказались жертвами очень коварного врага – бывшего друга – и что я завербован иностранной разведкой.
Убедить в этом Денисова следователю не удалось.
– Хрен с ним, Серега, – сказал он на очной ставке, – пускай пишут что хотят, лишь бы ребра не переломали. А Сибири не бойся, там тоже люди живут.
Иначе вел себя Шевченко. Старый друг взвалил на меня едва ли не самое серьезное обвинение – не считая, конечно, союза СДПШ. На одном из допросов он показал, что однажды, после концерта художественной самодеятельности, где я выступал клоуном, я спел песенку: «Расскажи, расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты» – и при этом указал на портрет товарища Сталина, который висел позади меня на стене. Наблюдавший за следствием подполковник Синяк сказал, что, даже если отпадет обвинение в организации контрреволюционного союза, этого факта хватит, чтобы осудить меня на десять лет ИТЛ.
Все так и произошло.
Попутно с сочинительством я занимался самоанализом. Одиночная камера с решеткой на окне, через которое видно только небо, серые бетонные стены без надписей, отсутствие собеседников, наконец, полная неизвестность – всё, как нельзя лучше, способствует углублению в самоё себя. На свободе такие условия немыслимы.
Особой разницы между тюрьмой и казармой я не заметил, разве что в праздники не водили строем смотреть в сотый раз «Ленина в Октябре» и «Великое зарево» – картины, которые у нас в полку постоянно крутили последние три года, – да не было праздничных ста граммов водки.
Немаловажным было для меня и полное отсутствие страха: я знал, что невиновен, стало быть, подержат и отпустят, а если все-таки осудят, то чем можно напугать солдата, год и четыре месяца бывшего на передовой? Кроме того, здесь я был предоставлен самому себе – нет больше начальства, не вытягивает душу замполит, добиваясь ответа на вопрос согласно теме: почему мы победили в Отечественной войне, и даже мой следователь – после полугода усилий сотворить из меня американского шпиона – поутих и стал дергать на допросы с большими перерывами – что-то не срабатывало в налаженной схеме.
Мой «уход в себя» начинался сразу после приема пищи – назвать завтраком то, что подавалось через «кормушку», как-то не поворачивался язык – и продолжался иногда до глубокой ночи. До того часа или, скорее, минуты, когда откроется наконец железная дверь и надзиратель скажет, указывая на прислоненный к стене топчан: «Забирай!» – и я втащу сколоченные вместе три неструганых доски на ножках к себе в одиночку, поставлю их строго напротив «глазка» и шлепнусь на них, тут же провалившись в блаженное беспамятство без сновидений, и мое тело, измученное восемнадцатичасовым хождением по камере, будет отдыхать…
В процессе засыпания нельзя терять ни минуты – ровно в пять утра – всего через шесть часов – тот же надзиратель крикнет совсем другим голосом: «Подъем!» От его крика я проснусь и, путаясь в полах шинели, ставшей очень широкой без хлястика, поволоку топчан в коридор. Лишь в половине двенадцатого ночи – да и то если следователь не вызовет на допрос – снова обниму его обеими руками и прижмусь к его черной от грязи поверхности.
За восемнадцать часов бдения можно перелопатить и не такую жизнь, как моя. Так ли я жил, как надо? Не делал ли подлостей другим, не грабил ли, не убивал? Насчет грабежа был уверен: не грабил. Чужое в нашей семье считалось неприкосновенным. Иное дело – убийство. Хотя что, собственно, можно считать убийством? Если бандит всаживает нож в спину прохожего, это, конечно, убийство. А как быть с нами, солдатами? Ежу понятно, что, если у солдата в руках винтовка и от него требуют выполнения служебного долга, он обязан выстрелить во врага, иначе либо он тебя убьет, либо ты пойдешь под трибунал. Правда, у меня была не винтовка, а восьмидесятимиллиметровое зенитное орудие с броневым щитом, предназначенное также для стрельбы прямой наводкой по наземным целям. Но ведь в самолетах, которые мы иногда сбивали, тоже были люди, и в танках, по которым в марте сорок четвертого года нам пришлось стрелять, тоже находились живые люди, и стрельба картечью по пехоте несколько ранее – тоже наверное не обошлась без крови! Да, из винтовки по немцам я не стрелял, потому что был артиллеристом, но зато в апреле – мае сорок пятого, уже на территории Германии, вовсю стрелял из трофейного оружия – карабинов, автоматов, пистолетов – не по немцам, а по случайным мишеням: фарфоровым вазам, забытым на окнах бежавшими в спешке хозяевами, электроизоляторам на высоковольтных столбах, чтобы посмотреть на красочный фейерверк, по лепным изображениям на стенах костелов. Убивал ли я кого-нибудь в этой сумасшедшей стрельбе? Вряд ли. По крайней мере, специально ни в кого не целился.
Кстати, стрелял не один я. Любителей пострелять ловили старшие по званию, строго материли и, отобрав парабеллум или вальтер, сами принимались палить…
Так у меня обстояли дела с заповедью «не убий». Чист был я и по поводу «не сотвори прелюбы», ибо до ухода в армию не целовал никого, кроме матери. Заповедь «не пожелай ни жены ближнего своего, ни раба его, ни вола его» также меня не касалась – чего-чего, а уж подлой зависти во мне не было! Столь же уверенно разделался я и с остальными семью заповедями и споткнулся только на доброте. Припомнился мне странный нищий – было это задолго до войны, году в тридцать шестом или тридцать седьмом. Я играл с приятелями возле дома, когда в конце улицы показался человек в рубище с холщовой сумкой на боку. Нищие в наших краях – не диво, но этот был какой-то особенный. Во-первых, у него не было палки; во-вторых, шел он не сгибая спины, и шаг его был широк и ровен, а взгляд смел и прям. Голос же прозвучал не просяще, а, скорее, требовательно:
– Принесите мне хлеба, ребята, я давно ничего не ел.
Мой дом был рядом, я поднялся и пошел, но вдруг передумал. Такой здоровый, статный, сравнительно молодой мужик просит подаяния…
– Вам, дяденька, работать надо, а вы побираетесь. Не стыдно?
Он опустил глаза.
– Стыдно, брат, – и пошел прочь.
– Гордый больно, – сказала ему вслед девочка Маня, – нищий, а обижается! Ну, иди, иди…
Вечером я рассказал обо всем дома. Отец, обычно не вступавший в мои с мамой разговоры, вдруг встрепенулся.
– Стройный, говоришь? Высокий? Шел по-военному? Обиделся? Тогда почему ты не пригласил его в дом?
– Николай! – возмутилась мать. – Ты же знаешь… Это опасно.
– Знаю, – сказал отец, – но еще опаснее жить без сострадания к ближнему. Этому человеку мы были обязаны помочь.
– Все друг за другом шпионят, – продолжала мать, – позавчера Жогова арестовали – показали соседи, будто он кого-то у себя прятал…
Отец стоял у окна, барабанил по стеклу пальцами. Сказал уже тише:
– Но он же наверняка не беглец! Его отпустили! Иначе не шел бы так… И потом, вполне возможно, он из нашего полка… Ты хоть спросил, где он живет? Ну и оболтус!
– А что, собственно, произошло? – вступилась мать. – Ну, ребенок не понял, – мы сами от него все скрываем, – возмутился… Мы что, должны у каждого нищего спрашивать, где он живет?
И тогда отец сказал:
– У моего сына хватило ума, чтобы отличить обыкновенного нищего от арестанта, но у него не хватило жалости к человеку, а в наше время это особенно необходимо. Что, если придет лихое время и для него – и какая-нибудь дурочка Маня крикнет ему вслед: «Ну, иди, иди», а какой-нибудь сопляк положит камень в протянутую руку?
Никогда не славившийся особой прозорливостью, отец на этот раз оказался пророком: пришло лихое время для его сына.
Познакомивший меня с десятью заповедями бывший поп отец Михаил, а в предвоенные годы городской банщик Михаил Иванович Чириков, сказал, что, говоря о доброте, Христос имел в виду не мать и отца – о них в Евангелии сказано особо – а всякого прохожего. Оказывается, истинный христианин обязан отдать нуждающемуся последнюю рубашку и не жалеть об этом.
Поскольку на мне сейчас было одежды не больше, чем на том нищем, я понял, что стою посреди камеры почти по-библейски наг и бос и чист пред людьми и пред Богом. А посему теперь самое время заполнить образовавшийся вакуум…
Мои литературные занятия находились в самом разгаре, когда капитан Кишкин объявил, что сидению в одиночке раба божьего Сергея пришел конец. Произошло это на двенадцатом месяце – до года оставались сущие пустяки. То, что следствие близилось к завершению, я понял раньше: меня почти перестали вызывать на допросы, а если и вызывали, то больше не били. Значит, скоро конец. Каким он будет, меня не волновало. Скорей всего, не расстреляют, а срок не имеет значения: я знал, что все равно рано или поздно убегу из лагеря.
Услыхав, что буду переведен в общую камеру, не удержался и с радостью воскликнул:
– К людям? Вот здорово!
– Дурак, – сказал следователь, – чему радуешься? Уж лучше твоя одиночка, чем эти люди.
Тогда я еще не знал, что на тюремном жаргоне «людьми» называют себя урки, все остальные именуются «фраерами», «чертями». Мои тюремные университеты только начинались.
Глава третья. НАСТЯ ЛЮБИТ ТИШИНУ
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
Послание к коринфянам св. апостола Павла, гл. 1, ст. 20.
Камера 27 считалась четырехместной, если к тюрьме вообще применима санаторно-курортная терминология, и располагалась в конце корпуса. Чтобы добраться до нее, нам с конвоиром пришлось пройти весь первый этаж, повернуть налево, затем направо, и тогда в полутьме короткого аппендикса обозначилась цифра «27» над обитой железом дверью. Подошел коридорный надзиратель, что-то тихо спросил, взял из рук моего конвоира недокуренную папиросу, докурил ее и неожиданно повернулся ко мне.
– Раздевайсь!
– Что? – не понял я. – Меня уже обыскивали. И потом, я не с воли…
– Раздевайсь! – рявкнул надзиратель и поднял голову. Глаза у него были светло-серые и оттого казались стальными. – Чо, не понимаешь?
– Понимаю, – я начал раздеваться.
В тюрьме цементный пол даже летом кажется ледяным. Дожидаясь, пока надзиратель прощупает каждую складку одежды, я старался встать босыми ногами на голенища сапог. Надзиратель заметил, поднял один, осмотрел, потом достал нож и стал разрезать голенище вдоль.
– Что вы делаете? – закричал я. – Как же мне теперь ходить?
– Ножками, – ответил он. Разрезав один, принялся за другой. Потом бросил сапоги и приказал повернуться спиной, расставить ноги и наклониться вперед. Потом повернул лицом и приказал раскрыть рот, высунуть язык и растопырить пальцы рук.
– Ладно, одевайсь, – и загремел ключами.
В первую секунду мне показалось, что в камере вообще нет света. Прошло несколько секунд, прежде чем обозначился вмурованный в стену железный стол, край деревянных нар и белеющее лицо человека.
– Здравствуйте, – произнес я.
– Добро пожаловать! – неожиданно звонко ответили мне, и с нар поднялся человек среднего роста, худой, с большой лысой головой и светлыми, как у младенца, глазами. Одет он был в какое-то рубище, не то тюремный клифт[9]9
Лагерная спецодежда.
[Закрыть], не то пиджак не по росту, и короткие, до щиколоток, тряпичные брюки. На вид ему было лет шестьдесят. – Разрешите представиться: профессор Варшавского университета Георгий Александрович Панченко, действительный член Парижской академии наук и почетный член еще двух. По происхождению, простите великодушно, не пролетарий, да-с…
Озадаченный таким представлением, я медлил с ответом, а он ждал, наклонясь вперед и слегка раскачиваясь.
– Слонов. Сергей Слонов. Военнослужащий.
Он скользнул взглядом по моей солдатской шинели, фуражке со сломанным пополам козырьком.
– Рядовой или унтер-офицер?
– Сержант.
Он произнес что-то вроде «ну да, понятно» и пошел к себе на нары, перестав мной интересоваться. Я же, наоборот, обрадовался интеллигентному человеку – в армии они встречались крайне редко.
Профессор оказался достаточно снисходительным. Дав мне время устроиться на нарах, спросил:
– Давно с воли?
– Одиннадцать месяцев и восемнадцать дней.
– Где же вы находились? В двадцать восьмой? Но там сейчас дамы! Может, в тридцать второй угловой? Или в сороковой? Но в ней, кажется, никого нет.
– Я сидел в одиночке, в подвале. Холодно там. Даже летом…
Он подвинулся ближе.
– Послушайте, юноша, за что же вас? Ведь вам, наверное, нет и двадцати.
– Какая разница? Главное, сам не знаю за что.
Он погладил свою коленку.
– Здесь все друг другу не доверяют. Наверное, это правильно.
– Я действительно не знаю! Честное слово!
– Оставим это, – он подошел к стене, на которой были начертаны едва заметные линии. Пятно света, разделенное тенью решетки на четыре квадрата, находилось сейчас где-то в конце этих линий. – Уже половина шестого, через пять минут будем ужинать. Вы любите семгу в маринаде? А устриц? Прекрасно, я тоже. – Он вынул из кармана тряпочку и заткнул ее за воротник лагерного клифта. Я приободрился. Не люблю нытиков!
Ровно через пять минут – так мне показалось – открылась «кормушка», и грязная рука зэка подала нам две миски с кашей – серой липкой массой, затем две кружки с остывшим кипятком. После этого «кормушка» захлопнулась.
Я пробовал поддеть кашу сначала пальцем, потом расческой – при обыске у меня отобрали алюминиевую ложку. Профессор заметил, порылся в мешке и вытащил деревянную, с обгрызенным краем.
– Железные в общих камерах не разрешают. Боятся: будем мастерить из них «колюще-режущее». Вот, на ваше счастье…
– Спасибо, – сказал я.
– Пользуйтесь на здоровье. Для зэка две ложки – роскошь.
Ел он странно: брал из миски мизерными порциями, отправлял в рот и жевал или, скорее, сосал. Так едят беззубые, но не кашу же!
– Вам ее надолго хватит, – не без зависти заметил я.
– Ровно на десять минут, – отозвался он, – через десять минут придут за мисками. Да вот и они!
Стукнуло окно «кормушки», и та же рука приняла от нас посуду. Я с удивлением взглянул на профессора. И увидел, что он бережно переносит комочек каши со стола на краешек нар.
– Хочу предупредить, юноша: я не один в камере. Вернее, мы с вами не одни. Это для того, чтобы потом не было недоразумений. Учтите, я ее очень люблю и не позволю обижать. – Последнюю фразу он произнес угрожающе. – С нами моя маленькая Настя.
Только сумасшедшего мне не хватало! Я отодвинулся подальше в угол. А если он буйный? Мишка Денисов говорил, что у сумасшедших сила удваивается. У него несчастье случилось с отчимом, и Мишка – тогда еще шестнадцатилетний подросток – спасал от него мать и сестру. Хотя – я еще раз внимательно присмотрелся к Панченко – вряд ли он способен драться, слишком тощи руки, и ноги болтаются в штанинах, как палки.
– Странно, – сказал Георгий Александрович, – обычно она приходит сразу после ужина, – он подозрительно покосился на меня, – послушайте, вы не могли бы посидеть не шевелясь?
– Пожалуйста, если вам так хочется, – ответил я и увидел мышь. Она была маленькой – наверное, мышонок, – но вела себя очень смело. Забравшись на нары, подошла к комочку каши, с минуту ела, смешно двигая носиком, придерживая еду лапками, затем оставила ее, вскарабкалась Панченко на живот и принялась умываться. Георгий Александрович заливался счастливым смехом.
– Правда, она прелесть? Вы можете разговаривать, только не слишком громко: Настя любит тишину. Когда она была совсем маленькой, то любила спать у меня вот здесь, – он показал пальцем на яремную впадину под кадыком, – видимо, биение пульса напоминало ей шевеление братьев и сестер в материнском гнезде.
Иногда мышь прерывала туалет и нюхала воздух.
– Это она вас чует. Месяц назад здесь были люди, но Настя тогда еще не родилась.
– Значит, вы уже месяц в одиночке?
– Одиночка мне нравится больше, чем камера, набитая людьми. Знаете, сколько здесь было в июне– июле? Тридцать два человека! Лежали на полу впритирку. Чтобы пройти к параше, приходилось наступать на лежачего. Помню одного юношу – кажется, филолог, – он лежал возле параши, и все идущие к ней на него наступали. Знаете, что он сказал мне в свою последнюю ночь? Он сказал: «Профессор, пожалуйста, вставайте на живот: плечи и грудь мне уже совсем отдавили». Утром он умер. Двадцать семь лет! Мальчик еще. А я вот жив… Блатные мне всегда уступали место на нарах. Я ведь «тискал романы» – эти недочеловеки очень любили мои романы.
– Сколько же вы сидите в тюрьме?
– С сорок пятого года. Меня арестовали сразу, как только ваши войска вошли в Варшаву.
– А как вы туда попали? Вы же гражданский человек.
– Я там родился. До вашей революции Польша была просто Варшавской губернией России. Мой отец, генерал-аншеф Панченко, состоял в должности помощника генерал-губернатора Варшавы. Он скончался задолго до семнадцатого года. Я закончил университет и получил диплом юриста, но пожелал продолжить образование и уехал в Париж, где поступил на факультет естественных наук. Культура, молодой человек, не дается легко. После окончания был в Мексике, Бразилии, Аргентине – этого требовала моя работа – еще кое-где, но почему-то всегда меня тянуло в Польшу.
– А в Россию вас не тянуло?
– Россия мне близка по происхождению: отец – выходец из Новгородской губернии, мать – полька. Разумеется, я бы приехал, еще до войны, но, простите великодушно, у вас же произошла революция! Как можно ученому работать при большевиках?
– Тимирязев, Павлов как-то работали.
– Меня это всегда удивляло: интеллигентные люди и – большевизм… Говорят, им создавали условия. По понятиям большевиков, прекрасные, но за это они должны были отчитываться перед ними за каждый рубль, за каждого кролика. От них постоянно требовали немедленной отдачи!
– И правильно. На них шли народные деньги.
– Но ведь это же ученые с мировым именем! Кто из ваших правителей может оценить их труд? Недоучившиеся семинаристы? Каторга – вот их университеты. Мышление примитивное, отсюда взгляд на ученого как на поденщика, и – насилие. Постоянное насилие! Кстати, это главный принцип вашей системы. Недоучки, уголовники, захватив власть, возомнили, что они одни знают, что человеку нужно. И, похоже, убедили. Вот вы лично к чему стремитесь? Какова цель жизни вашего поколения?
– Ну, коммунизм, я думаю. Хотя вряд ли мы доживем до него – очень уж много надо.
– Да нет, не много. Совсем мало. Если точнее, вы одной ногой уже в коммунизме.
Я засмеялся.
– Вы бредите, профессор. Какой коммунизм?
– Самый настоящий. Вы помните его основной принцип? «От каждого – по его способности, каждому – по его потребности». Принцип этот был бы прекрасен, если бы… не коварство марксистов.
– Коварство?
– Именно. У этой фразы есть продолжение. Так сказать, для избранных. Дело в том, что ваши способности и потребности при коммунизме будете определять не вы.
– Как это? А кто же?
– Думаю, специально для этого поставленные люди. Что-то вроде армейского фельдшера. Представьте себе: ваша власть послала вас копать канал в мерзлоте. Вы почувствовали, что не созданы для такого труда и через какое-то время идете к тому человеку. «Я НЕ СПОСОБЕН выполнять этот труд, мне лучше играть на скрипке, у меня слабое здоровье». Тот самый фельдшер, – я думаю, специалиста более высокого ранга на это не поставят, – осмотрит вас, пощупает мускулы и скажет: «Вы абсолютно здоровы и СПОСОБНЫ работать там, куда вас послали». Спорить, естественно, не разрешено. Далее: вы молоды, здоровы, хотите есть, вам мало выделенной пайки. Другой лекарь – а может, тот самый – осмотрит вас, оттянет кожу на заднице, как это делает наша милая тюремная докторша, и скажет: «У вас средняя, по нашим коммунистическим нормам, упитанность, и больше назначенной вам пайки в четыреста граммов вы не получите». Ну что, какова картина коммунистического будущего? Во всяком случае, вполне реальная.
Я был озадачен, но не побежден.
– Наверное, будут какие-то посредники. Судьи, к которым можно обратиться. Неужели, как в тюрьме, – полный произвол?
– Называйте это как хотите, но судей назначило все то же Единственное Правительство, другого в стране полного коммунизма нет, и ваши судьи очень боятся ему не угодить и делают все, чтобы их не послали следом за вами. Кстати, медики, определявшие ваши способности, тоже зависят от того самого начальства, так что круг замыкается.
После нескольких подобных лекций мои политические устои начали шататься. Меня ни в чем особенно не убеждали, не вызывали на спор, мне просто преподавали ликбез!
И еще я понял: он изучает нас здесь, в тюрьме, как когда-то изучал крыс. Вскоре он сам подтвердил мою догадку.
– Знаете, Сережа, я ведь нисколько не жалею, что попал в этот вертеп. Чтобы изучить что-то, например народ, мало побывать в стране в качестве туриста. С нацией еще труднее. Мы многое знали о ваших делах – читали свою и зарубежную прессу, но не знали русской нации, хотя воображали, что знаем.
– Теперь узнали?
– Думаю, да.
– И что же мы из себя представляем?
– Вы самая загадочная нация на земле…
– Ура!
– Не спешите ликовать. Самая загадочная, за исключением, может быть, людоедов Центральной Африки, да и то потому, что до них трудно добраться. Вы загадочны своей психологией. Чтобы узнать вас, надо долгое время пить, есть вместе с вами, работать, ездить в метро, смотреть кинофильмы, читать книги, которые читаете вы, и – никакого общения с внешним миром. Полная изоляция!
– Это займет много лет.
Он кивнул.
– Есть более быстрый путь познавания – сесть в вашу тюрьму. Запертые на замок мысли людей выходят наружу. Их можно слышать! Вместе с тем именно здесь познаешь до конца весь ужас вашего положения. Кремлевские вожди заперли на замок не только мысли, но и ваши души. Они контролируют всё! Это заложено еще Марксом, так что вы тут ничего нового не придумали, но вот что поразительно: вы все с этим согласны! Через эту камеру прошло много людей. Примерно для трети из них жизнь заканчивалась. И они это знали, но продолжали держаться марксистских позиций. Они боготворили Ленина!
– Тогда, наверное, и Сталина?
– Сталина – не все. Многие считали его виновником своего несчастия, но Ленин… Не припомню случая, чтобы кто-нибудь сказал о нем то, чего он на самом деле заслуживает. Какой-то массовый психоз! А ведь между тем несчастие вашей страны идет от него. Это был величайший политический экспериментатор и интриган. Его сговор с кайзером…
– С кем?!
– С кайзером Германии. Сговор был гениален. Представляете, через всю страну, находящуюся в состоянии войны с Россией, следует запломбированный пассажирский вагон, в котором едут будущие могильщики несчастной России. Кайзер их охраняет и финансирует! Русские марксисты через Скандинавию намерены пробраться в тыл русской армии, разложить ее, а заодно все российское общество. Лишить страну способности противостоять Германии. Для чего? Чтобы потом, среди хаоса и разрухи, осуществить свои честолюбивые замыслы – захватить власть, но это уже кайзера не касалось. Все просто, как видите, а потому гениально. Российская охранка, как всегда, проморгала – и вот уже Ленин в России. Точнее, совсем рядом – находиться в центре событий он всегда избегал. В центре событий действовал его мозг – в самом деле незаурядный, его воля и его верные помощники – в основном фанатики. Эти взяли себе в друзья все отребье российского общества, для чего открыли тюрьмы. Вообще, задачи большевиков поразительно совпадают с интересами профессиональных бандитов. Может быть, именно в этом и кроется секрет потрясающего успеха Октябрьского переворота да и всего дальнейшего. «Грабь награбленное» – вот главное в тактике Ленина, все остальные лозунги – для прикрытия. Громилы были нужны ему не только на первом этапе революции, но и на всех последующих. Либералы ведь не умеют убивать, а интеллигенция просто мешает творить беззаконие. Да, без преступного элемента Ульянову власть бы не взять! Кстати, известный в прошлом одесский бандит и налетчик Лева Задов, бывший у батьки Махно начальником контрразведки, после разгрома махновщины служил верой и правдой в ЧК. И не он один. Так советская власть подбирала кадры. Они не созидали, а разрушали. Где храм Христа Спасителя? Где еще сорок сороков московских храмов? Где сокровища Эрмитажа? Сразу после переворота еще что-то оставалось – персонал музея отбивался как мог от пьяной матросни и сохранил ценности, а потом их начали разворовывать люди, стоявшие у власти. Тридцать лет сплошного грабежа! Сначала грабили помещиков и капиталистов, потом кулаков, потом середняков, а теперь по тюремным ступеням идут потомственные пролетарии. Тех, кто помог Ленину и его шайке прийти к власти, уничтожили раньше, за ними ушли в небытие комиссары гражданской войны, разные Дыбенки, Федько, Якиры, Уборевичи, сотни тысяч более мелких борцов за новую Россию. Не знаете почему? Ничего, узнаете, вы ведь только начинаете свои университеты. Поступили, как говорится, на первый курс. Что ж, счастливого пути в эту науку!
Иногда Георгий Александрович становился агрессивным.
– Вы рабы! – кричал он. – Нация рабов в классическом понимании.
Я возражал, но Панченко не унимался.
– Вы непредсказуемы, ваши поступки необъяснимы для нормального человека! Вместо того чтобы, получив в руки оружие, уничтожить своих угнетателей, вы преподнесли им победу над фашизмом! А себе оставили жизнь прежнюю. Она вам больше нравится. Но это же и есть один из признаков раба! А вот и остальные: лень, лживость, пьянство, склонность к предательству, отсутствие чувства собственного достоинства. Все это у вас – полным набором. Раб живет одним днем, он знает, что хозяину нужны его руки, значит, что бы ни случилось, завтра он получит свой кусок хлеба и миску баланды. Если напьется, его накажут, но он рад, что напился. Только в обществе, где человеку не принадлежит ничего, может родиться такое чудовище. Вообще в истории России и еще раньше – Руси – имелось множество условий, способствующих развитию нации в этом направлении. Крепостное право было отменено лишь в девятнадцатом веке!
– Но мы – талантливый народ! – в отчаянии кричал я.
– Голубчик, да разве я возражаю? Но это не относится к государственному строю. До нас дошло множество гениальных творений, созданных рабами. Талант дается от рождения, а человек, как известно, рождается свободным. Россия после крестьянской реформы начала быстро наращивать потерянное, а кремлевская шпана еще поспешнее всякое развитие прихлопнула. Не нужны ей ни умные, ни талантливые. Поймите правильно: я вовсе не виню русских людей, но я обвиняю ваших правителей: формируя ваше мировоззрение, они совершают величайшее преступление века. Честно говоря, Сережа, я мечтал после войны увидеть Россию без большевиков. Не довелось…
Утомившись от «лекций», Панченко ложился и свистом подзывал Настю. Играя с ней, он засыпал, а я переваривал услышанное. Со многим приходилось соглашаться, но насчет того, что все русские – рабы, мне казалось преувеличением. Люди, окружавшие меня в детстве, были известны как раз иными качествами, и особенно дед по отцу Петр Димитриевич Слонов. Поступиться принципами его могла заставить только смерть. Новая власть была им недовольна – игнорирует постановления гор– и райисполкома, в больнице установил свой порядок, даже от инструктора райкома партии требует, чтобы тот надевал халат, как простой посетитель… Однако властям приходилось терпеть – врачи такого уровня в районных больницах встречаются нечасто.
У деда сохранилась давняя, еще со студенчества, дружба с академиком Бурденко. На протяжении ряда лет Николай Нилович настойчиво звал его к себе в клинику, но в начале 1938 года прислал очень короткое письмо, заканчивающееся такой строкой: «Петр, ты был прав. Живи счастливо в своем захолустье». Мои родители и бабушка решили, что Николай Нилович обиделся.
– Такого друга потерял! – сокрушалась Ольга Димитриевна. – Как будто это какой-нибудь Иван Феодосьевич…
Дед ничего не объяснял. Между тем начавшиеся два года назад аресты в Москве, Ленинграде и других городах приобретали повальный характер. Даже в нашем заштатном городишке арестовали двух учителей и секретаря райкома партии. Центральные газеты писали о том же. В списках приговоренных к расстрелу ленинградцев дед встретил несколько знакомых фамилий.
– Неужели он даже это предвидел? – с благоговейным страхом сказала моя мать. Свекор и раньше не раз поражал ее своей прозорливостью…
В 1941 году Слонов совершил поступок, едва не стоивший ему жизни. Однажды ночью на нашей станции остановился правительственный поезд. Энкавэдэшники сняли с него какого-то человека, с величайшей осторожностью погрузили в машину и привезли в районную больницу. Деда подняли с постели и велели одеться, а поскольку пришла за ним не сиделка, а двое военных, он решил, что его песенка спета. Поцеловав плачущую жену, вышел из дома, никого ни о чем не спрашивая – друзья давно предвещали ему кутузку за «несоветский характер». Но военные повели его не к машине, стоявшей за оградой, а к подъезду больницы. В вестибюле Петр Димитриевич увидел весь свой штат – сестер, сиделок, терапевта Ивана Феодосьевича, окулиста Ванеева, студента Борю, проходившего практику в качестве нарколога, и даже кучера Ефима. У всех был до крайности испуганный вид. К деду подошел пожилой военный.








