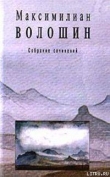Текст книги "Русские символисты: этюды и разыскания"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
В годы появления первых четырех книг Соловьева (1907–1913) в его жизни происходили значительные перемены. Революционные события середины 1900-х гг. не оставили его безучастным; радикальные настроения поэта-филолога нашли косвенное отражение в его печатных декларациях («Капитализм не менее ненавистен для поэта, чем для социалиста. Капитализм – химера нашего века. Это адское чудовище попирает все святое и прекрасное. <…> Но золотой меч красоты жалит черного гада и наносит ему неисцелимые раны»[1417]1417
Соловьев Сергей. Crurifragium. М., 1908. С. XIII.
[Закрыть]), а также в личных переживаниях: поддавшись на короткое время порыву «народнических» влечений, Соловьев вообразил себя влюбленным в крестьянскую девушку и даже намеревался на ней жениться; дальше намерений, обеспокоивших всю соловьевскую родню, все же дело не пошло (несколько лет спустя Андрей Белый отобразил эту ситуацию в сюжете романа «Серебряный голубь»[1418]1418
См.: Лавров А. В. Дарьяльский и Сергей Соловьев. О биографическом подтексте в «Серебряном голубе» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 93–110; Топоров В. Н. О «блоковском» слое в романе Андрея Белого «Серебряный голубь» // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 231–242, 309–316.
[Закрыть]). Гораздо более серьезный и мучительный характер имело другое сердечное увлечение Сергея Соловьева – неразделенная любовь к Софье Гиацинтовой, в будущем известной актрисе. Излагая в мемуарах свою версию их взаимоотношений[1419]1419
См.: Гиацинтова Софья. С памятью наедине. М., 1985. С. 443–463.
[Закрыть], Гиацинтова признается в том, что ее отпугивала фанатическая страсть Соловьева, обращенная, по ее убеждению, даже не на нее, а на выдуманный, сфантазированный им образ. Развязка оказалась драматичной: Соловьев впал в состояние нервно-психического расстройства, 31 октября 1911 г. покушался на самоубийство (пытался выброситься из окна), после чего был направлен в психиатрическую лечебницу, где находился несколько месяцев[1420]1420
См.: Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1. С. 323; Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 420–421, 423.
[Закрыть]. Излечение от недуга сопровождалось рождением нового чувства – к Татьяне Алексеевне Тургеневой, младшей сестре Аси Тургеневой (тогдашней спутницы жизни Андрея Белого). Осенью 1912 г. они обвенчались[1421]1421
Ср. сообщение в недатированном письме В. Ф. Ахрамовича к Э. К. Метнеру: «Сергей Соловьев женится 16 сентября в Дедове (на Татьяне Тургеневой). Звал туда всех „мусагетцев“» (РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 16).
[Закрыть] и отправились в свадебное путешествие по Италии.
Еще до пережитого внутреннего кризиса Соловьев признавался в одном из писем к Софье Гиацинтовой (6 апреля 1910 г.): «… благодаря тебе, я как будто начинаю просыпаться от многолетнего и дурного сна, сна моего огрубения, варварства, мистицизма и декадентства. Ты снова возвращаешь меня к той изящной и прекрасной жизни, которую я знал в детстве и для которой был рожден»[1422]1422
РГАЛИ. Ф. 2049. Оп. 1. Ед. хр. 296.
[Закрыть]. Находясь на излечении в санатории, он порицал себя за «умственный разврат» и «личный эстетизм»: «Явился культ наслаждения. <…> Играло роль и то, что все порочное во мне встречало признание и любовь, тут и Валерий Яковлевич руку приложил»[1423]1423
Письмо к Н. А. Поццо от 30 мая 1912 г. (цит. по: Вишневецкий Игорь. Живые и «блистательная тень»: трансформация образа Италии в поздней поэзии Сергея Соловьева // Русско-итальянский архив / Сост. Даниэла Рицци и Андрей Шишкин. Trento, 1997. С. 343, 345).
[Закрыть]. В ходе итальянского путешествия – описанного, со всеми впечатлениями и рефлексиями, в поэме «Италия» (М., 1914), одном из наиболее совершенных его поэтических созданий, – Соловьев в полной мере ощутил потребность возвращения к подлинным истокам своей личности. Встреча с Италией[1424]1424
См. фрагменты писем Соловьева, отправленных из Италии, в указанной статье И. Вишневецкого (Там же. С. 349–352).
[Закрыть] во многом внутренне исцелила его и провела резкую грань между пережитым, осмысленным теперь как пора «декадентского» «искуса», и вновь открывшимися праведными путями. Переоценка пережитого распространяется и на собственные стихи; о только что вышедшем «Цветнике царевны» Соловьев писал А. К. Виноградову из Сорренто (24 февраля 1913 г.): «„Цветник“ я получил на днях, и он меня сильно печалит. В нем есть несколько очень хороших вещей и много очень плохих»[1425]1425
РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1067.
[Закрыть]. Следующая, четвертая книга стихов Соловьева получила красноречивое заглавие «Возвращение в дом отчий». «Дом отчий» для поэта – это родовые истоки, память детства, подлинность и цельность детских переживаний; но прежде всего для него «дом отчий» – это лоно церкви.
С раннего детства, как засвидетельствует потом Сергей Соловьев в своих воспоминаниях, церковная служба рождала в нем самые сильные эмоции, перед которыми блекли все другие импульсы бытия; в период созерцания «мистической зари» он гораздо отчетливее, чем Блок и Белый, ощущает неразрывную связь с церковью и христианской догматикой; и в период преклонения перед античным язычеством, гомеровским эпосом и идиллиями Феокрита «Маслина Галилеи» и «Дщи Сиона»[1426]1426
Заглавия разделов в книгах «Цветы и ладан» и «Апрель».
[Закрыть] оставались священными, входили неотъемлемой составляющей в его духовный универсум. В «Возвращении в дом отчий» раздел «Тени античного» минимален по объему и почти исчерпывается филологическими экзерсисами (переводы фрагментов из Софокла), зато на первый план выступает христианская, православно-церковная проблематика; прежние бесстрастные эстетические созерцания сменяются проповедью, истовым исповеданием веры. В стихотворении «Василий Великий – Григорию Богослову» Соловьев влагает в уста одного из отцов церкви признание в любви к «эллинским музам», сменившейся обретением другого идеала:
Ты помнишь ли, как жадно пили мы
Сладчайший мед премудрого Платона
И как пленил нас пылкий Демосфен?
О, суета! о, молодость! Иная
Пришла пора, и к Ливии священной
Направил я смиренные стопы
И навестил пустынные пещеры,
Обители отшельников святых <…>[1427]1427
Соловьев Сергей. Возвращение в дом отчий. Четвертая книга стихов. 1913–1915. М., 1915. С. 43.
[Закрыть], —
те же слова он мог бы, осмысляя свою духовную эволюцию, произнести и от собственного имени. Значительную роль в его повороте к церкви сыграл друг покойного отца епископ (позднее митрополит) Трифон (Туркестанов; 1861–1934)[1428]1428
См. предисловие В. Э. Молодякова к публикации стихов Сергея Соловьева («О чем поет мне этот полдень синий?..» // Простор. 1993. № 11. С. 240).
[Закрыть]; «Возвращению в дом отчий» предпослано посвящение «преосвященному Трифону епископу Дмитровскому». В 1915 г. Соловьев принимает духовный сан[1429]1429
17 ноября 1915 г. Соловьев оповестил А. К. Виноградова: «21-го, в субботу, я буду посвящен во диакона, в Сергиевом Посаде, в академической церкви» (РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. Ед. хр. 1067).
[Закрыть] и поступает в Московскую Духовную академию, 2 февраля 1916 г. он рукоположен в сан священника. В 1918 г. становится кандидатом богословия.
Основное литературное поприще Сергея Соловьева в эту пору – религиозно-философская публицистика, частично объединенная в книгу «Богословские и критические очерки» (М., 1916)[1430]1430
Книга переиздана в Томске издательством «Водолей» в 1996 г.
[Закрыть]. Преодолевая соблазны «язычества» в самом себе, Соловьев, с одной стороны, подчеркивает преемственную связь между греко-латинской и христианской культурой, с другой – энергично отмежевывается от «неоязычества», процветшего в Европе в эпоху Возрождения и в последующие столетия. Главным объектом критического анализа становится былой кумир, «язычник» и «классик» Гёте; признавая титанизм его личности и высочайшее совершенство его созданий, Соловьев настойчиво проводит мысль об антихристианской природе творчества немецкого гения. В работе «Гете и христианство» он утверждает, что именно Гёте является провозвестником «современного антихристианского движения»: «Все оно – от Гете и к Гете <…>. От него идут Ницше, Мережковский, Вяч. Иванов, Рудольф Штейнер»[1431]1431
Соловьев Сергей, свящ. Гете и христианство. Сергиев Посад, 1917. С. 75. Эта работа Соловьева подробно освещена в кн.: Жирмунский В. Гете в русской литературе. Л., 1937. С. 596–599.
[Закрыть]. Таким образом, и любые версии «неохристианства», оформившиеся в русской символистской среде, и штейнеровская антропософия, приверженцем которой стал Андрей Белый, получают с ортодоксальной позиции Соловьева однозначно негативную оценку. Стремление его отделить основы христианского вероисповедания от сторонних примесей с годами возрастало. Так, если в 1912 г. в статье «Эллинизм и церковь» он указывает на эллинские корни христианства и, в частности, на образ Геракла, «подъявшего на себя подвиг борьбы со злыми силами для спасения человечества и погибающего мучительной смертью», в котором «впервые видим мы прообраз Христа распятого»[1432]1432
Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. Томск, 1996. С. 13–14.
[Закрыть], то полтора года спустя в статье «Религиозное значение еврейства», порицая Вяч. Иванова за «стремление к разрушению основ христианской веры», в качестве дополнительного аргумента сообщает, что тот, эллинизируя христианство, не останавливается «перед такими выражениями, как „Христос-Геракл“ и даже „Голгофа Вакха“»[1433]1433
Там же. С. 44.
[Закрыть].
Начало мировой войны породило в Соловьеве всплеск патриотизма и мессианических чаяний. Он обвиняет Германию в многолетнем духовном разрушении России («Грубая, казенная немецкая цивилизация, солдафонство, прусские усы и венские сосиски заменили нам благоухание византийского ладана и отрезали нас от культурного общения с христианскими народами Запада: Англией, Францией и Италией»[1434]1434
Соловьев Сергей. К войне с Германией. М., 1914. С. 4.
[Закрыть]); война против Германии совместно с западными странами открывает России, по его убеждению, перспективу отстоять заветы подлинного христианства и стать во главе христианской Европы. Поначалу Соловьев стремится всячески подчеркивать преимущества восточного христианства перед католицизмом, утверждает, что именно «русскому православию принадлежит религиозное будущее»[1435]1435
Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. С. 25 (Статья «Эллинизм и церковь», 1912).
[Закрыть], и даже критически отзывается о Владимире Соловьеве в связи с его католическими «уклонениями»[1436]1436
См.: Там же. С. 152–158, 180 (Статья «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева», 1913); Гайденко П. Соблазн «святой плоти» (Сергей Соловьев и русский серебряный век) // Вопросы литературы. 1996. № 4. Июль – Август. С. 112–117.
[Закрыть]; в то же время он неустанно заявляет о том, что подлинное христианство, ставшее «концом азиатской культуры и началом культуры европейской»[1437]1437
Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. С. 105. (Статья «Религиозный смысл борьбы с Германией», 1914.)
[Закрыть], не терпит национальной замкнутости, и тем паче замкнутости в византийско-азиатском прошлом, что России надлежит в союзе с Западом изживать в себе «московское азиофильство». Однако в ходе войны, и в особенности после поездки в 1915 г. в Галицию, где ему впервые открылся польский католицизм «во всем благоуханном аскетизме Средневековья»[1438]1438
Там же. С. 218. (Очерк «Впечатления Галиции», 1915.)
[Закрыть], Соловьев все более склоняется к идее примирения и воссоединения церквей, вынашивавшейся еще его покойным дядей.
Сформулировать со всей внятностью свою позицию он смог уже после Февральской революции. Отрицая славянофильский национализм, Соловьев призывает к «соединению двух полноправных и истинных частей единой вселенской церкви»: «Единственный реальный путь к возрождению русской церкви в том, чтобы повернуть лицо свое к церковному Западу, ибо только там кипит подлинная церковная жизнь, там не археологические развалины, как в Константинополе и Антиохии, и не светские богословские науки, как в Германии, а живая церковь, сохраняющая характер богоучрежденности, но в то же время охватывающая все стороны современной жизни»; «Восстановление церковного единства с Римом было бы для русской церкви началом нового плодотворного развития»; «Не в отделении от Запада, а в учении у Запада – залог будущей силы и благоденствия России. В России и славянстве бродят непочатые силы, таятся громадные возможности. Но для проявления этих сил, для их оформления необходимо воздействие того начала, которое оформило жизнь наших западных соседей. Начала латинской культуры»[1439]1439
Соловьев Сергей, свящ. Национальные боги и Бог истинный // Христианская Мысль. 1917. Март – Апрель. С. 147–148, 149, 151.
[Закрыть]. Приветствуя падение самодержавия, Соловьев видит в этом исторический шанс для возрождения русской церкви в единстве церкви вселенской и в союзе с католической церковью: «… взоры русского церковного народа обращаются туда, где извека был центр сверхнародной, вселенской церкви, – к Риму»; «Только в католической церкви живет идеал сверхнародный, вселенский, и только эта церковь может вдохнуть дух жизни в слагающееся тело демократической Европы»[1440]1440
Соловьев Сергей, свящ. Вопрос о соединении церквей в связи с падением русского самодержавия. М., 1917. С. 9, 13.
[Закрыть]. Воцарение большевиков Соловьев воспринял, в развитие этих же построений, на свой лад – как торжество антиевропейских начал, несущих гибель русскому государству и русской церкви, как религию «оргийного безумия» и «продолжение той же Распутинской истории»; решительно не принимая «скифских» настроений и блоковской «музыки революции», он заявлял: «Нам страшно то, что строгий и милосердный Христос заменился слащавым и жестоким лжехристом, национальным богом древней Скифии. Новому союзу славянофильства с анархизмом мы желали бы противопоставить вселенский и евангельский идеал»[1441]1441
Соловьев Сергей, свящ. Гонение на церковь // Накануне. 1918. № 6. Май. С. 7.
[Закрыть].
Весной 1918 г. Сергей Соловьев окончил Духовную академию, после чего, спасаясь от московского голода и разрухи, на два года обосновался в Саратовском крае – учительствовал в селе Большой Карай, затем работал в уездном городе Балашове. Обстоятельства этой жизни воссозданы им в автобиографической поэме «Чужбина» (1922)[1442]1442
См.: Наше наследие. 1993. № 27. С. 66–69; Соловьев Сергей. Стихотворения 1917–1928 г. М.,1999. С. 11–23.
[Закрыть] – правда, далеко не все из самых существенных: умолчано, например, о том, как одна из проходящих частей или банд повела его на расстрел и как его пощадили только благодаря мольбам жены[1443]1443
Многие сведения о пореволюционных годах жизни Соловьева восходят к мемуарным очеркам его дочери H. С. Соловьевой «Штрихи к портрету отца» (Там же. С. 5–8; Шахматовский вестник. <1993>. № 2. С. 25–34), «Отцом завещанное» (Наше наследие. 1993. № 27. С. 60–65).
[Закрыть]. За годы жизни в провинции разладилась семейная жизнь Соловьева: жена Татьяна оставила его и сошлась в Балашове с Г. Е. Омитировым. В Москву Соловьев возвратился один. В Москве же на Рождество 1920 года он принял решение о присоединении к католической церкви – вошел в общину русских католиков восточного обряда [1444]1444
См.: Смирнов Марк. Последний Соловьев. Жизнь и творчество поэта и священника Сергея Соловьева. Главы из книги // Russian Studies. 2001. Т. III. № 4. С. 106–107.
[Закрыть]. Правда, внутренние колебания продолжались еще довольно долго; в письме к Андрею Белому от 19 декабря 1922 г. Соловьев признавался: «Я отвергнут и католиками, и православными, но всё с большой бодростью чувствую, что иду по правильному, хотя очень опасному и скользкому пути»[1445]1445
Опыты. Нью-Йорк, 1953. Кн. 2. С. 186–187.
[Закрыть]. Вернувшись в лоно православия в 1921 г., он, однако, в 1924 г. окончательно связывает себя с московской общиной русских католиков (26 августа 1924 г. датировано обращение к Католической миссии с предложением Ватиканской библиотеке рукописи Вл. Соловьева «История и будущность теократии», подписанное: «Племянник Владимира Соловьева, католический священник восточного обряда Сергей Соловьев»[1446]1446
Венгер Антоний, иеромонах. Материалы к биографии Сергея Михайловича Соловьева // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 3; Смирнов Марк. Последний Соловьев. С. 112–114.
[Закрыть]).
В 1920-е гг. Соловьев продолжает вести весьма интенсивную деловую и творческую жизнь. Занимается преподаванием истории античной литературы и классических языков сначала в Брюсовском институте (1920–1924), затем в Московском университете (1924–1927). Продолжает работать над стихами, хотя понимает, что широкого отклика они в новых условиях вызвать не могут. «Пишу очень много стихов, – сообщает он в цитированном письме к Белому, – но выступать перед публикой в роли поэта считаю унизительным. Обнажать свою душу, хотя бы в форме стихов, перед Ройзманами, Кусиковыми и пр. – это выше моих сил»[1447]1447
Опыты. Кн. 2. С. 187.
[Закрыть]. Все же Соловьев примкнул к группе «неоклассиков» (А. Эфрос, К. Липскеров, А. Глоба, С. Парнок и др.), участвовал в их собраниях по вторникам[1448]1448
См.: Павлович Надежда. Московские впечатления // Литературные записки. 1922. № 2, 23 июня. С. 7.
[Закрыть] и опубликовал в их альманахе «Лирический круг. I» (М., 1922) три стихотворения и статью «Бессознательная разумность и надуманная нелепость», содержавшую весьма скептическую оценку новейших поэтических экспериментов. В последний раз при жизни Соловьева его стихотворения были напечатаны в 1926–1927 гг. в альманахе «Никитинские субботники» и в двух выпусках сборника «Новые стихи»; после этого его стихи 1920-х гг. увидели свет лишь в новейшее время[1449]1449
Наиболее полная их подборка – в указанной выше (примеч. 63) книге «Стихотворения 1917–1928 гг.»; см. также: Вишневецкий И. Неизданный мистический цикл С. М. Соловьева // Символ. 1993. № 29. С. 241–254; Соловьев С. Из стихов 1920-х годов / Предисл. И. Вишневецкого. Публ. H. С. Соловьевой // Знамя. 1994. № 11. С. 138–141; «Диккенсовский цикл» С. М. Соловьева//Тайна Чарльза Диккенса. М., 1990. С. 514–524; Гениева Е. Эти Большие Надежды. О «диккенсовском цикле» С. М. Соловьева // Вышгород. 1999. № 4/5. С. 6–21; Соловьев С. Святой Сергий Радонежский // Вышгород. 1998. № 4. С. 71–77 (неоконченная поэма с послесловием Е. Ю. Гениевой).
[Закрыть]. Основным источником средств к существованию в пореволюционные годы для Соловьева становится художественный перевод; в таком деле мастер стиха и филолог-профессионал в одном лице – самая желанная кандидатура. В издательстве «Academia» вышли в свет в его переводе «Трагедии» Сенеки (М.; Л., 1933)[1450]1450
Фрагменты соловьевских переводов 6 трагедий Сенеки вошли в новейшее издание (серия «Литературные памятники»): Сенека Луций Анней. Трагедии / Изд. подгот. С. А. Ошеров, Е. Г. Рабинович. Примеч. Е. Г. Рабинович. М., 1983. С. 322–348, 427.
[Закрыть] и «Энеида» Вергилия (М.; Л., 1933) – окончание перевода, не завершенного Брюсовым; остался неопубликованным перевод «Орестеи» Эсхила, сделанный для постановки во 2-й студии МХАТа, но вышел в свет перевод его же «Прометея прикованного», выполненный совместно с В. О. Нилендером (М.; Л., 1927). Для собрания сочинений Гёте Соловьев перевел драмы «Торквато Тассо», «Пробуждение Эпименида», «Эльпенор», а также множество стихотворений[1451]1451
См.: Гете. Собр. соч.: В 13 т. М.;Л., 1932. Т. 1;М.;Л., 1933. Т. 4.
[Закрыть], для «Избранных произведений» Адама Мицкевича (М.; Л., 1929) – стихотворения, поэму «Конрад Валленрод» и фрагменты из «Дзядов», для «Избранных драм в новых переводах» Шекспира (М.; Л., 1934) – «Макбета» (выполненный тогда же перевод «Зимней сказки» остался неопубликованным). Значительную часть своих работ Сергей Соловьев осуществлял, однако, без надежды на скорое опубликование. Среди них важнейшая – фундаментальное исследование «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева», законченное в 1923 г. и вышедшее в свет в Брюсселе в 1977 г. (позже, в 1997 г., переизданное и в России)[1452]1452
Ему предшествовала более краткая биография Вл. Соловьева, составленная С. Соловьевым и впервые опубликованная в кн.: Соловьев Владимир. Стихотворения. 6-е изд. М., 1915. См. также: Соловьев Владимир. Стихотворения. 7-е изд. / Под ред. и с предисл. С. М. Соловьева. М., 1921.
[Закрыть], представляющее собой, по убеждению современного исследователя, «не только наиболее полную биографию философа», но и «духовный самоотчет его преданного ученика»[1453]1453
Гайденко П. Соблазн «святой плоти» (Сергей Соловьев и русский серебряный век) // Вопросы литературы. 1996. № 4. Июль – Август. С. 123.
[Закрыть].
Видимо, не ранее 1930 г. на досуге и в уповании на приход лучших времен Соловьев составил план «Собрание моих сочинений в 12 томах» (приписано дополнительно содержание еще трех томов)[1454]1454
РГБ. Ф. 696. Карт. 4. Ед. хр. 3. Л. 2.
[Закрыть]. В него включены все опубликованные до революции авторские книги и не собранные ранее сочинения в стихах и прозе, упомянутые выше произведения 1920-х гг., а также исследования «Евангелие Иоанна как основание христианского догмата», «Опыт апологии христианства», «Скала Петра (о католицизме)», «Под дубом Волыни (диалоги о церкви)», сборник статей и лекций «Россия и Рим» и др. Большинство этих текстов в архивных фондах Сергея Соловьева не отложилось и, видимо, безвозвратно утрачено (впрочем, М. Смирнов в своих изысканиях использовал сборник неопубликованных сочинений Соловьева 1920-х гг., хранящийся в частном архиве)[1455]1455
См.: Смирнов Марк. Последний Соловьев. С. 124–125, 142.
[Закрыть]. Три дополнительных тома воображаемого издания должны были составить: «Domus aurea. Литургические стихи и поэмы», «Основы вселенского православия» и «Воспоминания».
Художественную прозу Сергей Соловьев начал сочинять еще в студенческие годы, но тогда это были повествовательные опыты сугубо «книжного» характера, эксплуатировавшие «чужие» стилевые системы: «Сказка о Серебряной Свирели», «Сказка о Апрельской Розе» и «Веснянка», вошедшие в «Crurifragium» (их «переимчивость» осознавал сам автор: «Для двух моих сказок я пользовался формой сказок Андерсена и Гофмана, применяя некоторые технические приемы, выработанные в наше время Валерием Брюсовым и Андреем Белым»; «Рассказ „Веснянка“ явился результатом работы над стилистической проблемой, которую поставил Андрей Белый своим рассказом „Куст“»[1456]1456
Соловьев Сергей. Crurifragium. С. XIII, XV.
[Закрыть]), аналогичные стилизаторским экспериментам М. Кузмина, С. Ауслендера или Б. Садовского «Повесть о нещастном графе Ригеле»[1457]1457
Весы. 1909. № 10/11. С. 82–112.
[Закрыть], имитировавшая старинное повествование в духе Вальтера Скотта, и «византийская повесть» «История Исминия»[1458]1458
Аполлон. 1910. № 10. Литературный альманах. С. 21–54.
[Закрыть]. Вместе с тем из-под пера Соловьева спорадически вылетали мимолетные прозаические зарисовки, отражавшие его непосредственные впечатления от лиц и явлений. В некролог «Алексей Алексеевич Венкстерн» он включает, вслед за перечислением заслуг покойного перед культурой, его литературный портрет, суммируя свои личные восприятия: «Я вижу его стареющим, но все еще полным сил и энергии, человеком, с ясными голубыми глазами, с большою седеющей бородой. Весь облик могучего северного викинга. Вижу его в уютной обстановке московского кабинета, с мягким диваном и помпейскими фресками по стенам. Вижу его в свежий октябрьский денек, помолодевшего и свежего, в охотничьей куртке и с ружьем, несущего в ягдташе убитого зайца. Вижу его на балконе, в кругу семьи и друзей, где все его боготворят, где закон – каждое его слово, где он шутит весело и необидно, шутит, как шутили люди пушкинской плеяды. Он был художественен весь, до мелочи, все было художественно вокруг него, в его имении, с холмами, поросшими молодым березняком и орошенными веселыми источниками, с цветником из роз, окружавших статую его любимца Пушкина»[1459]1459
Весы. 1909. № 6. С. 91–92.
[Закрыть].
Аналогичное вкрапление – в статье «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева», в которой отвлеченно-теоретическое изложение проблемы вдруг сменяется мемуарной зарисовкой: «В годы раннего детства, я помню, как наша семейная жизнь озарялась иногда посещениями таинственного гостя, как бы приносившего с собой благословение из кельи Афона или Фиваидской пустыни. Дни его появления я могу определить одним словом: праздник, в христианском смысле этого слова. Праздник всего дома, начиная с прислуги, неизменно встречавшей его радостным восклицанием: Владимир Сергеевич! Дни нарушения всех обычных законов, всех правил. Сам стол менял свой характер, принимая характер монастырской трапезы: рыба, оливы, красное вино, неразрывно связанное в детстве с впечатлениями церкви. И во главе стола, благословляющий трапезу, рассказывающий таинственное предание о каком-нибудь пустыннике, отменяющий все заботы дня, все ссоры, все будничные обязанности радостным, шумным и младенческим смехом – пришелец из Святой Земли. Бледное лицо постника, черная борода и роскошные серебряные кудри, громадные, светлые глаза, таинственно сияющие из-под нависших, как уголь, бровей. Запах скипидара, единственного, как он сам говорил, „благовония“, которое он употреблял при всяком случае, которым были пропитаны все его вещи, книги, одежды, этот запах напоминал запах ладана. Простые люди говорили про него: „этот монах“, „этот поп“»[1460]1460
Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. С. 180–181.
[Закрыть].
Эти и подобные им фрагменты в различных текстах Соловьева свидетельствуют о том, что мемуарный жанр вызревал в нем медленно и верно на протяжении ряда лет. И за работу над книгой воспоминаний о своем детстве и юности он принялся отнюдь не в преклонном возрасте – ему не было тогда, в 1923 г., и сорока лет: казалось бы, совсем не время для подведения жизненных итогов. Однако катастрофические события отделили пропастью старую, дореволюционную Россию от того, что возникло на ее руинах; вчерашний день с присущими ему навыками жизненного уклада и нормами бытового распорядка внезапно отодвинулся в прошлое, и стало со всей отчетливостью ясно, что это прошлое – невозвратно, что оно всецело превратилось в достояние истории. Соловьев оказался среди тех, кому пришлось со всей болезненностью ощутить, что их выбросили из своего времени. «Везде – гроба, но и вся современная Россия для меня только гроб или, лучше сказать, тело, из которого улетело дыхание жизни, – признавался он в письме к М. А. Волошину от 12 мая 1926 г. – Что мертвый встанет из гроба, я твердо верю, но не надеюсь дожить до этого дня. Сам же я чувствую себя принадлежащим только прошлой и будущей России и молю Бога лишь о том, чтобы скончать свою земную жизнь на Западе»[1461]1461
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1129.
[Закрыть]. Полное неприятие настоящего заставляло с особенной силой ценить то, что сохраняла благодарная память о прошлом. При этом Сергею Соловьеву довелось не только осознать происшедшее в глобальном, умозрительном плане, но и пережить как утрату интимно дорогого: разгромили любимое родовое гнездо, подмосковное Дедово, с которым он был связан с раннего детства, – «был уничтожен не только основной дом, но и все флигели»[1462]1462
Соловьева Н. Отцом завещанное // Наше наследие. 1993. № 27. С. 63.
[Закрыть]. Рисуя в стихотворении «На развалинах» (1925) картины гибельной разрухи («Где прежде дом стоял, трех поколений зритель, // Крапива разрослась на грудах кирпича…»), он с особой остротой ощущает подлинность и драгоценность той внешней среды, из которой возрастал и формировался его внутренний мир:
Зеленый, влажный мир! Когда-то заколдован,
Ты предо мной предстал, и к этим берегам
Магическою силою прикован,
Я пел твоим богиням и богам.
Я взором пил лазурь в тени глухого сада,
Молясь на бабочек, на изумрудный мох…
Из каждого дупла сияла мне дриада,
И в каждом всплеске волн я слышал нежный вздох[1463]1463
Соловьев Сергей. Стихотворения 1917–1928 г. С. 60.
[Закрыть].
Запечатление недавно пережитого и во всей живой силе сохраняемого сознанием становится для Сергея Соловьева насущной потребностью. «Многое ко мне возвращается из самой ранней юности, из поливановских лет. Все как-то по-баратынски заострилось», – признается он в письме к Андрею Белому от 19 декабря 1922 г.[1464]1464
Опыты. Кн. 2. С. 187.
[Закрыть]. Смерть Александра Блока в 1921 г. также не могла не восприниматься как подведение финальной черты под определенным жизненным этапом, побуждала к его ретроспективному осмыслению. Соловьев написал «Воспоминания об Александре Блоке» сразу после смерти поэта; они были опубликованы, вместе с письмами Блока к Соловьеву, в 1925 г. в сборнике издательства «Колос» «Письма Александра Блока». Восстанавливая в них главным образом атмосферу и эпизоды юношеского общения, он остался верен себе в осуждении «лирически-хаотической свободы», которой предавался Блок в ущерб светлым началам своей творческой личности. Для того же издательства «Колос» Соловьев подготовил в 1927 г. сборник писем своей матери с мемуарно-биографическим очерком о ней и примечаниями, однако это издание не состоялось[1465]1465
Рукопись очерка и примечаний сохранилась в архиве Сергея Соловьева (РГАЛИ. Ф. 475. Оп. 1. Ед. хр. 16).
[Закрыть].
Когда Соловьев принялся за работу над мемуарной книгой, уже вышли в свет воспоминания о Блоке Андрея Белого – в краткой версии в «Записках мечтателей» (1922, № 6) и в пространной версии в берлинской «Эпопее» (№ 1–4, 1922–1923). Возможно, они послужили Соловьеву образцом, от которого он отталкивался – и совсем в противоположном направлении. Даже в тех случаях, когда Соловьев вспоминает о том же, о чем писал Белый, он обращает внимание на совсем другие частности и детали (например, сообщает о консервативно-националистических идейных установках отца Белого, Н. В. Бугаева, – о чем в мемуарах сына нет и намека). В целом же у двух друзей-мемуаристов проблематика, стилистика, пафос воспоминаний – совершенно различные. Белый пишет о встречах с Блоком, о своих духовных исканиях и о своем литературном окружении – Соловьев, убежденный «продолжатель рода», пишет в основном о своих родственниках и предках, замыкается в рамках частной жизни; Белый как мемуарный повествователь вызывающе субъективен, былое для него – совокупность ярких впечатлений и переживаний, насыщенных изощренным психологизмом, и вместе с тем повод для личной экзальтированной исповеди – Соловьев предпочитает «внешние» характеристики, сдержанность и логическую ясность слога, спокойную тональность изложения. Наконец, Белый убежден в исключительной духовной и эстетической значимости русского символизма в целом и творчества Блока в частности, он в подробностях восстанавливает различные эпизоды символистской литературной жизни, истолковывая собственную позицию в том или другом случае, – Соловьев же из своей мемуаристской памяти исключает литературную среду, к которой он имел отношение, почти начисто. В «новом» искусстве он усматривает преимущественно «болезни декадентства, язычества, мистицизма», содействовавшие «разрушению всех религиозных и нравственных основ русской жизни»[1466]1466
Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. С. 86 (Статья «Путь русской культуры», 1914).
[Закрыть], а потому и пытается демонстративно игнорировать ту сферу, которая была затронута этими «болезнями». Не берясь, в одном частном случае, точно ответить на заданные ему вопросы о подлинных авторах псевдонимных публикаций в «Весах» и «Золотом Руне», он заявляет и по существу: «Вообще не ждите от меня „воспоминаний“ обо всех этих господах. Я и тогда стоял далеко от этих грязных журнальных делишек»[1467]1467
Недатированное письмо к Ф. И. Витязеву // РГАЛИ. Ф. 106. Оп. 1. Ед. хр. 156.
[Закрыть].
Фактически отворачиваясь от современной ему литературы и ее представителей, Соловьев-мемуарист сосредотачивает свое внимание на «малом» мире семьи и ее ближайшего окружения, на событиях и переживаниях детства, которое в ретроспективном пассеистском осмыслении предстает как утраченный рай. Содержание его воспоминаний во многом соответствует заглавиям двух прославленных книг С. Т. Аксакова, которые способны были послужить и одним из тематико-стилевых образцов, – «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука». Подобно Аксакову, Соловьев хранил в своей памяти сведения о предках с отцовской и материнской стороны и всегда остро ощущал себя звеном в цепи родовой жизни:
В стихотворении «Мои предки» (1911) он набрасывает мимолетные портреты нескольких представителей обеих ветвей своего рода, уже видя перед собой ту задачу, которую разрешит в книге воспоминаний:
В мемуарах эти «святые были» рассказаны со всеми подробностями и с привлечением текстов из семейных собраний. Столь же подробно и обстоятельно живописует Соловьев и свой семейный клан, с равно заинтересованным вниманием освещая и дядю Володю – великого Владимира Соловьева, и других дядюшек и тетушек, большими дарованиями не блиставших. Взор мемуариста благостен, иногда исполнен благоговения, но повествование отнюдь не превращается в идиллию; Соловьев воскрешает и многие драматические моменты своей «семейной хроники», затрагивает тему «неврозов, романтизма, мистицизма и бурных страстей», которым были подвластны многие родственники (и которых не избег и сам автор). Размеренный эпический стиль рассказа, подчеркнутая внутренняя безмятежность и уравновешенность (особенности, которые, характеризуя поэзию Сергея Соловьева, Гумилев определил как «пафос благосостояния»[1470]1470
Гумилев H. С. Письма о русской поэзии. С. 105.
[Закрыть]) действительно роднят соловьевские воспоминания с автобиографическими хрониками Аксакова, с одной стороны, а с другой – с аналогичными «семейными» мемуарами, появившимися в пореволюционную пору; среди последних уместно назвать «Шахматово. Семейную хронику» М. А. Бекетовой, поскольку в ней идет речь о многих людях, упоминаемых Соловьевым, и «Мои воспоминания» Александра Бенуа, выделяющиеся широтой привлекаемого материала и мастерством литературного изложения. Что же касается тщательности и проникновенности, с которыми Соловьев реконструирует историю своего постижения мира, набрасывает картину постепенного формирования детской души, то в этом отношении его воспоминания оказываются в ряду, начатом теми же книгами Аксакова, продолженном Львом Толстым, Н. Гариным-Михайловским и другими писателями, создававшими уже не собственно мемуары, а вполне «беллетристические» художественные произведения на автобиографической основе.
В письме к Волошину от 8 июня 1927 г. Соловьев упоминает о своей завершенной повести «Детство до гимназии» (одна из частей книги воспоминаний)[1471]1471
ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1129.
[Закрыть]. Два года спустя в одном из писем к нему же сообщает: «…строчу „Воспоминания“» (27 октября 1929 г.), – однако два месяца спустя – совсем противоположное: «„Воспоминания“ давно забросил, убедившись в невозможности превратить их в презренный металл, выражаясь классически, или в бумажные червонцы» (26 декабря 1929 г.)[1472]1472
Там же. См.: Соловьев С. Воспоминания. М., 2003.
[Закрыть]. Изложение событий в книге обрывается на лете 1903 г. Трудно с полной уверенностью заключать, пришел ли Соловьев к сознательному решению именно на этом месте остановиться и не вдаваться в описание «литературного» периода своей жизни или все же намеревался продолжить рассказ. Как бы то ни было, вернуться к полноценной творческой работе в 1930-е гг. он уже не мог.
После ареста в ноябре 1923 г. священника Николая Александрова, а также ряда его прихожан отец Сергий Соловьев возглавил общину московских католиков восточного обряда, в 1924–1931 гг. служил в римско-католическом храме Непорочного Зачатия на Малой Грузинской улице. В ноябре 1926 г. католический епископ Пий Эжен Невё, бывший апостольским администратором в Москве, назначил Соловьева вице-экзархом католиков восточного обряда (экзарх Леонид Федоров пребывал тогда в заключении на Соловках)[1473]1473
См.: Смирнов Марк. Последний Соловьев. С. 114–121.
[Закрыть]. В условиях перманентной оголтелой антирелигиозной кампании немногочисленная и ни с какой стороны не защищенная община русских католиков жила под постоянной угрозой уничтожения.
В 1928 г. Соловьев был отстранен от преподавания в государственных учреждениях, в 1929 г., после упразднения общины, – лишен возможности служить в церкви. В ночь с 15 на 16 февраля 1931 г. отец Сергий Соловьев был арестован, одновременно с многими его прихожанами.
«На первом же допросе он признался в получении средств для помощи заключенным через Невё из-за рубежа, что сразу же дало возможность следствию разыграть шпионскую версию <…> Под угрозой ареста его дочерей о. Сергий стал подписывать самые нелепые обвинения против себя и членов своей общины. „Я всех предал!“ – признавался он своим знакомым и близким. Его наследственно хрупкая и нервная натура не выдержала методов ОГПУ. В акте медкомиссии от 10 мая 1931 г. констатировалось: „Нервно-психическое расстройство. Нуждается в спец-лечении, (оно) начато в больнице при Бутырском изоляторе…“» [1474]1474
Голубцов Сергий, протодиакон. Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа. М., 1999. С. 56–57. См. также: Осипова И. И. «В язвах своих сокрой меня…» Гонения на Католическую Церковь в СССР. По материалам следственных и лагерных дел. М., 1996. С. 201; Юдин А. «Россия и Вселенская Церковь»: судьбы русского католичества // Религия и демократия. На пути к свободе совести. II. М., 1993. С. 504; Венгер Антоний, иеромонах. Материалы к биографии Сергея Михайловича Соловьева // Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция С. М. Соловьева. С. 8–10; Венгер Антуан. Рим и Москва. 1900–1950. М., 2000. С. 294–302. В указанной выше работе М. Смирнова «Последний Соловьев» (С. 132–133, 140–142) использованы материалы следственного дела С. М. Соловьева из Центрального архива ФСБ.
[Закрыть]. 18 августа 1931 г. Коллегия ОГПУ приговорила его к 10 годам лагерей с заменой на ссылку (в Казахстан). Однако вместо ссылки Соловьев, «как душевно больной хроник», был направлен в «Троицкую колонию» – психиатрическую больницу на станции Столбовая под Москвой. Оттуда он был выпущен под опеку старшей дочери, H. С. Соловьевой. В дальнейшем он проводит в домашних условиях меньше времени, чем в психиатрических клиниках.