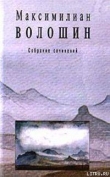Текст книги "Русские символисты: этюды и разыскания"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 49 страниц)
Смерть Гофмана вызвала в России чрезвычайно широкий общественный резонанс. О гибели двадцатисемилетнего поэта, при жизни почти безвестного, сообщили во многих журналах и газетах[1356]1356
См.: Современное Слово. 1911. № 1283, 2 августа; № 1284, 3 августа; Речь. 1911. № 209, 2 августа; Лидин Л. <Василевский Л. М.>. Двойной ужас // Биржевые Ведомости. Веч. вып. 1911. № 12 468, 9 августа; Гроссман Л. Виктор Гофман // Одесские Новости. 1911. № 8484, 3 августа; Новый Журнал для всех. 1911. № 34. Стб. 129–130; Новая Жизнь. 1911. № 9. С. 2–6; Бернер //. О В. В. Гофмане // Путь. 1911. № 2. С. 64–66; Исторический Вестник. 1911. № 9. С. 1193–1194; Нива. 1911. № 36. С. 667–668; Вестник Европы. 1911. № 9. С. 431; и т. д.
[Закрыть]. Возможно, внимание к свершившемуся было дополнительно стимулировано тем, что от писательских самоубийств Россия к 1911 г. уже успела отвыкнуть: последними к тому времени крупными авторами, которые решились свести счеты с жизнью, были Всеволод Гаршин (1888) и Николай Успенский (1889). С Виктора Гофмана в русской литературе начался новый суицидный ряд: вслед за ним писательский мартиролог пополнили Александр Косоротов (1912), Всеволод Князев (1913), Надежда Львова (1913), Иван Игнатьев (1914), Самуил Киссин (Муни; 1916), Алексей Лозина-Лозинский (1916), Анна Map (1917)[1357]1357
См.: Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М., 1999. С. 210–211; «А сердце рвется к выстрелу…» / Сост., вступ. статья, сопроводительные тексты А. А. Кобринского. М., 2003 (сборник включает произведения 13 русских поэтов-самоубийц, живших в начале XX в., в том числе и В. Гофмана). Примечателен в этом отношении отклик в письме Б. К. Зайцева к В. И. Стражеву (6 августа 1911 г.): «Читал ли ты о самоубийстве Гофмана? Что за ужас кругом! Это первый из нас. Слабый мы род. И несчастный, в конце концов, литераторский род. Насколько буржуа крепче нас. Отчего он погиб, я не знаю. На нем смерти я не замечал никогда – может быть, потому, что мало его знал. Зимой я разговаривал с ним о Золя и Бальзаке, а он, пожалуй, думал уже совсем о другом, но защищал Золя. Жуткой очень мне показалась его смерть» (РГАЛИ. Ф. 1647. Оп. 2. Ед. хр. 18).
[Закрыть]. Самоубийство поэта стало своеобразным отличительным знаком эпохи и частным отражением общего суицидного поветрия, охватившего тогда самые различные круги русского общества, и не случайно впоследствии именно такой прецедент окажется в центре лирического сюжета «Поэмы без героя» Ахматовой. И в этом отношении Виктор Гофман, столь вторичный и малозаметный на пройденных им литературных путях, внезапно, по злой иронии судьбы, попал в эпицентр всеобщего внимания – оказался первым среди многих представителей своего литературного поколения, решившимся «переступить черту».
Конечно же, писавшие о Гофмане задумывались о причинах происшедшего. Одни делали акцент на внезапном психическом заболевании («…самоубийство несчастного писателя <…> было вызвано острым психозом, охватившим В. В. с молниеносной быстротой и неожиданностью всего за несколько часов до развязки»[1358]1358
Василевский Л. В. В. Гофман // Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни. 1911. № 9. Стб. 9.
[Закрыть]; «Чувствуя, как кромешный мрак безумия застилает его всегда такое отчетливое и ясное сознание, В. В. успевает достать револьвер, предпочтя смерть тела смерти духа»[1359]1359
Новая Жизнь. 1911. № 9. С. 2 (Редакционный некролог без подписи). Сходную трактовку самоубийства Гофмана дает Г. И. Чулков, встретившийся с ним в Париже «за несколько дней до этой неожиданной смерти», в очерке «Самоубийцы»: «Мне почему-то кажется, что причиною этого самоубийства была не психическая болезнь, а страх перед этой болезнью. Незадолго до смерти несчастный случайно ранил себе палец. У него была лихорадка. Я представляю себе, как метался по номеру, ломая руки, этот юноша, испугавшийся безумия. <…> Быть может, юноша принял лихорадочный бред за беспросветную ночь сумасшествия» (Чулков Г. Вчера и сегодня: Очерки. М., 1916. С. 60).
[Закрыть]); другие предполагали, что роковой шаг был обусловлен и другими, постепенно накапливавшимися событиями внутренней жизни: «Сам оборвал свою жизнь, в безумьи ли, шквалом налетевшем на его мозг, или под влиянием долго точивших его мыслей, этот мозг разлагавших и убивших в нем любовь к жизни»[1360]1360
Ожигов Ал. <Ашешов Н. П>. Литературные мотивы // Современное Слово. 1912. № 1619, 11 июля. С. 2.
[Закрыть]; «Помню его еще на первом курсе Московского университета, только что облачившимся в студенческую форму. И тогда, в пору своей весны, он уже обнаруживал признаки явного пессимизма»[1361]1361
Дим. Яв. Памяти юного дарования // Русская Ривьера (Ялта). 1911. № 176, 6 августа. С. 3–4.
[Закрыть]; «„Разуверение во всем“ – вот драма души Виктора Гофман, вот разгадка этой трагической смерти»[1362]1362
Янтарев Е. Сгоревший (Памяти Виктора Гофмана) // Московская Газета. 1911. № 91,7 августа. С. 2.
[Закрыть]. Глубоко сознательным поступком, следствием мучительного духовного кризиса и драмы одиночества считала самоубийство Гофмана Анна Мар, связанная с поэтом продолжительными близкими отношениями: «Гофман пережил тяжелую драму, драму сомненья в себе самом, драму творчества. Он не скрывал этого от близких. День и ночь его терзаю сознание, что творчество якобы ускользает, ослабевает, он перестал верить в себя, возненавидел рукописи, книги, редакции, боялся услышать о себе даже малое, готов был обещать никогда не писать больше <…> о самоубийстве Гофман говорил с чрезвычайной легкостью и видимой симпатией. По его словам, это, все же, являлось единственным выходом из общей печали. „Ведь это так просто!“» [1363]1363
Мар А. Памяти Виктора Гофмана // Новый Журнал для всех. 1911. № 35. Стб. 94, 96.
[Закрыть]С признаниями Анны Мар соотносятся и сведения о приступах неврастении, неоднократно овладевавших поэтом – в том числе и незадолго до последнего заграничного путешествия[1364]1364
См.: Ходасевич В. Виктор Викторович Гофман. С. XXIV–XXVI.
[Закрыть].
Трагическая развязка наложила свой отпечаток на некрологические высказывания о Гофмане, в которых акцентировались одиночество, непонятость, душевная ранимость, отчужденность поэта от литературных кругов: «Постоянная тоска и печаль были спутниками его души»[1365]1365
Ожигов Ал. <Ашешов Н. П. >. Литературные мотивы. С. 2.
[Закрыть]; «Худенький, слегка сутуловатый с впалой грудью, близорукими глазами в пенсне и длинными аристократическими пальцами, он проходил через петербургскую литературную сутолоку всегда один, сосредоточенный в себе, скупой на слова, и если и не печальный, то сдержанно серьезный»[1366]1366
Л. В. <Василевский Л. М.>. В. В. Гофман // Речь. 1911. № 209, 2 августа. С. 1.
[Закрыть]; «Жизнь выпила его душу, а без души, с вечной тоскливостью и ощущением пустоты, он жить не захотел»[1367]1367
Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. С. 466.
[Закрыть]. Отсвет самоубийства лег, как уже отмечалось, и на восприятие написанного Гофманом. Конкретный автобиографический смысл раскрылся Л. М. Василевскому[1368]1368
Речь. 1912. № 49, 20 февраля. С. 4.
[Закрыть] в словах героя рассказа Гофмана «На горах»: «…однажды в разговоре мне вдруг пришла мысль, что всякая смерть есть убийство, потому что она всегда – насилие. „Разве только самоубийство может быть признано естественной смертью“, – сказал я тогда»[1369]1369
Гофман В. Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры 1909–1911 гг. СПб., 1912. С. 127. Позднее эту же цитату приведет А. Г. Левенсон, но с противоположной целью – чтобы подчеркнуть ее полное несоответствие с обстоятельствами самоубийства Гофмана: «…даже и с этой точки зрения смерть В. В. Гофмана нельзя признать „естественной“: он не считал продолжение своей жизни ненужным, он верил в свое творчество, усиленно занимался, готовил новую книгу, но случайный испуг перед призраком якобы наступающего безумия, и не стало молодого поэта» (Левенсон А. Г. Певец беспомощной любви // Гофман В. <Сочинения.> Берлин, 1923. T. I. С. 27).
[Закрыть]. Судьба автора подталкивала критиков к вполне однозначному толкованию его творчества и его героев-двойников: «В рассказах недавно покончившего с собой Виктора Гофмана нет смертей, но они обильно напоены атмосферой смерти. <…> Герои его не убивают себя, но глубоко отравлены бациллой смерти – ее верные жертвы. Все это теоретики, рефлектирующие над жизнью, боящиеся ее, не жившие и угасшие, преждевременно утомленные, как будто с усталостью явившиеся на свет»; «Оторвавшись от общей жизни, они бродят в мире, как призраки, с закрытыми глазами, и ждут повода, чтобы оборвать опостылевшее существование»[1370]1370
Колтоновская Е. А. Критические этюды. СПб., 1912. С. 288, 290.
[Закрыть].
Итоговые характеристики того, что Гофман успел сделать в литературе, также несли на себе отпечаток некрологического жанра, с присущими ему эмоциональными интонациями и однозначными оценками: «изысканный поэт», «умный и образованный критик и рецензент», «изящный по форме и содержательный по психологической глубине беллетрист» (Д. М. Цензор)[1371]1371
Солнце России. 1911. № 41, август. С. 5. Подпись: Д. Ц.
[Закрыть], «быть может, самый романтичный из современных поэтов»[1372]1372
Л. М. Виктор Викторович Гофман // За 7 дней. 1911. № 25, 26 августа. С. 13.
[Закрыть] отмечались «отсутствие холода в его творческом темпераменте», «неподдельная элегичность и искренний лиризм» [1373]1373
Гроссман Л. Виктор Гофман // Одесские Новости. 1911. № 8484, 3 августа. С. 2.
[Закрыть] и т. д., – но уже год спустя после гибели поэта суждения стали менее патетичными и более аналитическими: П. Н. Медведев, например, пришел к выводу о том, что только в области интимной лирики «ярко, выпукло и законченно» выявилось творчество Гофмана, «поэта до крайности однообразного»[1374]1374
Медведев П. Узоры влюбленного сердца // Свободным Художествам. 1912. № 6/8. С. 46.
[Закрыть]. Наиболее внятной, определенной и притом лаконичной была, пожалуй, итоговая оценка творчества Гофмана, данная Н. Гумилевым (Аполлон. 1911. № 7). Отметив, что «Книгу вступлений» отличают «свободный и певучий стих, страстное любование красотой жизни и мечты», а в «Искусе» «эти достоинства сменяются более веским и упругим стихом, большей сосредоточенностью и отчетливостью мысли», Гумилев заключал: «Этими двумя книгами, несмотря на раннюю кончину, В. В. Гофман обеспечил себе почетное место среди поэтов второй стадии русского модернизма»[1375]1375
Гумилев H. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 128–129.
[Закрыть].
Осенью 1911 г. московское «Общество Свободной Эстетики» устроило вечер памяти Гофмана, на котором выступил Брюсов с докладом о его поэзии[1376]1376
См.: Брюсов В. Среди стихов. С. 520. 7 октября 1911 г. И. М. Брюсова сообщала Н. Я. Брюсовой: «Первый вечер Свободной Эстетики был посвящен памяти Виктора Гофмана. Был принесен его портрет, который дала мать покойного; присутствовали между прочим его родственники. Читал Шик, Рубанович, исполнила его стихи Барановская <…>. Читал стихи его Валя, читала рассказ даже Броня» (РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35. Броня – Б. М. Рунт, сестра И. М. Брюсовой).
[Закрыть]. В 1917–1918 гг. в московском издательстве В. В. Пашуканиса вышло в свет двухтомное собрание сочинений Гофмана, включавшее две книги стихов, книгу прозы, отдельные стихотворения и рассказы, в книги не вошедшие, а также два мемуарно-биографических очерка о поэте – Брюсова и Ходасевича. Это же издание с небольшими видоизменениями было повторено берлинским издательством «Огоньки» в 1923 г. Однако посмертного признания творчество Гофмана так и не получило, сохранился в памяти современников и потомков только расплывчатый и достаточно условный образ «милого принца поэзии» (по определению Ю. Айхенвальда)[1377]1377
Айхенвальд Ю. Памяти Виктора Гофмана // Речь. 1911. № 288, 20 октября. С. 2; Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. С. 467.
[Закрыть], «пажа»[1378]1378
См. стихотворение Юрия Бочарова «Паж. Памяти Виктора Гофмана» (Сполохи. Кн. 9.М., 1914. С. 82). Квинтэссенция этого образа – в стихотворении Игоря Северянина «Виктор Гофман. Памяти его» («Его несладкая слащавость…», 1918): «Капризничающий ребенок, // Ребенок взрослый и больной», «К самопожертвованью склонный», «В Мечту испуганно-влюбленный», «Так трогательно сердцу милы // Стихи изящные его» (Игорь Северянин. Соловей: Поэзы. Берлин; М., 1923. С. 147–148). В книгу Северянина «Миррэлия» (1922) также входит «Поэза Южику» с подзаголовком «На мотив Виктора Гофмана» («Весеннее! весеннее! как много в этом слове!», 1917). См.: Северянин И. Тост безответный: Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1999. С. 273. См. также «Грустную серенаду» (1916) Екатерины Галати, которой предпослано посвящение «Памяти Виктора Гофмана» (Галати Е. Тайная жизнь: Стихотворения. Пг., 1916. С. 38–39).
[Закрыть]; реальные же контуры личности Гофмана проступали лишь у немногочисленных мемуаристов. Из современников Гофмана последнее слово о нем сказал Ходасевич в статье, приуроченной к 25-летию со дня его смерти. Трагическая участь поэта получила у него новое осмысление: подспудную причину самоубийства он увидел не в литературной невостребованности, не в особенностях индивидуальной психологии, приведших к патологическим эксцессам, а в более глобальном явлении, прояснившемся лишь благодаря исторической дистанции, – в «надрыве русского декадентства», отравленности его «ядами»[1379]1379
См.: Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 286, 291.
[Закрыть]. Согласно мысли Ходасевича, проходящей через ряд его мемуарных очерков, жизнь писателя-символиста оборачивалась возмездием за дерзновенные попытки эстетизации, символистского преображения жизни; в соответствующем ракурсе предстает под его пером и судьба Гофмана. Тот же подтекст, безусловно, осознавался и Ниной Берберовой, когда она писала о забытом поэте, покончившем с собой еще до «той», Первой мировой, войны.
«ПРОДОЛЖАТЕЛЬ РОДА» – СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ
Из всех словесных характеристик Сергея Михайловича Соловьева, внука великого историка, носящего те же имя, отчество и фамилию, пожалуй, самая известная и выразительная сформулирована в стихах – Андреем Белым в поэме «Первое свидание» (1921):
«Сережа Соловьев» – ребенок,
Живой смышленый ангеленок,
Над детской комнаткой своей
Восставший рано из пеленок, —
Роднею Соловьевской всей
Он встречен был, как Моисей:
Две бабушки, четыре дяди,
И, кажется, шестнадцать теть
Его выращивали пяди,
Но сохранил его Господь;
Трех лет, ну право же-с, ей-Богу-с, —
Трех лет (скажу без лишних слов),
Трех лет ему открылся Логос,
Шести – Григорий Богослов,
Семи – словарь французских слов;
Перелагать свои святыни
Уже с четырнадцати лет
Умея в звучные латыни,
Он – вот, провидец и поэт,
Ключарь небес, матерый мистик,
Голубоглазый гимназистик <…>[1380]1380
Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 415–416 («Библиотека поэта». Большая серия).
[Закрыть]
В этих словах сконцентрированы все наиболее значимые черты личности Сергея Соловьева, проявившиеся уже в раннем возрасте и широко развившиеся в зрелые годы: религиозно-мистическая устремленность, филологические интересы, философский склад ума, православная церковность (Григорий Богослов); наконец, принадлежность к разветвленному и богатому яркими индивидуальностями роду. Ощущение своей кровной, неотрывной причастности к большой семейной общности, взращенное в годы младенчества, всегда оставалось у Сергея Соловьева одним из важнейших формообразующих элементов его внутреннего мира и вызвало к жизни, в конце концов, книгу воспоминаний. «…Милый Сережа, блестящий человек, будущий ученый филолог, брат по духу и по кроим, великолепный патриарх, продолжатель рода (а я истребитель)» – так высказался о Соловьеве его троюродный брат Александр Блок[1381]1381
Письмо к Андрею Белому от 6 июня 1911 г. // Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903–1919. М., 2001. С. 407.
[Закрыть], особо подчеркнув – по контрасту с собой – именно «родовое» начало.
Раннее интеллектуальное и духовное созревание, также отмеченные в «Первом свидании», проявлялось, в частности, в том, что юный Сережа Соловьев, будучи пятью годами моложе как своего троюродного брата, так и ближайшего друга с отроческих лет Бориса Бугаева (вошедшего в литературу под именем Андрея Белого), общался с ними фактически на равных: возрастная дистанция, обычно определяющая характер взаимоотношений в раннюю пору жизни, в данном случае не сказывалась или, по крайней мере, не присутствовала на первом плане. Разумеется, интенсивному развитию сына в высокой степени способствовали родители – Михаил Сергеевич Соловьев и Ольга Михайловна Соловьева (урожденная Коваленская, двоюродная сестра матери А. Блока), представлявшие подлинную духовную элиту; именно им считал себя всецело обязанным Андрей Белый на путях своего внутреннего самоопределения: «Михаил Сергеевич Соловьев, брат философа, и супруга его, поощряют меня в моих странствиях мысли; необычайные отношения возникают меж нами; уж юноша 16–17-ти лет я дружу с маленьким Соловьевым (11–12-летним); особенно слагается близость меж мной и Ольгой Михайловной Соловьевой, художницей и переводчицей Рескина, Оскара Уайльда, Альфреда де-Виньи; в душе у О. М. перекликаются интересы к искусству с глубокими запросами к религии и мистике»[1382]1382
Андрей Белый. О Блоке: Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., 1997. С. 27. Об О. М. Соловьевой см. также: Мисочник С. М. Письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух // Шахматовский вестник. 1997. № 7. С. 133–138.
[Закрыть]. Сочетание влечений эстетических и религиозных, отмеченное Белым у О. М. Соловьевой, будет унаследовано и ее сыном, для которого, однако, еще более безусловным и покоряющим примером представал другой «родовой» образ – дяди, Владимира Соловьева[1383]1383
Судьба наследия Вл. Соловьева в сознании и интерпретациях Сергея Соловьева подробно прослежена в работе П. Гайденко «Соблазн „святой плоти“ (Сергей Соловьев и русский серебряный век)» (Вопросы литературы. 1996. № 4. Июль – Август. С. 72–127); см. также: Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., <2001>. С. 356–406 (Гл. 10. «Софиология и символизм. Сергей Соловьев»).
[Закрыть].
Сергей Михайлович Соловьев родился в Москве 13 октября 1885 г., учился в московской частной гимназии Л. И. Поливанова (как и, несколькими годами ранее, Андрей Белый и еще ранее Валерий Брюсов), по окончании ее в 1904 г. поступил на словесное отделение историко-филологического факультета Московского университета, осенью 1907 г. перевелся на классическое отделение, которое и закончил весной 1911 г. Выступать в печати со стихами и статьями начал с 1905 г., однако первые творческие пробы пера относятся к более раннему времени: детские писания Сережи Соловьева появились в рукописном журнале Блока-гимназиста «Вестник» в 1896–1897 гг. [1384]1384
Подробно об их взаимоотношениях см.: Переписка Блока с С. М. Соловьевым (1896–1915) / Вступ. статья, публ. и коммент. Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980. Кн. 1. С. 308–413.
[Закрыть], с 1898 г. он принимается сочинять стихи, и достаточно интенсивно (так, в его архиве сохранилась «Вторая книга стихов» – объемистая тетрадь стихотворений 1902–1903 гг. и стихотворных переводов из А. Шенье, Г. Гейне, А. де Мюссе и др.[1385]1385
РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 2. См. также другие автографы ранних стихотворений и стихотворных переводов С. Соловьева: РГАЛИ. Ф. 475. Оп. 1. Ед. хр. 1, 3, 4; РГБ. Ф. 696. Карт. 1. Ед. хр. 1.
[Закрыть]).
Ранние стихотворные опыты Сергея Соловьева лишь в незначительной части были доведены до печати, – что неудивительно, поскольку в большинстве своем эти рифмованные строки были сугубо ученическими упражнениями, попытками писать под воздействием поэзии Владимира Соловьева и пока еще никому, кроме близких родственников и знакомых, не ведомых юношеских стихов Александра Блока. Примечательный факт: в трех тетрадях Блока, содержащих беловые автографы его стихотворений 1897–1903 гг., Соловьевым переписаны его собственные стихотворения – всего 46 текстов[1386]1386
См.: Юношеские стихотворения Сергея Соловьева в рабочих тетрадях Александра Блока / Предисл. и публ. А. Лаврова // Блоковский сборник. XV. Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв. Тарту, 2000. С. 210–238.
[Закрыть]; налицо манифестация близости переживаний и устремлений двух начинающих поэтов, той духовной атмосферы, которую Блок позднее определит «временами мальчишеской мистики»[1387]1387
Письмо к Л. Д. Блок от 23 декабря 1914 г. // Литературное наследство. Т. 89: Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 342.
[Закрыть]. Те мистические интуиции и лирические вдохновения, которые нашли воплощение в блоковских «Стихах о Прекрасной Даме», безусловно, составляли тогда святая святых внутреннего мира юного Соловьева, но в его стихотворных опытах они обретали вполне внешнее, декларативное оформление, растворялись в заимствованных поэтических клише или оборачивались вариациями на заданную тему. Показательно в этом отношении его стихотворение (4 июля 1899 г.), переписанное в блоковскую тетрадь и начинающееся двумя первыми строками стихотворения Блока (18 мая 1899 г.), зафиксированного в той же тетради:
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом.
Ночной эфир на землю лился.
В душе ликующей моей
Видений светлых рой кружился.
Воспоминанья прежних дней
Во мне горели ярким светом.
Я слышал ясный голос твой
И, озарен твоим приветом,
Благословлял я жребий свой.
Деревья тихо трепетали;
Я видел свет – я к свету шел;
Во мраке молнии сверкали,
И озарен был тихий дол.
В огне заката ты сияла.
Стада паслися на лугах;
В зарницах ярких ты блистала
И рассыпалась на цветах[1388]1388
Блоковский сборник. XV. С. 216–217.
[Закрыть].
Попытку развить на свой лад блоковскую лирическую тему «Лучезарной Подруги» Соловьев предпринимает с использованием богатого арсенала поэтической фразеологии, накопленного еще в пушкинскую эпоху, путем монтажа заимствованных словосочетаний, включающих и почти дословные цитаты («Во мраке молнии сверкали» – «Во мраке молнии летали», строка из думы Рылеева «Смерть Ермака»). Разумеется, трудно ожидать у тринадцатилетнего автора выработанного самостоятельного поэтического голоса, однако характерно, что ученическая зависимость от классических образцов неизменно сказывается и в более зрелых стихотворениях Соловьева, отличающихся самым высоким уровнем поэтической культуры.
Впрочем, мистический энтузиазм, роднивший гимназиста Соловьева со студентами Бугаевым и Блоком, был подлинным – настолько, что на его основе сложился на короткое время, в 1903–1904 гг., своего рода эзотерический триумвират «соловьевцев»; все трое участников, стремясь быть верными духовным заветам Владимира Соловьева, внутренне дистанцировались как по отношению к самодовлеющему «декадентству» (концентрировавшемуся вокруг московских издательств «Скорпион» и «Гриф»), так и по отношению к религиозно-общественной проповеди на страницах журнала «Новый Путь», предпринятой Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус: «мирской», «посюсторонний», пропагандистский характер этой проповеди не был созвучен иррациональным и мифотворческим визионерским чаяниям трех эзотериков. Радость «единения в мистической идее Владимира Соловьева»[1389]1389
Соловьев С. Воспоминания об Александре Блоке // Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 22.
[Закрыть] Сергей Соловьев – то ли благодаря юношеской пылкости, то ли в силу своего природного бурного темперамента – переживал гораздо интенсивнее, чем Белый и в особенности Блок, и провозглашал ее с изрядной долей фанатизма; когда же в мировидении и творчестве Блока стали проступать новые тенденции, свидетельствовавшие о переоценке объединявших их заветов, когда эта переоценка получила свое художественное оформление в «Балаганчике», Соловьев выразил свое неприятие нового Блока столь же последовательно и прямолинейно, пойдя на фактический разрыв личных отношений.
Сам Сергей Соловьев, став студентом, также претерпел определенную эволюцию, начало которой положила, видимо, первая тяжелая жизненная драма в январе 1903 г. – одновременная смерть отца и матери, покончившей с собой сразу после кончины мужа. Восторженного мистического юношу-гимназиста сменил начинающий филолог, погрузившийся в античную культуру, которая открыла ему мир новых идеалов: религиозно-мистические и «теократические» мотивы в творческом мироощущении молодого поэта теперь сосуществуют с преклонением перед «язычеством», с прославлением земной красоты; норой «земные» ценности даже начинают доминировать над «небесными». Первую книгу своих стихов, появившуюся в 1907 г., Соловьев назвал «Цветы и ладан», и это двусоставное заглавие отражало дихотомию внутреннего мира автора, стремившегося к сочетанию равно дорогих ему, но конфликтующих в его сознании начал. Прообраз грядущей гармонии этих начал открылся Соловьеву в танце Айседоры Дункан; впечатления от этого мело-пластического действа побудили его к построению символических проекций самого общего плана, но имевших непосредственное отношение к решению собственных творческих задач. В заметке «Айсадора Дёнкан в Москве» (1905) Соловьев заявлял: «Красота всегда телесна <…> звук столь же телесен, как изгиб тела, краска. И телодвижение столь же духовно, как звук. <…> Айсадора Дёнкан дала нам предчувствие того состояния плоти, которое я называю „духовною телесностью“. В ее танце форма окончательно одолевает косность материи, и каждое движение ее тела есть воплощение духовного акта»[1390]1390
Весы. 1905. № 2. С. 33. Подпись: С. С.
[Закрыть].
Эта заметка стала дебютом Сергея Соловьева в печати[1391]1391
Сам Соловьев в автобиографии называет своим первым печатным выступлением публикацию в альманахе «Северные цветы ассирийские» (М., 1905) стихотворного цикла «Предания» (РГАЛИ. Ф. 341. Оп. 1. Ед. хр. 288), однако указанный альманах вышел в свет поздней весной 1905 г., в то время как заметка «Айсадора Дёнкан в Москве» была опубликована в февральском номере «Весов» за тот же год.
[Закрыть]; появилась она в «Весах», самом представительном журнале русских символистов. Вхождение начинающего автора в символистскую литературную среду, в которой уже вполне освоились и Белый и Блок, было закономерным и даже предопределенным. С 1905 г. Соловьев начинает регулярно печататься в «Весах», его произведения публикуются также на страницах других модернистских изданий – «Вопросов Жизни», «Золотого Руна», литературно-философских сборников «Свободная Совесть». Разочаровавшись в Блоке, Соловьев творит себе нового кумира, которому поклоняется одно время со всей безудержностью своего темперамента. Это – Брюсов; Соловьев чтит в нем блистательного мастера стиха и пытается ученически перенять его формальные приемы. К Брюсову обращен цикл стихотворений Соловьева, в котором мэтр русских символистов вознесен до предельных высот:
Ты, Брюсов, не был бы унижен
Среди поэзии царей,
И к ямбу Пушкина приближен
Твой новоявленный хорей.
И даже:
Соловьева не слишком смущают «декадентские» ноты поэзии Брюсова и этический релятивизм мастера, сказавшийся со всей отчетливостью в целом ряде его «дерзновенных» стихов[1393]1393
Так, в одном из писем к Блоку (от 24 декабря 1903 г.) Соловьев критически отзывается о Брюсове в связи с его «некрофильским» стихотворением «Призыв» («Приходи путем знакомым…», 1900), тогда еще не опубликованным, но получившим скандальную известность в авторском исполнении: «Я вижу у Брюсова весьма последовательную цепь противоестественных настроений. Начинается с любви к живым трупам, кончается уже определенной любовью к настоящему трупу. <…> Эта черта в Брюсове меня отталкивает. В общем: я Брюсова очень ценю и весьма к нему расположен, особенно высоко ставя его отзывы о моих стихотворениях, хотя во многом мы с ним принципиально и практически расходимся» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 406. Цитируется фрагмент письма, изъятый при публикации (см. примеч. 5) редакцией «Литературного наследства»). Год с небольшим спустя Соловьев уже вполне «принимает» упомянутое стихотворение, признаваясь в письме к его автору (10 марта 1905 г.): «Думая о ваших стихах, заметил в них Леонардовскую черту. В вас сильно сладострастие познания, вы зорко проникаете туда, куда страшно и не надо заглядывать:
Смерти таинство проверь. Это „проверь“ так гениально, что трудно о нем говорить. Тут замечательна именно математичность слова. И основательная дьявольщина» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 23).
[Закрыть]; в Брюсове он ценит полное и глубокое раскрытие того типа творчества – «аполлонического», рационально выверенного, изобразительно отчетливого и ясного, – к которому тяготел и он сам. В мемуарном наброске «Брюсов эпохи Urbi et orbi и Венка» (1924) Соловьев утверждает: «… возрождение русской поэзии в начале 20 в. имеет в Брюсове своего единственного начинателя. Перед ним стоит Бальмонт, за ним следует Блок, но эти типичные романтики, чистые лирики и импрессионисты, не могли создать эпохи и школы, их создал Брюсов, поэт мысли, классик по форме, ученый изыскатель, организатор и практик. На заре моей жизни я был совершенно раздавлен могучим гением Брюсова»[1394]1394
РГБ. Ф. 696. Карт. 3. Ед. хр. 7. Л. 1. Соловьев продолжал высоко ценить Брюсова и в зрелые годы. В частности, 9 января 1929 г. он выступил на 38-м заседании Брюсовского кружка с докладом «Философские воззрения Брюсова» (Ашукин Н. Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е. А. Муравьевой // Новое литературное обозрение. 1999. № 38. С. 199). Эволюция восприятия Соловьевым Брюсова прослежена в статье: Анчугова Т. В. От обожания к отрицанию (Отклики Сергея Соловьева на поэзию Брюсова. 1903–1912 гг.) // Брюсовские чтения 1996 года. Ереван, 2001. С. 245–258.
[Закрыть]. Романтические устремления и пафос индивидуального самовыражения в раннем творчестве Блока и Андрея Белого Соловьев разделяет и понимает, но в собственной поэтической практике он – безусловный «классик»: предпочитает брюсовскую «внешнюю» описательность, риторичность, самодовлеющую пластику образа, следование классическим образцам в тематике, стиле, стиховых формах. М. Л. Гаспаров справедливо отмечает, что Сергей Соловьев «по возрасту и духу принадлежал к младшему, религиозному символизму, а по выучке и стилю – к старшему, „парнасскому“»[1395]1395
Русская поэзия серебряного века. 1890–1917. Антология. М., 1993. С. 271.
[Закрыть]; не случайно среди поэтов, которых он переводил в первые годы своей литературной деятельности, – классик французской «парнасской» школы Жозе-Мариа де Эредиа[1396]1396
Четыре стихотворения Эредиа в переводе Соловьева были опубликованы в сборнике «Хризопрас» (М.: «Самоцвет», 1906–1907), еще одно («На Офрисе») – в журнале «Зори» (1906. № 11/14. С. 15–16). Три перевода из «Хризопраса» (кроме «Антония и Клеопатры») перепечатаны в кн.: Эредиа Жозе-Мариа де. Трофеи / Изд. подгот. Н. И. Балашов, И. С. Поступальский. М., 1973. С. 59, 66, 75 («Литературные памятники»); «Антоний и Клеопатра» – в кн.: Эредиа Жозе-Мариа де. Сонеты в переводах русских поэтов / Сост., предисл. и примеч. Бориса Романова. М., 2005. С. 262.
[Закрыть].
С кругом московских символистов Соловьев наиболее тесно сближается во второй половине 1900-х гг. – опять же главным образом благодаря Брюсову, который побуждает его к писанию рецензий в «Весах» и тем самым к поддержке «весовских» критико-полемических установок[1397]1397
Ср. свидетельство в цитированном мемуарном наброске Соловьева о Брюсове: «Однажды Брюсов зашел ко мне и, не застав, оставил мне сборник „Знания“ с запиской, где просил <…> разругать книгу и кончал словами: „Пора указать Горькому и К° их настоящее место“» (РГБ. Ф. 696. Карт. 3. Ед. хр. 7. Л. 4 об.).
[Закрыть]. Но и в эту пору его сотрудничество в символистских изданиях не становится особенно активным; Соловьев как будто движется по течению, влекомый захватившим его общим потоком. Две книги его стихов, «Апрель» и «Цветник царевны», были выпущены в свет издательством «Мусагет», но в бурной внутренней жизни этого символистского объединения Соловьев деятельного участия не принимает. Подспудно он ощущает чужеродность себе многого из того, что составляло плоть и кровь «нового» искусства. «Чувствую глубокое раскаяние в том, что участвовал эту зиму в декадентских журналах. С Гоморрой и Содомом нельзя шутить безнаказанно», – признавался он в письме к Г. А. Рачинскому от 21 марта 1907 г.[1398]1398
РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2903.
[Закрыть]. «Декадентское» начало в символизме всегда было для него неприемлемо, и поскольку Соловьев склонен был очерчивать границы этого понятия весьма расширительно – включая в них любые формы иррационального творчества, лирическую стихийность и «романтическую невнятицу», – то его разлад с современной модернистской литературой приобретал принципиальный характер. Полагая, что «декадентское искусство есть плод перезрелой культуры», Соловьев противопоставлял ему символизм как высшую форму сознательного и ответственного творчества, исполненного высших задач: «Символическая поэзия есть наука о Вечности, как физика и химия – наука о природе. Как всякая наука, символическая поэзия – точна и определенна. Ее неясность есть сложность алгебраической формулы и ничего общего не имеет с мистицизмом и фантастикой»[1399]1399
Соловьев Сергей. На перевале. XIII. Символизм и декадентство // Весы. 1909. № 5. С. 54.
[Закрыть].
Образцы подлинной символической поэзии Соловьев находил почти всегда в прошлом, оставаясь в этом отношении последовательным «архаистом». Жуковский, Пушкин, поэты пушкинского круга – это в его восприятии истинный «золотой век» русской поэзии, на смену которому пришел «серебряный век» (Фет, Полонский)[1400]1400
Соловьев интерпретирует таким образом эти формулы в статье «Идея церкви в поэзии Владимира Соловьева» (1913). См.: Соловьев Сергей. Богословские и критические очерки. Собрание статей и публичных лекций. Томск, 1996. С. 124, 130.
[Закрыть], после чего наступила поэтическая деградация в «декадентстве». Аналогичную эволюцию он усматривает и в русской прозе: «Гоголь и Тургенев – последние художники слова. Любовь к слову испаряется у Достоевского, совсем гаснет у Толстого, этого последовательного врага Λογοςʼа. Наконец, хам вторгается в нашу литературу в лице земского доктора и босяка»[1401]1401
Соловьев С. Заметки // РГБ. Ф. 190. Карт. 55. Ед. хр. 6 (текст в гранках, предполагавшихся к публикации в журнале «Труды и Дни», 1912).
[Закрыть]. Не выше, чем Чехова или Горького, Соловьев ценил и многих других именитых своих современников. Модернистские кумиры оставляют его равнодушным либо вызывают в нем резкое неприятие. Уайльду или Д’Аннунцио он безусловно предпочитает Вальтера Скотта; восхищаясь этим «архаическим» повествователем, он находит родственную душу в Юрии Сидорове, рано умершем начинающем поэте, также искавшем в романах английского классика «разумность и объективную красоту»[1402]1402
Соловьев Сергей. Юрий Сидоров // Сидоров Юрий. Стихотворения. М., 1910. С. 20. См. также: Долинин А. История, одетая в роман. Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988. С. 291–293.
[Закрыть]. Примечателен и перечень поэтов, которых в качестве «главных образцов» приводит Соловьев в предисловии к первой книге стихов: Гораций, Ронсар, Пушкин, Кольцов, Баратынский, Брюсов и Вяч. Иванов[1403]1403
Соловьев Сергей. Цветы и ладан. С. 10.
[Закрыть]. Современники – только двое последних, поэты с огромным потенциалом культурной памяти, знатоки и поклонники античной литературы и во многих существенных чертах такие же «архаисты», каким стремился быть Сергей Соловьев.
«Цветы и ладан» сочувственно отрецензировал Андрей Белый[1404]1404
Перевал. 1907. № 7 (май). С. 58–60.
[Закрыть], – и в этом автор мог усмотреть дань старой дружбе, отрицательно отозвался о книге Блок[1405]1405
Разбор книги Соловьева Блок дал в статье «О лирике», впервые опубликованной в «Золотом Руне» (1907. № 6). См.: Блок Александр. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 151–156.
[Закрыть], – и в этом автор с теми же основаниями мог распознать последствие личного разрыва; зато в отзывах критиков сторонних Соловьев услышал похвалу именно за то, к чему стремился в своих творческих заданиях. «Это – поэзия свежая, несмотря на всю строгость технической отделки стихов, и это мастерство, которого далеко не в полной мере достигли многие из опытных поэтов, – заключал Н. Я. Абрамович. – Дебютант <…> показал настоящую своеобразность в творческих мотивах и поистине высокое совершенство формы. Такую строгость в чеканке стиха, в сжатом выявлении образа, в красивой простоте, уловленной как художественный прием из стихов Пушкина, вряд ли можно найти у кого-либо из современных поэтов, даже у такого мастера чеканки, как учитель С. Соловьева – В. Брюсов. <…> В авторе виден поэт, с собственными прекрасными силами, вооруженный не хуже виднейших наших лириков»[1406]1406
Новая Книга. 1907. № 1, 21 июня. С. 20. Подпись: Н. Я. А-вич.
[Закрыть]. В том же ключе высказался Борис Садовской: «…в авторе „Цветов и ладана“ природный талант счастливо сочетался с трудолюбием взыскательного художника <…> все почти стихотворения г. Соловьева отличаются безупречной ясностью и чистотой стиля, – качества, доказывающие, что в деле словесного искусства поэт достиг высокого совершенства. По общему характеру своего теперешнего творчества г. Соловьев должен быть причислен к числу виднейших представителей нео-пушкинской школы»[1407]1407
Русская Мысль. 1907. № 6. Отд. III. С. 106–107.
[Закрыть]. Сам «неопушкинианец», Садовской едва ли не впервые, разбирая книгу Соловьева, указал на новое характерное явление, которое, зародившись в рамках символистской школы как ее «неоклассическая» составляющая, в своем развитии возвещало ей внутреннюю альтернативу. Несколько лет спустя С. Н. Дурылин вновь написал о Сергее Соловьеве как выразителе «послушливого переимчивого нео-пушкинианства»: «… он был причисляем к лучшим нашим пушкинианцам, прекрасная ясность стала действительным достоинством его поэзии, ревность по строгой форме всегда была ему присуща»[1408]1408
Дурылин С. Луг и цветник. О поэзии Сергея Соловьева // Труды и Дни. 1914. Тетрадь 7. С. 152. См. также новейший опыт интерпретации поэзии С. Соловьева: Скрипкина В. А. «Мира невольник» (О поэзии Сергея Соловьева) // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5/6. С. 105–119.
[Закрыть].
Весьма сурово отозвался о «Цветах и ладане» тот, чье мнение было для автора дороже всего, – Валерий Брюсов. Признавая в Сергее Соловьеве «одну из лучших надежд нашей молодой поэзии», «мэтр» символистов отметил, однако, что его творчество «еще не вышло за пределы перепевов и подражаний», что «нет в его книге личных, единственных переживаний»: «„Цветы и ладан“ – книга, быть может, поэта, но еще не книга поэзии, а только книга стихов, хотя порой прекрасно сделанных и часто завлекательно интересных для любителей стихотворной техники. „Цветы и ладан“ – книга попыток, но автор не пытается в ней выразить свою душу, а только пробует разные способы выражения <…>»[1409]1409
Брюсов Валерий. Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990. С. 231–232. (Впервые: Весы. 1907. № 5.)
[Закрыть]. При этом Брюсов не упускает возможности привести множество примеров, свидетельствующих о том, что и в «способах выражения» Соловьев далеко не всегда безупречен. Соловьев был настолько уязвлен этой критикой, что в следующей своей книге, сборнике сказок и поэм «Crurifragium» (1908), поместил «Ответ Валерию Брюсову», содержавший общие и частные возражения. Брюсов, однако, остался верен своему сложившемуся мнению и в рецензии на вторую книгу стихов Соловьева «Апрель» (1910): «С. Соловьев все еще остается талантливым учеником, поэтом, „подающим надежды“, но не выступает как самостоятельный мастер. Он все еще не нашел ни своего стиха, ни своего круга наблюдений, ни, главное, своего отношения к миру. У молодого поэта по-прежнему нет определенного миросозерцания, осмысливающего отдельные впечатления и объединяющего разнородные переживания»[1410]1410
Там же. С. 313. (Впервые: Русская Мысль. 1910. № 6.)
[Закрыть]. И на этот раз Соловьев счел необходимым выступить с ответными объяснениями: в предисловии к третьей книге стихов, «Цветник царевны», он заявлял, что «книга стихов не должна непременно являться выражением цельного и законченного миросозерцания», что «ставил себе чисто художественные задачи» и т. д., – не понимая или не желая понять смысла брюсовской критики[1411]1411
Соловьев Сергей. Цветник царевны. Третья книга стихов (1909–1912). М., 1913. C. X–XI. О том, что реакция Соловьева на отзыв Брюсова об «Апреле» была бурной, свидетельствует письмо автора к рецензенту от 5 октября 1910 г.: «…мне очень грустно, что до Вас дошло известие о минутном раздражении, которое вызвали во мне некоторые слова Вашей рецензии. Во всяком случае ни о какой обиде не может быть речи. <…> Но как бы низко ни оценивали Вы мои литературные способности, я всегда был и остаюсь горячим поклонником Вашей поэзии» (РГБ. Ф. 386. Карт. 103. Ед. хр. 23).
[Закрыть]. Едва ли, рецензируя «Цветник царевны», Брюсов смог бы добавить что-то существенно новое к сформулированному в отзыве об «Апреле»; в «Русской Мысли» третью книгу стихов Соловьева вместо него оценил другой рецензент, В. Шмидт, коснувшийся, однако, и «пререканий» автора с Брюсовым. Соловьев, по мнению рецензента, «защищается так, как будто бы от него требовали стихотворного изложения отвлеченной философской системы. В действительности речь идет совсем не об этом <…> поэт должен уметь заставить нас видеть вещи такими, какими он их видит. Именно этого и нет у г. Соловьева <…> В лучшем случае, ему удается недурно сделать стихотворение под того или иного поэта, т. е. передать своими стихами чужое „отношение к миру“. Но как только он покидает заимствованный канон и пытается настроить лиру на свой собственный лад, – муза его беспомощно опускает руки»[1412]1412
Русская Мысль. 1913. № 10. Отд. IV. С. 367.
[Закрыть].
С Брюсовым и развивавшим его мысли незаметным литератором В. Шмидтом солидаризировались и другие авторы, писавшие о стихах Сергея Соловьева. B. М. Волькенштейн, приведя подборку цитат из «Апреля», резюмировал: «Пушкин, Баратынский, Тютчев, Жуковский, Андрей Белый, и т. д. и т. д. Стихи г. Соловьева – пестрая и безжизненная амальгама чужих мыслей, чужих изобретений»[1413]1413
Современный Мир. 1910. № 6. Отд. II. С. 103.
[Закрыть]. Если в рецензии на «Апрель» Н. Гумилев характеризует «книжную» стилистику Соловьева скорее сочувственно, то о «Цветнике царевны» отзывается уже с явным разочарованием, видя в стихах, составивших сборник, «то упражнения на исторические и мифологические темы, то неловкое наивничанье „под“ старых поэтов»[1414]1414
Гумилев H. С. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 106, 167.
[Закрыть]. Репутация высокопрофессионального стихотворца, не наделенного ярким индивидуальным дарованием, которое позволило бы ему стать вровень с крупнейшими мастерами своей эпохи, применительно к Сергею Соловьеву представляется вполне оправданной – и все же нуждается в некоторых коррективах.
«Будучи рожден скорее грамматиком, чем поэтом», – мимоходом замечает герой прозаической «византийской повести» Соловьева «История Исминия»[1415]1415
Аполлон. 1910. № 10. Литературный альманах. С. 23.
[Закрыть]. Вольно или невольно, Соловьев придал здесь Исминию очертания собственной личности. В годы, когда составлялись и выходили в свет его первые книги (в которых он уже вполне достиг того уровня формального мастерства, выше которого позднее не поднимался), Соловьев предавался упорным филологическим штудиям, изучал античных классиков, постигал исторические формы стихосложения – и, осознанно или бессознательно, подходил с филологическими, профессиональными критериями к исполнению собственных творческих заданий. Филология предполагает интерпретацию привлекаемого словесного материала – и Соловьев к трем своим книгам составляет развернутые предисловия, в которых истолковывает свои творческие намерения, формулирует философско-эстетические критерии, называет имена авторов, которые на него повлияли. Филологи имеют дело с чужими текстами – и Соловьев переводит все волнующие его темы и мотивы в регистр «чужого слова»; свой «сознательный» подход к творчеству осуществляет в форме «опытов», переложений и изложений заведомо известного и узнаваемого, в виде упражнений на заданную тему: образы рождались из образцов, часто образцы и оставались образцами, не обретя нового художественного статуса. Подобно тому как для древних авторов основным исходным материалом служила античная мифология, так и для Соловьева неисчерпаемым резервуаром для собственных вдохновений становилась вся мировая культура – история, религия, поэзия, та же античная мифология; блестяще образованному автору этого было достаточно, прочный культурный панцирь надежно защищал от стихии «бессознательных» творческих порывов. Справедливо отмечено: «Книги Соловьева читаются, как антологии. Как Жуковский, только менее умело, он складывал свой художественный мир из чужих миров – у Жуковского переводных, у Соловьева подражаемых»[1416]1416
Гаспаров М. Л. Стих начала XX в.: строфическая традиция и эксперимент // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX – начала XX в. М., 1992. С. 351.
[Закрыть]. Один из грандиозных незавершенных замыслов Брюсова – книга стихов «Сны человечества», которая должна была представить основные темы и формы поэтического творчества всех времен и народов в авторском исполнении на русском языке. Книги стихов Сергея Соловьева в какой-то мере можно рассматривать как аналог этого брюсовского «неконченого здания».