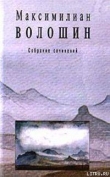Текст книги "Русские символисты: этюды и разыскания"
Автор книги: Александр Лавров
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 49 страниц)
В приведенной строфе содержится намек на причину расхождения с Гофманом, о котором Брюсов в воспоминаниях о поэте сообщает довольно глухо: «Кто был в нем виноват, судить не здесь и прежде всего не мне. Во всяком случае, позже я сам признал свою долю вины, первый обратясь к В. Гофману, чтобы возобновить наши отношения. Но это было уже несколько лет спустя, а в годы 1904–1905 мы почти не встречались»[1294]1294
Брюсов В. Среди стихов. С. 512.
[Закрыть]. Более откровенно ситуацию проясняет Ходасевич: «Гофман провинился. Вина была маленькая, ребяческая. Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов. Имел Гофман основания хвастаться или не имел – все равно. Делать это, конечно, не следовало. Но что поднялось! Наказание оказалось во много раз сильнее вины»[1295]1295
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 287.
[Закрыть]. И с полной откровенностью казус изложен в воспоминаниях Нины Петровской: «Рославлев и Гофман, первый из органического своего пристрастия ко лжи вообще, второй, верно, от юности, похвастались где-то и к тому же одновременно „моей взаимностью“. Узнал об этом первым Саша Койранский и на улице ударил перчаткой Гофмана по лицу»[1296]1296
Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Paris, 1989. Вып. 8. С. 37. Та же ситуация затрагивается в письме С. А. Соколова, руководителя издательства «Гриф» и мужа Н. И. Петровской, к А. А. Шемшурину от 14 марта 1904 г. – в ответ на предпринятую последним попытку заступиться за Гофмана: «…не нахожу все же оснований изменить мою точку зрения на Гофмана. Говорят, я – доверчивый человек и слишком отдаюсь порыву, чтоб отличить верное от неверного. Не знаю, Андрей Акимович, кто слишком доверчивый человек, – тот ли, кто видит низость в действиях взрослого лица, позволяющего себе непристойными виршами позорить доброе имя порядочной женщины из самого низкопробного желания прослыть Дон-Жуаном, или тот, кто, допуская себя поддаться его уверениям и запоздалому, лицемерному раскаянию, видит в его действиях лишь детскую шалость. <…> Нимало не сомневаюсь, что Гофман очень не прочь примириться со мной, т<ак> к<ак> это открыло бы ему много дверей, для него очень ценных, куда ему теперь бесполезно стучаться. Но мне, при всей моей доверчивости, слишком ясны белые нитки его раскаяния. Жаль, что они неясны для Вас. Объясняю это чрезмерной симпатией к Гофману, – чрезмерной даже в ущерб для себя, – ибо Вы лично говорили мне, что, явившись в Ваш дом, с Рославлевым, – Гофман начал с сообщения всяких сплетен и вздорных измышлений обо мне и моем деле, – а теперь, после беседы с Гофманом, в Вашем письме говорите, что Гофман никогда ни при Вас, ни при Ваших друзьях не говорил ни слова худого про меня и жену, а к моей деятельности всегда относился с уважением. <…> В уважении людей, подобных Гофману и Рославлеву, я не нуждаюсь, – напротив, их враждебное отношение почитаю весьма лестным для себя» (РГБ. Ф. 339. Карт. 5. Ед. хр. 19).
[Закрыть].
Все эти скандальные перипетии относятся к 1904 г. – ко времени зарождения бурного романа Брюсова и Петровской, и неудивительно, что «консул» резко переменился в отношении к своему «ликтору». В то же время Ходасевич, вспоминая о последствиях гофмановского «проступка» и утверждая, что «Брюсов отдал приказ изгнать Гофмана из всех модернистских журналов и издательств»[1297]1297
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 287.
[Закрыть], заметно утрирует реальное положение дел. Гофман действительно на протяжении двух с лишним лет не печатался в подконтрольных Брюсову изданиях[1298]1298
15 февраля 1906 г. Гофман выслал вместе с письмом к Брюсову (РГБ. Ф. 386. Карт. 83. Ед. хр. 42) для напечатания в «Весах» стихотворный цикл «Светлые песни», однако тогда эта публикация не состоялась.
[Закрыть], но возобновил прерванное сотрудничество, по брюсовской инициативе, в конце 1906 г. (тогда же восстановились и их личные взаимоотношения, вполне приязненные, но без прежней доверительности); вновь ближайшим литературным сподвижником Брюсова Гофман не стал, но выступать в «Весах», главном органе московских символистов, со стихами, заметками, рецензиями стал регулярно (согласно подсчетам современного исследователя, в 1906–1909 гг. он напечатался в «Весах» 24 раза[1299]1299
Минувшее. Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 13. С. 51 / Примеч. Р. Л. Щербакова.
[Закрыть]). «Изгнанием» из модернистских кругов Ходасевич отчасти объясняет и уход Гофмана в газетную работу – однако главной причиной этой поденщины стала (отмеченная им же) насущная потребность в заработке: «…как раз в это время умер отец Гофмана, дела семьи пошатнулись»[1300]1300
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 287.
[Закрыть]. Гонорары, получаемые от малотиражных модернистских изданий, давали тогда средства для существования лишь литературным звездам первой величины, вознаграждение же от газетных выступлении, частых и регулярных, могло обеспечить сносную жизнь вполне рядовым литераторам.
В середине 1900-х гг. Гофман печатается в московской периодике чрезвычайно интенсивно – в газетах «Русский Листок», «Москвич», «Век», «Свободный Труд», «Раннее Утро», «Вечерняя Заря», «Руль», в журналах «Дело и Отдых», «Русский Артист» (за собственной подписью, анонимно и под псевдонимами Маска, Чужой, Виллис, Xénios, – et—, Victor, Vi-or, В. В. Г.)[1301]1301
В архиве Гофмана сохранились две большие тетради с вклеенными в них вырезками его газетных и журнальных публикаций (РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 7, 8).
[Закрыть]. Его корреспонденции отличаются чрезвычайно широким тематическим диапазоном: обзоры художественных выставок, статьи о современной литературе, рецензии на новые книги – российские и переводные, а также публицистические выступления на актуальные общественно-политические темы («Бюрократизм в конституционном государстве», «Идея царской власти с точки зрении философов», «Всеобщее голосование с точки зрения философии», «Экономические основы марксизма», «О представительном правлении» и т. д.).
Активно выступая в амплуа газетного обозревателя, Гофман продолжал свою деятельность и на привычном литературном поприще. С осени 1904 г. до сентября 1905 г. он был секретарем московского художественного журнала «Искусство» (редактор-издатель И. Я. Тароватый; 1-й номер вышел в январе 1905 г.) и редактором его критико-библиографического отдела[1302]1302
Подробнее об этом издании см.: Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 227; наст. изд. С. 457–458.
[Закрыть]. Основной контингент участников «Искусства» составляли начинающие литераторы символистского круга; оказавшись одним из организаторов и руководителей этого недолговечного издания, Гофман получил возможность попробовать свои силы в роли, аналогичной роли Брюсова в несопоставимо более престижных «Весах». В «Искусстве» Гофман поместил несколько рецензий, а также статьи «Что есть искусство. Опыт определения» (№ 1) и «О тайнах формы» (№ 4). В предпринятых теоретико-эстетических разработках он оказался столь же зависимым и вторичным, сколь и в поэтических опытах юношеских лет, – вторичным на сей раз по отношению к эстетическим основоположениям Шопенгауэра и новейшему символистскому манифесту Брюсова «Ключи тайн» (1904). Гофман отстаивает символизм как «систему выражения невыразимого»[1303]1303
Искусство. 1905. № 4. С. 37.
[Закрыть], выдвигает идею «мистического интимизма», которым, по его мысли, проникнуто истинное искусство, являющее собой «воплощение в своих, ему лишь свойственных формах тех таинственных постижений и проникновений в мир запредельного, которые открываются нам на пути самоуглубления и мистицизма, на пути через душу», «прозрение в мир нуменального на пути мистицизма и углубления в тайники своей души и воли»[1304]1304
Искусство. 1905. № 1. С. 22, 23.
[Закрыть]. Заметного резонанса гофмановский «мистический интимизм» не вызвал, как и журнал «Искусство» в целом, из которого, незадолго до его прекращения, Гофмана вытеснил более предприимчивый и деловитый С. А. Соколов (Кречетов)[1305]1305
6 сентября 1905 г. Гофман писал в этой связи А. С. Рославлеву: «Я более не секретарь „Иск<усства>“ и не имею к нему никакого касательства теперь, кроме разве пребывания моего имени в списке сотрудников журнала. Произошло это так: Тароватый вступил в какой-то таинственный договор с Соколовым, по которому тот оказался вторым полновластным редактором журнала (по литературно-критическому отделу). Моя роль, следов<ательно>, естественным образом окончилась» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 1311).
[Закрыть].
Эфемерное «Искусство» так и осталось для Гофмана единственным московским изданием, которое он мог воспринимать «своим»; во всех прочих – в том числе и в «Весах» в последние три года их существования – он был лишь более или менее желанным корреспондентом. Внешние активные связи с газетным миром творческого удовлетворения принести не могли, Гофман тяготился постоянной необходимостью растрачивать силы ради хлеба насущного и все же старался сконцентрировать их на том литературном труде, в котором видел свое истинное призвание. «…У него была прекрасная черта – строгость к себе, – отмечает Ходасевич. – Знал он, что надо работать серьезно и много; было в его отношении к подвигу писателя глубокое целомудрие. И вот, ближайшие годы, 1906, 1907, 1908, посвящает он напряженной поэтической работе»[1306]1306
Ходасевич В. Виктор Викторович Гофман. С. XIX.
[Закрыть]. Возобновивший контакты с Гофманом Брюсов также подметил, что время и различные жизненные испытания кардинально изменили психологию и мироощущение прежнего легкомысленного и самоуверенного поэта «пажа»: «В. Гофман перенес мучительную болезнь; потом принужден был временно разойтись с семьей. Гофман начал жизнь самостоятельную, что нелегко было для юноши его лет и его привычек. <…> Пришла и серьезная любовь, на время властно покорившая молодого поэта»[1307]1307
Брюсов В. Среди стихов. С. 514.
[Закрыть]. К сожалению, мы лишены возможности дать к этим свидетельствам какие-либо конкретные пояснения и добавления, за отсутствием их в архиве Гофмана и среди других эпистолярных и документальных материалов, оказавшихся в нашем поле зрения; очень обтекаемо и неполно охарактеризована личная жизнь Гофмана и в биографическом очерке, написанном его сестрою. Скудость сведений о Гофмане во второй половине 1900-х гг. отчасти объясняется и тем добровольным затворничеством, на которое обрек себя поэт: тот же Брюсов сообщает о своих стараниях «уговорить юношу отказаться, хотя бы отчасти, от своей замкнутости», расширить круг общения, участвовать в разнообразных литературных предприятиях[1308]1308
Там же. С. 515. Одна из непроясненных и весьма интригующих литературных связей Гофмана этого времени – его дружба с юношей В. Маяковским, якобы имевшая место в 1907–1909 гг.; о ней сообщает (со слов Маяковского) Д. Д. Бурлюк: Маяковский «знал много стихов своего раннего друга наизусть, а также хранил в памяти бульварные его похождения»; Бурлюк воспроизводит и слова Маяковского: «Странно, Давид, что Гофману не удалось убедить меня сделаться поэтом. Правда, я уже в 1907 году что-то писал, но бросил и позабыл» (Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. / Отв. ред. А. Е. Парнис. М., 1985. С. 510).
[Закрыть].
Свои стихи этой поры Гофман объединил в книге «Искус», составленной и выпущенной в свет со значительным опозданием, в начале декабря 1909 г. (на титульном листе указан 1910 г.). В отличие от «Книги вступлений», автор которой предстал, по формулировке И. Ф. Анненского, как «птенец гнезда Бальмонта»[1309]1309
Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 369 («О современном лиризме», 1909).
[Закрыть], это был уже итог вполне определившихся и самостоятельных свершений; достоинства своей поэтической индивидуальности Гофман сумел в новой книге усилить и развить, а несовершенства – сгладить. Вместе с тем существенно новых красок на его поэтической палитре не прибавилось; тематика, стилистика, ритмико-интонационная структура, лирические мотивы «Книги вступлений» воспроизводились в «Искусе» заново, но лишь более уверенной и опытной рукой мастера; упорно варьировались прежние образные доминанты: например, все та же, выше отмеченная, «нежность» («Весь мир – бирюзовая нежность», «Бирюзовая, тихая нежность», «Дни воспаленной, тоскующей нежности»[1310]1310
Гофман В. Собр. соч. Т. 2. С. 136, 140, 172.
[Закрыть] и т. д.). По-прежнему поэт замыкался в пределах сугубо камерной проблематики: красоты природы, любовь, переживания уединенного сердца, «демоническая» действительность в отражениях эстетизирующего сознания.
В критических отзывах об «Искусе», даже самых благосклонных, вновь замелькало имя Бальмонта как главного гофмановского вдохновителя; при этом отмечались «мягкий, красивый тон» на всем сборнике (С. А. Адрианов)[1311]1311
Вестник Европы. 1910. № 5. С. 359.
[Закрыть], «поворот и к большей простоте, и большей ясности образа и формы» (Л. М. Василевский)[1312]1312
Речь. 1909. № 343, 14 декабря. С. 3. Подпись: Л. Вас-ий.
[Закрыть], «много простоты, искренности, дыханья полей и свежей любви» (H. Е. Поярков)[1313]1313
Руль. 1910. № 209, 2 января. С. 3.
[Закрыть]. Г. И. Чулков, похваливший книгу за «истинный и чудесный лиризм», в то же время указал на ее «чрезмерную простоту», угрожающую перейти в банальность[1314]1314
Новый Журнал для всех. 1910. № 15, январь. Стб. 144, 143. Подпись: Б. Кремнев.
[Закрыть]. Более резок был В. М. Волькенштейн, увидевший в «Искусе» лишь манерность, многословие и «расплывчатую мечтательность»[1315]1315
Современный Мир. 1910. № 2. Отд. II. С. 124.
[Закрыть]; скептический отзыв дал М. А. Кузмин[1316]1316
Аполлон. 1910. № 4, январь. Отд. II. С. 63–64. См. отзыв Гофмана о рецензии Кузмина в письме к А. А. Шемшурину от 23 марта 1910 г. (Писатели символистского круга: Новые материалы. С. 276).
[Закрыть], а С. М. Городецкий уничижительно окрестил Гофмана «дамским поэтом» («…в нем неизменно присутствует свое, голубовато-нежное, именно так изогнутое – дамское»[1317]1317
Вестник Литературы (Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии). 1910. № 1. Отд. I. Стб. 26.
[Закрыть]). Брюсов в своем отзыве на «Искус» (Русская Мысль. 1910. № 2), вполне благосклонном, отметив, что Гофману удалось в новой книге сохранить лучшее качество ранних стихов, певучесть, и преодолеть их основной недостаток, бессодержательность, претворить «прежнее жеманство» в изящество, в то же время констатировал: «…общий характер поэзии Гофмана остался прежний. Став несколько более глубокой, она осталась однообразной: ее кругозор не велик; на ее лире струн не много»; «В. Гофман менее всего новатор. Допуская в своих стихах кое-какие безобидные новшества, он в технике, в общем, остался верным учеником А. Фета, К. Фофанова, К. Бальмонта. <…> Однако у стихов В. Гофмана есть что-то свое, хотя слабый, но особенный, им одним свойственный аромат»[1318]1318
Брюсов В. Среди стихов. С. 305–307. Рецензию на «Искус» Брюсов включил в свою книгу «Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» (М., 1912). См.: Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 344–345.
[Закрыть].
Будучи воспринятым в 1910 г. скорее как дань поэтической традиции, чем в орбите новейших исканий, «Искус» значительным литературным событием не стал. Гофман подтвердил свое право считаться поэтом с собственным выражением лица, но уже не сумел этим выражением лица никого глубоко заинтересовать. Весь доступный ему лирический спектр исчерпывался тем, что было открыто и освоено русской поэзией на рубеже веков; десять лет спустя эксплуатация достижений, освященных именем Бальмонта, уже живого классика, означала лишь принадлежность к поэтическому арьергарду. Другие же пути самовыражения в рамках символистской литературной культуры Гофман считал закрытыми для себя; в частности, совершенно чуждыми для него были религиозно-теургические, «жизнетворческие» и мифотворческие уклоны, поэтический кругозор его оставался эстетическим, и только эстетическим. Свою установку он сформулировал еще в 1903 г. в стихотворении «Многим» – лаконичном полемическом манифесте, еще по-юношески наивном и декларативном:
Чутко улавливая литературную ситуацию и трезво оценивая собственные возможности, Гофман пришел к радикальному решению – вообще отказаться от стихотворчества. Примечательно, что такое решение (высказанное, в частности, в письме к А. А. Шемшурину от 9 декабря 1909 г.) он принял еще до формирования и выхода в свет «Искуса», который стал для него книгой подведения поэтических итогов; последние стихи, включенные в этот сборник, датируются 1908 годом. 8 сентября 1909 г. Гофман писал сестре: «Пять последних лет <…> было время испытаний, время колебаний, внутренних переломов, падений и подъемов. Это был мой искус перед посвящением. Я знаю, что я его преодолел, и я чувствую себя теперь посвященным (в звание писателя)»[1320]1320
РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 9. Письмо процитировано в биографическом очерке Ходасевича «Виктор Викторович Гофман» (Гофман В. Собр. соч. T. 1. С. XIX–XX).
[Закрыть]. И еще ранее, 17 мая 1909 г. – Брюсову: «В своем беллетристическом призвании я утверждаюсь все более. Если удастся написать летом не слишком мало, мечтаю с осени стать только беллетристом»[1321]1321
РГБ. Ф. 386. Карт. 83. Ед. хр. 42. См. также: Писатели символистского круга. С. 271.
[Закрыть].
«Первые прозаические опыты его относятся еще к 1906 году, – сообщает Ходасевич. – По крайней мере, в одном издании, вышедшем в 1906 году, значится в объявлении: „Готовится к печати: Виктор Гофман. Сказки каждого дня. Проза“. От этих „Сказок каждого дня“ не сохранилось ни строчки. Вероятно, Гофман не был ими доволен и уничтожил рукопись. Но над прозой работу он, видимо, не оставлял с тех уже пор, – а с 1909 года отдался ей всецело»[1322]1322
Ходасевич В. Виктор Викторович Гофман. С. XX. Ср. свидетельства Л. В. Гофман в набросках к биографии ее брата: «В 1906 году <…> В. В. готовил к печатанию 1-ую книгу в прозе. Об этом свидетельствует Каталог к выставке картин молодых художников <…> Что это были за сказки – я не знаю, лишь смутно помню, что В. В. рассказывал мне однажды сюжеты из них, – но были ли они уже написаны или только создавались образы, написал ли он их стихами или прозой, я ничего не знаю» (РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 21. Л. 1–1 об.).
[Закрыть]. Рубеж в литературной биографии Гофмана, обозначенный отказом от сочинения стихов и переходом к прозаическим опытам, осмыслялся им самим как рубеж между юношеским, ученическим и зрелым, самостоятельным творчеством, между предварительными пробами пера и попытками осуществления своего подлинного литературного призвания. Чувствуя, что в Москве он лишен возможностей и живых стимулов для творческой самореализации, Гофман решил начать жизнь и литературную деятельность с чистого листа: в феврале 1909 г. он переехал на постоянное жительство в Петербург. Привлекали его более разнообразные и широкие, чем в Москве, возможности писательства, сотрудничества в столичных журналах и газетах (литературный заработок по-прежнему был для него основным источником существования), но были для перемены места жительства и личные мотивы, о которых глухо сообщает Брюсов (к сожалению, мы лишены возможности добавить к его указаниям на какую-то мучительную для Гофмана любовную связь что-либо более определенное): «…необходимо было в корне изменить жизнь. Другие лучше меня смогут объяснить эти условия. Только по отрывочным намекам из слов самого Гофмана я знаю, что он более не мог продолжать жизнь, которую вел последние четыре года. Считаю себя вправе засвидетельствовать, что Гофман в этих обстоятельствах держал себя с благородством безупречным. Он сам сильно страдал от создавшегося положения, но вся жизнь казалась впереди, и было преступлением искажать ее ради педантических понятий об отвлеченном „долге“. Гофман решительно рассек узы прошлого и пошел навстречу новой жизни»[1323]1323
Брюсов В. Среди стихов. С. 516.
[Закрыть].
И на первых порах, и уже основательно обжившись в Петербурге, Гофман неизменно утверждал, что поступил правильно, отважившись окунуться в новую литературную среду. «Вообще чувствую себя сейчас хорошо: знаю, что я на верном пути, – писал он матери из Петербурга 23 марта 1909 г. – Теперь неуклонно буду отвоевывать себе прочное положение на вею жизнь: конечно, теперь уже пора определяться окончательно, не разбрасываясь по пустякам, не отдаваясь посторонним занятиям. Поэтому-то я и свои рецензии и статьи пишу теперь лишь постольку, поскольку это нужно, чтобы заработать необходимое <…> Статьи и рецензии везде ужасно нужны; в редакциях прямо упрашивают писать. Но это бы только отвлекло меня от моего дела – беллетристики; особенно же выдвинуться в роли критика мне бы все равно не пришлось, т<ак> как это абсолютно не моя область. Теперь же я параллельно с работами для заработка успеваю работать и над рассказами, которые пока еще не даю в печать, но в которых – моя будущность»[1324]1324
РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 10.
[Закрыть].
В Петербурге Гофмана охотно приняли в круг постоянных корреспондентов солидных газет «Речь» и «Слово», стал он также регулярно печататься в журнале «Современный Мир» и в ряде других изданий. За два с небольшим года петербургской жизни Гофман опубликовал в периодике несколько критических и обзорных статей, десятки рецензий на новые книги, а также множество хроникальных и библиографических заметок. В своей интенсивной литературно-критической деятельности Гофман следовал – сознательно или невольно – брюсовским эстетическим критериям и брюсовской же манере аргументации, с характерной для нее установкой на объективную вескость оценок и лаконичную строгость стиля. В сфере его внимания оказывается практически вся текущая литература – стихи, проза, отдельные авторские книги, сборники и альманахи, переводы иностранных писателей. При всей своей критической зоркости эти печатные выступления Гофмана, разбросанные по разным изданиям, широкого резонанса не получили и положения его в литературном мире существенно не укрепили. Элитарное сообщество петербургских модернистов, объединявшихся тогда вокруг «Поэтической Академии» Вяч. Иванова и редакции новообразованного журнала «Аполлон», несмотря на попытки Гофмана наладить с ним неформальные связи, так и не включило его полноправным участником в свою среду: для «аполлоновцев» Гофман был «чужой», не приобщенный к игровым действам и мифотворческим «таинствам», свершавшимся на «башне» Вяч. Иванова, и в то же время недостаточно яркий и оригинальный для того, чтобы, как И. Анненский, быть принятым в «эзотерическую» сферу в своей самодостаточности. За пределами корпоративного круга символистов-петербуржцев было содружество поэтов «Вечера Случевского», благосклонно отнесшееся к Гофману[1325]1325
В письме к М. Г. Веселковой-Кильштет от 14 апреля 1909 г. С. В. фон Штейн рекомендовал принять Гофмана («хорошего товарища и человека, с творчеством которого я знаком не понаслышке, а с самого начала его литературной деятельности») в состав кружка (ИРЛИ. Ф. 43. Ед. хр. 418).
[Закрыть], но заметной роли в литературном процессе это объединение тогда не играло[1326]1326
См.: Сапожков С. «Пятницы» К. К. Случевского (по новым материалам) // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 273–274.
[Закрыть]. Впрочем, для самого Гофмана, рискнувшего переменить литературное поприще, модернистские объединения уже во многом утратили былую притягательность.
Свое место в литературном Петербурге Гофман обрел лишь в кругу писателей и критиков второго ряда, составлявших основной авторский контингент популярного, но маловлиятельного «Нового Журнала для всех» и примыкавшего к нему журнала «Новая Жизнь». С 1910 г. Гофман – один из руководителей обоих изданий (сначала – секретарь, позднее – помощник редактора). Тесных и продуктивных контактов не установилось у него и в этих сферах («…он был одиноким среди литературной богемы, особенно петербургской»[1327]1327
Поярков Н. Памяти Виктора Гофмана//Кубанский Курьер. 1911. № 885, 22 сентября. С. 3.
[Закрыть]), однако Гофман все же получил под свое управление литературную, хотя и захудалую, вотчину, что для него, литератора по натуре и по устремлениям, значило немало. Выступая из номера в номер с рецензиями на новые книги, он в то же время не упускал из виду свою главную задачу – писание художественной прозы.
Школой прозаического мастерства отчасти становится для Гофмана переводческая деятельность. Для нового Полного собрания сочинений Мопассана он переводит рассказы из двух его новеллистических сборников – «Господин Паран» и «Маленькая Рок»[1328]1328
См. письмо Гофмана к А. А. Шемшурину от 6 января 1910 г. (Писатели символистского круга: Новые материалы. С. 273–274).
[Закрыть], переводит и ряд произведений Генриха Манна, в том числе его книгу новелл «Флейты и кинжалы» (М., <1908>) и повесть «Актриса» (М., <1909>)[1329]1329
В периодике были опубликованы также выполненные Гофманом переводы новелл Генриха Манна «Мнаис» (Русская Мысль. 1909. № 7; Новое Слово. 1909. № 6) и «Джиневра дельи Амьери» (Современный Мир. 1910. № 4).
[Закрыть]. Характеристике Генриха Манна Гофман посвятил специальную статью, в которой, назвав немецкого писателя крупнейшим мастером психологического романа и импрессионистом по внешним приемам, дал его творчеству самую высокую оценку: «…едва ли есть еще писатель столь современный, столь пропитанный современностью, как Генрих Ман»[1330]1330
Гофман В. Генрих Ман // Новый Журнал для всех. 1910. № 23. Стб. 80.
[Закрыть]. Вообще современные иностранные прозаики становятся для Гофмана предметом самого широкого интереса: он рецензирует русские переводы произведений Юнаса Ли, Сельмы Лагерлёф, Анатоля Франса, Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда, Германа Банга, Артура Шницлера, Германа Гессе и многих других новейших авторов, публикует большую обзорную статью «Наша переводная литература» (Вестник Европы. 1910. № 3), посвященную в основном творчеству скандинавских писателей.
В современной прозе Гофман с особым одобрением выделяет произведения, написанные в импрессионистической стилистике: в частности, видит заслугу Юнаса Ли в том, что норвежский писатель в одном из своих последних романов «Брак» «преобразил самую форму романа, – из описательного обратил его в изобразительный, импрессионистический; вместо эпически-повествовательной ввел нервно-субъективную, напряженно-лирическую прозу», дающую «очень тонкое, изумительно-живое и острое зарисовывание мимолетных впечатлений, еле уловимых настроений, мелькающих мыслей и т. д.»[1331]1331
Современный Мир. 1909. № 5. Отд. II. С. 141, 142.
[Закрыть]. Безусловно, в этих характеристиках преломились и собственные представления Гофмана о том идеале, к которому он стремился в своих прозаических опытах. В новейшей русской прозе ему претил «фотографический реализм», способный дать «лишь очень плоские односторонние и неинтересные искажения жизни», как в произведениях Н. Тимковского[1332]1332
Современный Мир. 1909. № 4. Отд. II. С. 104.
[Закрыть], – и наоборот, высшие ее достижения он видел у мастеров, использовавших импрессионистическую технику письма. Образцовыми ему представляются рассказы Б. Зайцева – «тонкого, проникновенного и мудрого» художника[1333]1333
Слово. 1909. № 757, 6 апреля. С. 3.
[Закрыть]. В статье «Наши импрессионисты» Гофман выделил Зайцева, О. Дымова и С. Сергеева-Ценского как трех наиболее характерных писателей современности и провозгласил: «Завтра нашей беллетристики принадлежит импрессионизму»[1334]1334
Мир. 1910. № 9/10. С. 704.
[Закрыть]. Вместе с тем его влекли к себе не только субъективно-импрессионистические, но и большие эпические композиции; в той же статье «Наши импрессионисты» он подчеркнул, что ожидает «появления писателей и другого типа, романистов-психологов и объективистов»[1335]1335
Там же.
[Закрыть]. Еще на страницах «Весов» Гофман высоко оценил «Жизнь ненужного человека» М. Горького, отметив «богатство его многоопытной и умудренной наблюдательности, большую проникновенность психологических конструкций»[1336]1336
Весы. 1909. № 1. С. 89.
[Закрыть]. С увлечением и восхищением он осваивает творчество Бальзака, Флобера, братьев Гонкур; уроки, получаемые им из «объективной» прозы, оказываются частичной компенсацией того, чем обделил Гофмана его собственный жизненный опыт: «Интерес к внешнему миру все более захватывает его. Он страдает от отсутствия жизненного материала, строит планы вольных блужданий по миру, с тем, чтобы жадно все наблюдать и обогащать свой художественный опыт. Он пленяется Зола, удивляясь обилию его материала и колоссальным его полотнам, и в эпоху торжества модернизма и восхищения утонченными художниками демонстративно вешает у себя в кабинете портрет „грубого“ натуралиста Зола»[1337]1337
Абрамович Н. Памяти Виктора Гофмана // Новая Жизнь. 1911. № 9. С. 5.
[Закрыть].
Впрочем, писать прозу широкого общественного диапазона и эпического размаха, вдохновленную опытом Эмиля Золя, ему оказалось не под силу. Рассказы и прозаические миниатюры Гофмана несут на себе зримый отпечаток его поэзии: они выдержаны в исповедальной тональности, развивают сугубо камерные, элегические сюжеты, насыщены настроениями тоски и печали. Это по преимуществу – лирико-психологические этюды, фиксирующие состояния одинокой души, рефлектирующего сознания; мир индивидуальных восприятий раскрывается часто через внутренний монолог, в стилистике, освоенной импрессионистической прозой (среди русских писателей-современников – прежде всего Б. Зайцевым). Многие рассказы Гофмана представляют собой вариации одного сюжетного мотива: «встреча с нею» (так озаглавлена одна из его миниатюр). При этом их объединяет тема недостижимости подлинной любви и противопоставления ее миру лжи и цинизма; истинная любовь предстает только как греза, мечта или воспоминание: «любовь к далекой», как назовет Гофман книгу своих рассказов, – по контрасту с несостоятельной и пошлой «любовью к близкой». Фабульные построения у Гофмана весьма незамысловаты, иногда в них повторяются коллизии, уже использованные другими новеллистами: например, к одному из первых прозаических опытов Гофмана, рассказу «Марго», опубликованному в 1910 г. в альманахе «Любовь», обнаруживается близкая сюжетная параллель у Мопассана – рассказ «Незнакомка» из сборника «Господин Паран» (который переводил Гофман). Лирико-импрессионистическая доминанта, сказывающаяся во всех его рассказах и миниатюрах, побуждает воспринимать их прежде всего как «прозу поэта», а такие характеристики поэзии Гофмана, как образно-стилевая вторичность и узость кругозора, вполне применимы и к его прозе; да и достоинства ее также предстают в отраженном свете; по словам Л. М. Василевского, «в прозе, как и в стихах, Гофман – тот же нежный, изысканный стилист, певец стоящих „на грани“ чувств, наблюдатель внутреннего, преимущественно женского духовного мира»[1338]1338
Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни. 1911. № 9. Стб. 12.
[Закрыть].
Более двух десятков своих прозаических опытов Гофман опубликовал в 1910–1911 гг. в альманахах и многочисленных журналах («Нива», «Искорки», «Пробуждение», «Вестник Европы», «Новый Журнал для всех», «Новая Жизнь», «Весь Мир», «Солнце России», «Свободным Художествам»). Рассыпанные по различным изданиям, они, естественно, целостного впечатления создать не могли и пристального внимания на себя не обратили. В 1911 г. Гофман сформировал из них сборник, который увидел свет уже после его смерти, – «Любовь к далекой. Рассказы и миниатюры 1909–1911 гг.» (СПб., изд. «Нов. Журнала для всех», 1911). Книга была встречена, в целом, положительно, однако на снисходительность критических оценок, безусловно, повлиял факт ее посмертной публикации. При этом все, писавшие о ней, прямо или косвенно признавали, что Гофман, оставшийся лириком по своей творческой психологии, не успел полностью выразить себя в прозе: «…его палитра не очень богата красками, а круг его наблюдений и интересов не открывает новых граней и новых перспектив» (Л. М. Василевский)[1339]1339
Речь. 1912. № 49, 20 февраля. С. 4.
[Закрыть]; «Его рассказы безусловно не рассказы, а поэтические описания то природы, то полунастроений, то полуроманов <…> Стиль его напоминает несколько Бориса Зайцева и Г. Чулкова, только несколько более вычурный, слащавый и очень часто не русский. Во всяком случае, эта книга рассказов мало прибавляет к тому представлению, какое мы создали о Викторе Гофмане по его стихам» (М. А. Кузмин)[1340]1340
Аполлон. 1912. № 1. С. 68–69.
[Закрыть]. Проблематика же гофмановских рассказов воспринималась и интерпретировалась под знаком трагической кончины автора; в ней старались уловить соответствующие обертоны: «Это – искания молодой души, отравленной уже ядом, преждевременно прососавшимся в сердце, ядом большого города, ядом ранних пробуждений весны, ядом разбитых иллюзий»[1341]1341
Ожигов Ал. <Ашешов Н. П.>. Литературные мотивы//Современное Слово. 1912. № 1619, 11 июля. С. 2.
[Закрыть]; «Грустным настроением бесцельности и случайности проникнуты эти изящные новеллы, увлекательные в своей искренности и чистоте. Еще более густой налет печали лежит на ряде миниатюр, во многом напоминающих маленькие наброски Петера Альтенберга»[1342]1342
Речь. 1912. № 49, 20 февраля. С. 4 (рецензия Л. М. Василевского). О соответствии состава и композиции книги «Любовь к далекой» авторскому замыслу свидетельствует Л. В. Гофман: «После смерти она была найдена вполне приготовленная к печати. Рукописи лежали в порядке оглавления, помещенного в конце, сверху – предполагаемая обложка с заглавием „Любовь к Далекой“ и предполагаемым годом издания. Так книга и была издана уже после смерти В. В.» (РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 21. Л. 2).
[Закрыть].
Открывались ли для Гофмана реальные перспективы стать крупным прозаиком? Сумел бы он, вдохновленный опытом любимых им французских романистов и современных писателей-импрессионистов, взрастить в себе принципиально новую творческую индивидуальность и произнести новое слово в литературе? Разумеется, этим вопросам суждено остаться риторическими. Их формулировали и современники покойного, приходившие в своих догадках к противоположным выводам. Поэт и критик Николай Бернер считал, что в наиболее сильных прозаических вещах Гофмана («Ложь», «Чужие», «Перемены») «уже сказывается элемент объективной наблюдательности. В ярком воспроизведении случайных жизненных фактов чувствовалась возможность для него стать в будущем занимательным и любопытным беллетристом»[1343]1343
Бернер Н. О В. В. Гофмане // Путь. 1911. № 2, декабрь. С. 66.
[Закрыть]. Поэт и журналист Ефим Янтарев, напротив, полагал, что сам Гофман разочаровался в своих беллетристических способностях: «Его рассказы, отличаясь литературностью и хорошим вкусом, не были оригинальны, не обнаруживали ничего своего, нового, и Гофман понял, что и не здесь его призвание»[1344]1344
Янтарев Е. Сгоревший (Памяти Виктора Гофмана) // Московская Газета. 1911. № 91,7 августа. С. 2.
[Закрыть]. Предполагаемая творческая неудовлетворенность и трагический конец писателя тем самым ставились в обусловленную связь.
Летом 1911 г. Гофман, в надежде обрести новые яркие впечатления – «новые, еще не изведанные раздражения»[1345]1345
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 289.
[Закрыть], могущие послужить стимулом к писательской работе, – отправился в длительное заграничное путешествие, из которого на родину уже не вернулся.
Причины и обстоятельства самоубийства Гофмана, последовавшего в Париже 13 августа (31 июля по старому стилю) 1911 г., не поддаются однозначному толкованию; ясно лишь одно: поэт застрелился в состоянии острого психического срыва. Убеждает в этом, в частности, его недатированное и неотправленное письмо к матери, написанное, видимо, в последние часы жизни:
Дорогая мамочка,
Я сошел с ума. Я уже совсем идиот. Я бы не хотел тебя огорчать, но со мной все кончено. Умоляю помнить об Анне Яковл<евне>, сейчас меня возьмут в полицию и в конце концов убьют. Помочь ты ничем не можешь. Я уже ничего не помню.
Виктор.
Сейчас я хуже чем приговоренный к смертной казни[1346]1346
РГБ. Ф. 560. Карт. 1. Ед. хр. 10. Письмо приводится в комментариях Н. А. Богомолова в кн.: Ходасевич Вл. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 581. В тексте упоминается Анна Мар (см. о ней в письмах Гофмана к А. А. Шемшурину в кн.: Писатели символистского круга: Новые материалы. С. 240–244, 250).
[Закрыть].
Все обнародованные в печати сведения о кончине Гофмана восходят так или иначе к свидетельствам искусствоведа и художественного критика Якова Александровича Тугендхольда (1882–1928), в 1905–1913 гг. постоянно проживавшего в Париже[1347]1347
См. биографическую справку Т. П. Каждая в кн.: Тугендхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987. С. 292. Тугендхольд был свидетелем составления (15 августа н. ст. 1911 г.) акта о смерти Гофмана; подлинник этого документа на французском языке и писарская копия на русском языке сохранились в архиве Гофмана: «Акт о смерти Виктора Гофман, студента, родившегося в Сэн-Приесте (Австро-Венгрия) 14 мая (1884 г.); умершего у себя на квартире, бульвар Сэн-Мишель 43, 13 августа (с. г., ок. 10 ч. утра); сына Виктора Якова Гофман и его супруги Марии Сусанны Томашки, живущих в Москве (Россия); холостого. Составлен мною, Артуром Тэр, товарищем мэра <…> согласно заявлению Жака Тугендольд
[Закрыть]
Речь. 1911. № 218, 11 августа. С. 2. О полученной ране в результате случайного выстрела из револьвера Гофман сообщает в письме к А. Ю. Киренской от 9 августа 1911 г. (Крапивина Е. М. Предсмертное письмо Виктора Гофмана // Русская литература. 2000. № 4. С. 154).
[Закрыть]. Сведения о кончине Гофмана и свои предположения в этой связи Тугендхольд сообщил также в недатированном письме к его матери, отвечая на ее запрос. Письмо написано спустя несколько дней после самоубийства.
Многоуважаемая Мария Августовна!
Ваше письмо получил и, как ни тяжело писать на эту тему, постараюсь ответить на Ваши вопросы. Впрочем, Вы, наверно, уже получили заказное письмо от m-lle Schlummer с подробностями относительно смерти и похорон бедного Виктора Викторовича. Кроме того, я отправил заметку в газету «Речь» о его последних днях, свидетелем которых мне пришлось быть. Вы спрашиваете меня о причине, побудившей его на этот ужасный шаг… Причины я не знаю – я ведь виделся с ним всего пять-шесть раз и не знаю, бывала ли у него меланхолия раньше. Знаю лишь то, что в Париже он жил очень замкнуто, много работал, мало развлекался, и иногда я невольно спрашивал себя: зачем в эту страшную жару сидит он в городе, в самом шумном центре города? Из Парижа он собирался уехать в Лондон, а затем, когда произошла история с пальцем, он решил отправиться к Вам, в Москву. Он с такой любовью говорил о Вас и о том, как он поправится благодаря Вашим заботам… Вот почему, когда я узнал о страшном несчастий, – рука не осмелилась послать Вам телеграмму, и я написал в редакцию «Новой Жизни», прося предупредить Вас. Вы должны простить мне это – что я не написал Вам, но ведь все равно Вы не поспели бы на похороны.
Итак, повторяю, я не знаю причины его безумия. Был он грустен, жаловался часто на то, что новые впечатления его мало трогают, и говорил, что бросил писать стихи. Строгий к другим, он был еще более строг и честен к себе самому – у него была такая хорошая, прямая душа! Был он мнителен; поранение пальца очень взволновало его, и он боялся всего – и больниц и лекарств. Я отвез его к русской женщине врачу, и он был очень рад, что нашел добросовестного доктора. Она успокоила его относительно пальца, но нашла у него общее недомогание и даже сказала ему, что может быть – это брюшной тиф. (Он пил сырую воду.) Я видел его как раз после этого разговора с доктором; он не производил впечатление человека отчаявшегося. Наоборот, говорил, что если сможет, уедет к Вам или ляжет в больницу. Прощаясь со мной, сказал, что теперь нам часто придется видаться, так как болезнь его может затянуться. Я уехал на дачу, где у меня жена с месячным ребенком. Через месяц должен был снова вернуться к нему, и пока за ним должна была присматривать (хотя он даже не ложился и не раздевался) наша знакомая m-lle Schlummer. И вот через 13 часов его не стало! Почти ни одна смерть не произвела на меня такого потрясающего впечатления! До сих пор не могу простить себе чего-то, хотя не знаю чего – ведь не мог же я остаться следить за ним; ведь, в конце концов, я видел его в пятый раз и не знал, насколько он поддался бы моему влиянию.
Перед смертью Виктор Викторович написал два письма; одно из <них> – к Вам (Вы, наверно, его уже получили). Глубоко извиняюсь за то, что его пришлось вскрыть. Это был единственный способ решить, произошло ли самоубийство или… убийство[1349]1349
Его боязнь полиции, очевидно, объясняется тем, что недавно его соседку, румынку, сошедшую с ума, увезла полиция. (Примеч. Тугендхольда).
[Закрыть]. Смерть Виктора Викторовича казалась настолько внезапной, чудовищной и необъяснимой, что невольно напрашивалась мысль о преступлении. Тем более что хозяин гостиницы утверждал, что В. В. не имел денег, а я предполагал у него более или менее значительную сумму, т<ак> к<ак> он собирался выехать из Парижа. Может быть, Вы знаете, были ли у него деньги, помимо 39 франков?Другое письмо также отослано по адресу – очевидно, оно такого же ужасного содержания…[1350]1350
Согласно свидетельству Ходасевича, «Гофман застрелился, оставив письма к сестре и матери. В одном из них он писал: „Надо попытаться ухитриться застрелиться“» (Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 290), – однако в подборке писем Гофмана к сестре, Л. В. Гофман, письма такого содержания нет. Не исключено, что адресатом второго предсмертного письма была Анна Мар. Письма Гофмана к ней, видимо, не сохранились. Ср. свидетельство в очерке Анны Мар «Памяти Виктора Гофмана»: «Ирониею и болью звучит его фраза, написанная в письме из Парижа от 20-го июня <…>: „Конечно, ничего не пишу. Я отучился от дурных привычек“» (Новый Журнал для всех. 1911. № 35, сентябрь. Стб. 94).
[Закрыть]Многое в том, что совершилось, до сих пор для меня тайна. С одной стороны, несмотря на всю меланхолию Виктора Викторовича (о которой я писал выше), ни разу в разговоре он не намекнул на желание смерти; наоборот, как-то (чуть ли не накануне) мы говорили с ним о детях. У меня недавно родился ребенок. И Виктор Викторович сказал, что раньше он не понимал, как можно хотеть иметь детей, но за последнее время он пришел к заключению, что можно желать детей, как продолжения своей жизни… С другой стороны – эта сознательность его безумия! Вечером накануне, когда я ушел от него, с ним осталась еще m-lle S
. Уходя, она предложила купить ему все, что нужно ему, чтобы он <не> выходил до утра. Но он ответил, что ему нужно что-то купить, что он может сделать только сам. Не знаю, что это было. Утром он предупредил хозяина, за час до смерти, что к нему придет m-lle S и что надо убрать комнату: значит, он сознавал, что делал…[1351]1351
Ср. свидетельства Тугендхольда в «Последних днях Виктора Гофмана»: «Хозяин гостиницы признался, что в 9 часов утра В. В. вызвал его звонком и, расхаживая по комнате, сказал: „Зовите полицию, я сошел с ума“. Когда же хозяин принялся успокаивать его, думая, что он шутит, В. В. прибавил: „Хорошо, хорошо – можете идти; я напишу письма и немного пройдусь; надо прибрать комнату; ко мне должна прийти барышня“…»
[Закрыть]Все это тайны, самого же главного не вернешь. Надо только издать его сочинения, чтобы память об его таланте навсегда осталась в России. И если есть что-нибудь, что может утешить Вас в эти минуты, так это – та боль, которой его смерть отозвалась во всем мыслящем русском обществе[1352]1352
Есть еще одно утешение – смерть его была моментальна (Примеч. Тугендхольда).
[Закрыть]. Я же лично на всю жизнь сохраню воспоминание о нем, – о его красивой душе и красивых манерах, об его печальных глазах и тонкой деликатности, которая так поражала при знакомстве с ним.Еще несколько слов о похоронах. Случилось так, что все пришлось взять на себя мне и m-lle Schlummer. Почти никого в Париже не было. Мы очутились в очень затруднительном положении. Полиция торопила с похоронами, а я не решался похоронить его без Вашего согласия, думая, что, может быть, Вы захотите его перевезти в Россию. Между тем, чтобы положить гроб во временное помещение, надо было 600 fr. Отправился к австрийскому консулу, просил его поручиться, но он отказался. Тогда мы решили похоронить его на 5 лет в Париже, так, чтобы Вы могли потом (или сейчас) или приобресть постоянное место (стоит около 600 fr.), или взять в Россию. Как раз в этот момент пришла телеграмма Ваша к консулу, в которой Вы уполномачиваете его дать 200 fr. Но деньги эти он нам не выдал, а только пообещал – так что пришлось их пока одолжить. Похороны стоили 290 fr. (в том числе и большой белый букет с лентой: «дорогому Виктору от тех, кто его любит, и родных»), 250 fr. взяты мною у г. Венгерова, который выписал их для этой цели телеграммой из «Речи» и Литер<атурного> Фонда[1353]1353
Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920), историк русской литературы и общественной мысли, библиограф, был одним из руководителей Литературного Фонда (в 1916–1919 гг, – его председателем); в августе 1911 г. находился в Париже. Ср. газетное оповещение «К смерти В. В. Гофмана»: «2 августа редакцией получена из Парижа телеграмма от С. А. Венгерова, извещающая, что безвременная смерть Виктора Викторовича Гофмана – результат самоубийства. <…> Похороны молодого писателя состоятся в Париже; необходимые хлопоты взял на себя С. Венгеров» (Современное Слово. 1911. № 1284, 3 августа. С. 2).
[Закрыть]. Но так как Вы обещали консулу выслать 200, то я верну Венгерову 160 обратно для передачи в Лит<ературный> Фонд. Впрочем, это зависит от Вашей воли. Решетка вокруг могилы должна будет стоить 150 fr., если ее заказать.Все справки я дам Вам и прошу Вас верить в мою готовность сделать все, что нужно для того, чтобы могила дорогого Виктора Викторовича была в хорошем состоянии.
Мой адрес: Celle Saint Cloud (Seine et Oise). Avenue de S-t Cloud. Villa «Maisonnette».
Искренно Вас уважающий
Впоследствии Тугендхольд (как явствует из его письма к М. А. Гофман из Парижа от 4 декабря 1912 г.) участвовал в установке надгробия на могиле Гофмана (рядом с могилой братьев Гонкур), которое многие годы спустя описал Ходасевич: «Лет десять назад я был на могиле Гофмана, на кладбище Банье. На могиле стоит тяжелый памятник, с урной, с крестом и краткою надписью»[1355]1355
Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 291.
[Закрыть].