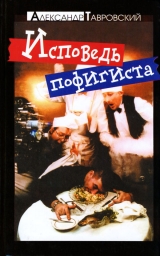
Текст книги "Исповедь пофигиста"
Автор книги: Александр Тавровский
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
Глава пятая
Ну, черт с ним, с Папой! А то еще приснится.
Мне плевать на бандитов, на политику, на советскую власть и на новых украинцев со старыми евреями. Я машину люблю, баранку люблю, дорогу люблю; мне нравится и в кабине, и под кабиной, и с напарником, и без, без даже лучше.
Сижу сейчас в хамельнской криминал-полиции, от мафии спасаюсь, а перед глазами рейсы, рейсы, рейсы… Хрен знает, откуда что бралось и куда девалось. А только помню все до мелочей, до запаха паленых покрышек, до визга тормозов, кто мне что сказал, промычал… Стоп! Про-мы-чал… А вот это была история – дурдом с трубой!
Едем мы все от той же бандитской фирмы в Талмы, в Прибалтику. Приехали после двадцать первого июня, после моего дня рождения, которого, кстати, может, и не было. В этот день у них, у прибалтов разных, День свободной любви. Нет, Ночь свободной любви.
Девки ходят с колокольчиками, как коровы, не брешу: парней вызванивают. С венками на башках из листьев кленов. И в этот день, обалдеть, девка должна потерять свою невинность. Как будто она у нее есть!
Нам, водилам, говорят:
– Хотите, мы вам эту ночь устроим?
Я говорю:
– Нет, спасибо. Не хочу.
А Вовка, идиот, орет:
– Я хочу!
Хочет он! Как будто без него прибалтийские девки себя невинности не лишат. В общем, они его забрали на всю ночь.
А ко мне всю ночь: стук-стук в дверь. Открываю – девка, невинная. И сразу:
– Как вас зовут?
Причем по-русски.
– Короче, – говорю, – я спать хочу.
А Вовку утром привезли. Он как завалился в кабину, так и влип в сидушку:
– Все, – шепчет, – меня двое суток не трожь, я уже почти неживой…
Его там по всему кругу протащили: сначала на какую-то дискотеку, потом где-то с тремя сразу танцевал; проснулся в чьей-то кровати уже с одной, шмотки собрал и убег с ней куда-то. И ничего не понял, кроме того, что все девки были уже совсем не невинные, а еще до него очень виноватые.
Ладно, едем обратно. Проехали белорусскую таможню. Там дальше поле и пасутся бараны. У Вовки все еще после свободной любви руки трясутся. А кроме этого, у него бабушка жила в деревне под Киевом. У него, когда руки трясутся, всегда бабушка вспоминается.
Да, руки трясутся, бараны пасутся… А пастуха нет.
Вовка говорит:
– Гляди, пастуха нет! Давай баранчика прикоммуниздим.
Я говорю:
– Ты че!
– А че? Машина пустая, трасса тоже.
– Да ты че, свободный любовник! Пастух проснется, солью в жопу залупит, никакой баран не нужен будет.
Ну, убедил-таки меня. Решили, чтоб все по-честному: ходим-едем, сигналим-орем пастуха.
Глядь, там озерцо, и пастух лежит с ногами в воде. Сначала думали – мертвый, пригляделись – никакой: с бутылкой лежит, в куртке, готовый на ноль!
– Ну, – радуется Вовка, – видишь, он дохлый. Все, гони барана!
Гонялись за бараном долго. Он бежит, отара рассыпается, и каждая овца норовит тебе под ноги прыгнуть. Наконец поймали, повалили. Вовка – здоровый мужик. Связали. Я говорю:
– Давай мы его тебе на плечи накинем. До машины же дотащить нужно.
Вовка готов, он на все готов: барана тащить, девку невинности лишать…
Притащили барана к машине. Пришлось ремни с него снять, потому что с нас штаны спадали. Вовка предлагает:
– Бросим в кузов, пусть лежит.
– Да ты че, – говорю, – зверь? Давай ему травки накидаем, пусть в будке пасется.
Накидали травки, баран, довольный, бегает по пустой будке. Только тронулись, баран – трак, трак, бабах об дверцу. Переключились, он в другую сторону – трак, трак, трак – бац! Я не выдержал:
– Так мы ему все бока отобьем.
– Ниче, – не соглашается Вовка, – довезем, не посинеет.
А Вовка, когда шутит, улыбается наискось. Обычного смеха я у него никогда не слышал.
Подъезжаем к таможне. Рядовой вопрос:
– И шо везем?
– Пустой, – отвечаю.
– Пакажи!
– А чего показывать? Видно же по колесам, что пустой!
Но таможенник все же глянул в будку, а там темно. И вдруг прямо на него из темноты выходит наш баран: бэ-э!
– А цэ шо такэ?
– Та баран же.
– А он один?
– Конечно.
– Украли?
– Командир, я тебе клянусь здоровьем этого барана. Едем на окружную – стоит, голосует. Я ему: куда? А он: на Киев. Я говорю: куда я тебя посажу? А он: да я вас всех забашляю. А я: так два же места в кабине; ты хочешь, чтобы я из-за тебя прав лишился? А, черт, ладно, лезь в будку. Он себе травы нарвал. Ребята, просит, подсадите. Мы его подсадили, до Киева везем.
– Ты меня за идиота считаешь? Ты кому лепишь?
– Да ему правда на Киев нужно! То ли от стада отбился, то ли… ты спроси его.
– Кончай базар, мужики. Где скоммуниздили барана?
– Если честно, командир, на базаре купили.
– Давай так. Помнишь «Кавказскую пленницу»? Вот мой адрес: будешь делать шашлык – обязательно позови.
И вот мы с этим бараном снова едем на Киев. Он то в одну стенку – бабах! – то в другую. Я наконец не вытерпел:
– Да пусть он хоть приляжет, отдохнет, что ли. Скажи ему – пусть ляжет.
А Вовка, тоже баран порядочный, отвечает:
– Ты ему колышек вбей в будку и привяжи.
Такой у него дебильный юмор. Привезли-таки к бабке.
– Бабуля, мы там барашка нашли…
– Точно не украли?
– Да не, ба, ты че! В нашей стране разве можно украсть? Никто ниче не крадет, все берут – за деньги или без денег.
Короче, зарезали барана. А мента не позвали: на фиг он нужен…
Глава шестая
А интересные парни эти бандиты! Я бы с ними в разведку пошел, да там бы их и положил из автомата. Но каждый, в натуре, светлая творческая личность – и ни фига больше!
Андрей, мой шеф, племянник Папы, старше меня всего на год. Или младше? Всегда короткая стрижка, джинсы, кроссовки, рубашка клетчатая, и все офигенно дорогое. А кольца, перстни и эти цепи на шею считал за говно. Все холодное, говорил, мешает.
По характеру лиса, но тупая. Бывает тупая лиса? Бывает! Какая-то думающая зверюга этот Андрей, но не хитрая, а повадки точно лисьи, ходил мягко. Не то что гермафродит или там голубой, а хочет быть интеллигентом. Есть у голубых такая походка – с подъемом на носочках. А Андрей так не ходил. Он, гад, плывет. С вопросом сразу же:
– Феликс, – снабженцу, – где мои бабки?
Курил много, и только «Кент»-мультифильтр, «Мальборо» не признавал. Баб любил, как курево, до смертной икоты, только замужних. Он часто сам дежурил на фирме, за ночь до десяти проституток к нему привозили. Денег на зарплату нет, а на них – сколько угодно.
Когда Андрей был пьян, я его на «шестерке» до дома добрасывал. А утром он звонит, что садится пить чай. Андрей, блин, Киевский! Так я его с фирмы еду забирать. А если Андрюха вечером с телкой на блядки, я беру, если свободен, «БМВ».
Еще он любил дорогие часы и пистолеты. Помню, купил «марголин» лаковый, принес на фирму и говорит:
– Лука! Это на случай ядерной войны. Будешь отстреливаться.
Пистолет постоянно лежал в ящике его стола.
Три бандита от Папы охраняли нашу фирму. Этих я узнаю всегда: и ночью, и со спины. Зорро – конченый наркоман, худой, вечно сгорбленный, темный цвет кожи, но руки чистые. И в армии не служил, а в гроб пора. Его никогда не ломало: при себе вечно таскал наркоту в любом ассортименте и количестве.
Белый – качок, среднего роста, но рубашка пятьдесят шестого размера, шелковая, и обязательно лаковые туфли. Этот был боец: на кистях такие кости набиты – вдвое больше моих кулаков, огромные, синие кости со старыми мозолями. Сразу видно: не слесарь. Он разбивал дверь и не чувствовал боли, локтем мог выбить замок. Белый, как и Зорро, хрен знает почему, ненавидел спортивные костюмы.
Зорро, как правило, «разводил». Такой говор тягучий, тянучий, как будто ну не сопли жует, а воздух не может выдохнуть:
– Ну че ты гонишь такой базар…
А курнуть, нюхнуть, я ж говорил, у него всегда при себе. Насыплет прямо в бумажку, даже не свернет в трубочку (некогда), просто загнет на концах и – раз! – засосал: ах-а-а!..
Я говорю:
– Ты че, кончаешься?
– Едь, Лука. Такие мульки вижу… Ну, мужики, все, труба!
Пальцы веером, и начинает пургу гнать.
А вот Заяц наоборот, этот очень интеллигентный. Он сидел много. Высокий такой, блин, элегантный, спина ровная и голову держит прямо. И только в спортивном костюме, в самом дорогом.
– Я не люблю пургу гнать, – всегда грустно говорил он.
Если его спросишь, он ответит, а то молчит. С «клиентом» говорит так:
– Два дня. Через два дня нет денег – мы тебе визу делаем в Турцию.
Разворачивается и уходит.
Зорро и Заяц жили по соседству. Как-то прибегают утром, звонят на фирму по «хэнди» от калитки: открой.
Как будто нельзя крикнуть-звякнуть. А им по фигу: платим-то мы. Я открыл.
– Где Андрей?
– Сейчас будет.
А они чего-то ругаются, спорят:
– Да не было этого!
– Да было!
Входит Андрей:
– Что случилось?
– Я иду с Зайцем, – рассказывает Зорро, – видим: летающая тарелка!
Андрей говорит:
– Зорро, ты уже укололся.
Зорро же что горит, пьется, нюхается – все в себя, глаза уже посинели.
– Летающая тарелка, Андрюха! Этаж шестой-седьмой. Мы идем, а она нам светит! Я не кололся, ты мне веришь? Нет?
Глава седьмая
Говорят, что я когда-то родился. Наверное, брешут. Такие, как я, появляются в готовом виде. Сколько есть чудес света, я не знаю, но я точно – первое!
Помню, что очень-очень давно жил в Сибири, в городке Стрежевом. Было там и полярное сияние, и жара летом за сорок. Болота парили, комаров больше, чем ягод, а зверья не меньше, чем комаров.
Мне одиннадцать лет. Как будто день рождения. Все за столом, заходит отец.
– Да ты опоздал, па, к столу.
– А я привез тебе подарок! Пойдемте все, покажу.
Выходим. У отца на крыше «Москвича» стоит карт «Пионер»: пятьдесят кубов, двигатель форсированный, три передачи. Я одурел! В тот день, наверное, и родился… водилой!
Анатолий Семенович, тренер клуба, сказал мне:
– Ты здесь один со своим картом. Но у каждого человека видно, подает он надежды или нет, а у тебя не видно. Ты чего-то боишься. Нет?
Чего мне бояться? Только первого места. Я никак не мог представить себя себе на самой вершине, на кончике пьедестала и поэтому постоянно ошибался. Я был вечным «призовым». Но я хотел быть гонщиком. Или музыкантом. Но за семь лет ни разу не брал «золото», а без него в «Формулу-3» не попасть. Поэтому на чемпионате РСФСР парни сказали, что все мне помогут: всех будут держать и давить. Я тогда уже на багги гонял.
И вот до финиша – всего два круга. Первым шел «питерский», третьим – я. Наши ребята зажали второго на внешнем круге. Он притормозил, и я его обошел. На последних виражах меня догнал Горилла. Ему, видно, тоже «золото» приспичило. Он подставил мне переднее колесо, я перелетел через него, и, когда машина оторвалась от асфальта, наступила тишина. Как у нас в Сибири перед офигенным дождем. Я даже детдом вспомнил…
Глава восьмая
Ну и все, что до детдома. А это такая седая древность – труба! Тогда и летописцев еще не было. А я уже был.
Короче, мне всего три годика, мы в Киеве живем, в старом-престаром районе, на Подоле. Это где самый старый и знаменитый украинский революционер Владимир с крестом на горе и окна всех первых этажей ниже уровня земли. В нашем дворе было несколько домиков и большие деревянные ворота, створки ворот перекосились и почти не открывались. Через ворота мы пролезали бочком, а въезжать-выезжать было просто некому.
И хрен его знает, как в таких крошечных домишках и двориках вмещалось столько разного народу! Кто в домино стучал, кто через ворота бочком пролезал, кто на велосипеде по двору гонял. Но из всего народа мне запомнился только один совсем немой мужик, Алик. Отца моего звали Алик и мужика Алик, и оба – с бородой. Немой Алик нам, пацанам, из коры делал парусники, и мы эти парусники у колонки, где мать набирала воду, в луже пускали.
Все немые – умельцы. Если бы я был немой, тоже до хрена чего бы умел. Хорошо, что я не немой.
А квартира у нас была такая. Дверь открываешь входную – заходишь в махонькую прихожую. Ну, не совсем махонькую, но когда дверь вовнутрь открываешь, она почти касается следующей двери. В прихожей стоял ящик с моими игрушками и весь инструмент отца. Толкаешь вторую дверь – коридорчик метра четыре длиной. Что там? Бабушкина кровать, кухонный стол, электрическая плитка и две табуретки. Третья не вмещалась. Хотя нас в квартире не трое, а пятеро жило. Я, сестра Витка, пап-мама теснились в комнате на семь квадратов, бабка спала в коридоре, ей там просторно было: дед-то давно помер. Теперь понятно, почему во дворе было столько народу?
Отец работал в троллейбусном парке и подрабатывал в детсаду плотником, мать – где-то бухгалтером, бабка – по дому, а мы с Виткой ходили на молочную кухню за двумя бутылочками: в одной была манная каша, а в другой – клюквенный морс. С тех пор я обожаю манную кашу и клюквенный морс, а мог бы и ненавидеть. Такой у меня характер.
Отец всегда занимался только мной. А мама – только Виткой. Я еще до первого класса знал все буквы. Слагать их не мог, а какая буква по счету и как называется, говорил, не думая. А то, что кто-то там, какой-то вундеркинд-акселерат-мазохист, еще до школы читать-писать умел, это, по-моему, просто ранний маразм и ни хрена больше! Зачем же тогда школы понастроены?
Зато еще в детсаде воспитатели жаловались родителям, что я днем не сплю и другим мешаю. Посмотрю сказку про старика Хоттабыча и обсуждаю ее с детворой во время дневного сна. Не ночью же ее обсуждать! Я этого никогда понять не мог: днем спать, ночью спать… А когда жить?
Подарки нам с Виткой дарили только одинаковые, иначе – мировая война и драка до крови, хоть мы и не близнецы, даже не двойняшки.
Однажды отец сделал два лука. Но на одном нарисовал звездочку, а на другом – сердечко. Так мы эти луки друг об друга обломали. Гадом буду, не вру!
В первом классе у нас в семье образовался страшный дурдом. Только ляжем спать, отец с матерью начинают спорить. А комната всего семь квадратов, там или всем спать, или всем орать, иначе ничего не получится – ни сна, ни драки. Но когда родители часа через два затихали, я засыпал сразу. Это я помню точно.
Прихожу как-то со школы, смотрю: отец сидит на чемодане, куда-то собирается.
– Па, ты куда?
– Уезжаю, сынок, в командировку.
– В Испанию?
Нам тогда в школе как раз об испанских добровольцах рассказывали. Так и говорили: отец уехал добровольцем в Испанию. Это все равно что на Дальний Восток без права переписки.
Ну, я бате про Испанию, а он мне отвечает, как в книжке:
– Ты уже большой, все поймешь. Я скоро приеду… Может быть… Ты мне писать будешь?
А сам адреса не дает. Ага, как же, конечно, буду! Он адрес забыл дать, я еще писать толком не умел. Так и переписывались.
Мать стала приходить с работы поздно. Или вообще не приходила. У нее там свои дела, у Витки – свои, бабка – на кухне. Кто со мной уроки будет делать? Бати-то рядом нет. И понеслось: одна двойка, другая, снова двойка, опять двойка. Целый день я смотрел телек или сразу после школы на велосипед и к Валерке-другану. Но наступила зима, ездить стало холодно.
Мать ругалась теперь с Виткой, что та мною совсем не занимается. А Витка голосит, что ей не до меня, у нее контрольная за контрольной, а к ним нужно готовиться. С мальчиками.
А я все стоял у окна и смотрел в пустой двор. Мать перед сном, если домой придет, обязательно спросит:
– Ты почему еще не спишь?
– Я папу жду.
– Да он к тебе сегодня не придет.
– А когда?
– А вот когда вырастешь большой, как папа.
– Ну, я тогда его тут подожду. Можно?
– Ну жди. Но лучше в кровати.
Я ложился в кровать и ждал. Пока не засыпал.
Однажды на последнем уроке, на математике, наша классная вдруг объявляет:
– Лукацкий, к доске!
Во, думаю, невезуха: уже звонок прозвенел, а меня – к доске. А классная говорит:
– Вот, дети, с завтрашнего дня Игорь Лукацкий у нас больше не учится. Он переводится в другую школу. Попрощайтесь с ним!
И весь класс хором:
– До сви-да-нья, Игорь!
Мать родная! И все, конечно, сразу за портфели и домой. Хоть бы один подошел… Хотя… простились же уже.
Пришел я домой, а там – мама. В такую рань она еще никогда не приходила. Смотрю – собирает мои шмотки. Я ей говорю:
– Ма, в школе сказали, чтобы я туда завтра не шел. Правда?
– Правильно сказали. Ты пойдешь в другую школу, там свежий воздух и много вкусной еды…
– Ага! И много сна тоже. Я знаю.
– Ничего ты не знаешь. Мы с бабушкой и Витой будем к тебе приезжать. Хорошо?
– Хорошо. Но я хочу остаться здесь.
– Хорошо. Но сначала ты поедешь туда.
Больше я не спорил. О чем спорить с мамой? Я плакал. А рано утром мы сели на конечной на одиннадцатый трамвай, доехали до птичьего базара, пересели на десятый, до площади Тараса Шевченко (тоже очень известный украинец). Там снова пересели. Ехали долго, выехали за город, а трамвай все едет. Вот и район Пуща Водица. Вышли. Трамвай уехал, а мы остались.
Мать несла мою торбу с вещами, а я глазел по сторонам. С одной стороны парк Пуща Водица, заброшенный такой, беспризорный. А с другой – огромная территория с зелеными воротами и табличкой «двадцать пятый детский дом». Ничего себе – двадцать пятый! Табличку я сразу прочел, не надо!
Зашли мы через эти зеленые ворота. Внутри здание. Если на него сверху (да не из космоса – с дерева) посмотреть, ядреную буквищу Н увидишь. Посреди двора клумбочка и два пионера-героя в виде памятников: слева – девочка, справа – мальчик. С этим я потом разобрался. Сразу хрен поймешь, кто где.
Долго шли по длинному коридору, через актовый зал… Наконец попали в вестибюль, там две пальмы росли и две двери: справа – «завуч», слева – «директор». Тоже – мальчик и девочка. Джунгли!
С директрисой вышли на крыльцо. Прохладно было и мерзко. Короче, мать меня поцеловала в лоб, как покойника.
– Все. Пока. Не скучай!
И ушла. А мне так дико стало, как будто я вдруг лет на пятьдесят постарел. Стою, как памятник пионеру-герою, в руках торба, белая, из наволочки, с надписью «Игорь Лукац. первый русский». Я заревел.
А директриса взяла меня своей клешней крепко за руку. Здоровая была тетка! И потащила оформляться. В девчачьем отделении, в камере хранения, я оставил свою торбу. Завела меня директриса в класс, приставила к доске и приказала:
– Ребята, знакомьтесь. Это ваш новый… хм… товарищ. Как тебя зовут?
– Лукацкий… Игорь.
– Вот! Так и зовите. Бить воспрещается.
Глава девятая
Посадили меня поначалу за последнюю парту. Мне оттуда ни хрена не видно, но и меня не видно тоже. Лафа! Потом разрешили сесть за среднюю. И, наконец, за первую. Нам там часто разрешали меняться партами, чтоб не засиживались на одном месте, не слишком сдруживались. Ну и чтобы нас хоть иногда видно было.
Первый день я вообще не запомнил: все было черно и серо, я ничего не жрал и хотел только домой.
Детдом был здоровущий, двухэтажный. Почему-то в мальчиковом спальном корпусе ничего, кроме спальных палат, не было. А в девчачьем – и камера хранения, и врач с изолятором, и душевые-банные комнаты, по-русски – бани, словом, души. Когда директриса делала их обход, она всегда торжественно сообщала:
– Ну, я пошла по душам.
В актовом зале, на недостижимой для нас высоте, как какая-то святыня, был приколочен телевизор. Телек был один на весь детдом, а стульев в зале до фига и больше. На каждого придурка по стулу.
Вокруг детдома стадион и ботанический сад – огород по-простому, по-русски. Морковка, щавель рос, крыжовник, черная… да не икра! Еще яблоки. Ну что там, блин, еще росло? Короче, все съедобное, а съедобным в детдоме считалось все, что жуется. И дядя Миша дворник.
Самое страшное утром. Дежурный – всегда мужик – заходит в палату и орет:
– Па-адъем!
Громко, как в рупор. Не!.. Он не так кричал. Он, гад, толкал ногой дверь каждой палаты и в каждую отдельно гаркал свой «Падъем!» После этого вроде бы можно было еще минутку поваляться, пока он пройдет по всему коридору и вернется назад. Но когда дежурный заходил в твою палату, он сходу переворачивал кровати тех, кто еще не встал. Ты – бабах! – на пол. А пол холодный, зараза, деревянный, крашеный, как в казарме. И ты об него всеми членами, какие есть – бабах! Весь сон вмиг отрубался…
Ну и что? Поматеришься про себя. Какой там вслух! И начинаешь кровать и все, что на ней было, переворачивать и обратно затаскивать, все ведь упало вместе с тобой: одеяло синенькое, серенькое, суконное, подушку маленькую, деревянную, свалянную так, что можно шишку об нее набить.
Мы все время гадали, зачем нас постоянно с постели роняют. Теперь-то понятно – со злости, что сами-то они вечно из-за нас недосыпали.
Один был – особенная сволочь. Бандит, в натуре, с рождения. Светлая, творческая личность… Звали его Каллистрат Матвеевич или, по-нашему, Кастрат. Учитель физры. Седой такой, невысокий, но и не низкий, подкачанный. Всю жизнь, садист, занимался гимнастикой, больше ничем. На его занятиях мы не бегали, не прыгали, не дурачились, а всегда делали одно и то же: сальто-мортале через козла. Я уже во втором классе классно делал этот номер, но на ноги почему-то никогда встать не мог, всегда опускался только на жопу, по-китайски так, и руки в стороны. Видно, у меня в жопе центр тяжести, а в голове невесомость.
Весь класс тихо ржал, а Каллистрат ругался:
– Когда ты, мерзавец, наконец встанешь на ноги, это будет последний день в твоей жизни, потому что я их тебе, козлу, переломаю, и ты будешь вставать только на костыли.
Он нас всех очень любил. А как не полюбит, так уж ни сесть, ни встать. Ни на ноги, ни на жопу! Мы его боялись всегда: и утром и вечером. Когда он дежурил, мы вскакивали с постели раньше, чем он кричал «Па-адъем!». А когда он кричал «Отбой!», засыпали сразу или лежали затаившись. Слышно было, как шуршала пыль на подоконнике, а Каллистрат-Кастрат в мягких тапочках подходил к двери и слушал: кто с кем шепчется. Потом заваливал в палату и командовал:
– Так… Ты, ты и ты – встать!
Дальше все по расписанию. Встаешь, снимаешь трусы до колен, подходишь к спинке кровати, нагибаешься, берешься руками за нижнюю перекладину… И он лупит тебя по голой жопе кожаной плеткой. Она у него всегда была с собой. После этого жопа горела и покрывалась синими полосами.
Кожа, правда, не лопалась: видать, Каллистрат бил не со всего размаху и без потяга.
Идешь на кухню, просишь капусты, наломаешь ее и в трусы натолкаешь – полегчает. А что же еще?
Если Кастрат узнает, что ты за день у кого-то другого провинился, не у него, блин, у другого – все равно приходит вечером и говорит:
– Лукацкий! Ты виноват. Пять плетей.
Встаешь раком. А вся палата дрожит, каждый ждет своей очереди. Иногда порол всю палату, но это редко: здоровье свое Кастрат Матвеевич берег.
Девчонок он не трогал. Девчонок вообще никто по жопе не бил, только по роже. По ней всегда было видно, кого сегодня отметили.
Лет через семнадцать мне захотелось снова повидать Каллистрата. Откуда я знаю зачем? Но захотелось крепко. Как жениться. Видно, рубцы на жопе все еще сильно чесались. Я нашел-таки Каллистрата Матвеевича в том же Киеве, но уже на Подоле. Там Кастрат преподавал пацанам гимнастику. Скольких он уже через нее пропустил! Через козла протащил! И собирался тащить дальше, а тут я, как карающий меч, приперся. Вот, думаю, напугаю Кастрата:
– Ты меня, детоубийца, породил, а я тебя убью!
Или нет, я так по-литературному никогда не скажу. Я по-другому:
– Прыгай через козла, евнух позорный!
А, все фигня… Увидел я в кресле толстого старого дядьку, почти не ходячего. Он меня даже не узнал. Я его спрашиваю:
– Вы работали там-то и там-то?
Он сразу сознался.
– Ну и что будем делать? – мямлю.
Он молчит, жопой стул трет, смерть чует. А чего мне с ним делать, я и сам не знаю. Что, мне его самому на козла подсаживать? Посидели, поговорили, детдом вспомнили. Я и ушел.
Больше всего мне нравился в детдоме учитель пения. Страшно косой на один глаз. Или на оба? Непонятно. Его так и звали: «Косой», потому что оба глаза смотрели в разные стороны, как будто поссорились. Щеки у него были ярко-ярко-красные, как после губной помады, бритвой отполированные до блеска. А подбородок угловатый, с острыми краями – порезаться можно.
Смотрел он на нас, как-то скособочив голову, положив ее одним ухом на свою гармошку. Гармошку держал под углом сорок пять градусов и, когда разводил меха, правой рукой загребал аж до пола. На стул садился на самый уголок, словно ждал подлянки от нас. А какая может быть подлянка, если Кастрат потом тебе жопу выпорет? Ну, мы к этой структуре уже были привычны, а новичкам приходилось плохо.
Короче, заходит Косой в класс и сразу же заводит песню, то есть начинает пересказывать вчерашнее кино. Помню, рассказывал «Агонию». Да не про Гришку Распутина… Про то, как немцы ставили звуковые бомбы. И пол-урока объясняет, как они взрываются. Такая песня. Очень интересно, как раз для первого класса. Дурдом!
Весь класс он разбил на голоса, а что это такое – не сказал. Забыл. Или сам не знал. Только во время пения все покрикивал:
– Громче! Еще громче! Третьи голоса, не слышу! Вы не умеете петь! Все! Вы – иждивенцы нашей великой страны. Вы… не сможете в будущем спеть гимн Советского Союза! Что отсюда следует? Что держава вас зря кормит.
Про это нам и другие учителя говорили не раз. Например, учитель истории:
– Вы не знаете нашей истории. Вы все – потенциальные изменники Родины. Повторите!
Самым любимым учеником Косого был, конечно, я.
– Лукацкий, где ты? Спой вторым голосом: шли мальчишки не за славой… Ты уже поешь? Это не второй голос, и не третий, и не первый. Такого голоса вообще в природе нет! Ты никогда не споешь нашего любимого гимна, Родина тебе этого не позволит!
И не надо… Я и по украинскому языку всех удивлял. В диктанте из ста слов сделал семьдесят шесть ошибок. Больше, чем все остальные, вместе взятые, – такого в истории детдома еще не было. Меня даже повесили на доске объявлений.
Мы постоянно бежали из детдома. Куда? Ясное дело – домой. У кого дома не было, бежал домой к другу. Раз я подбил всю палату на побег. Не убежали тоже из-за меня: я заболел скарлатиной или воспалением легких. Температура, как на Солнце.
Как-то приходит ко мне Вовка Дубинин. Не пионер-герой, а мой дружок, но тоже из идейных: если в меня стрелять будут, он обязательно свою грудь подставит. А я нет, потому что кого мне ею заслонять? Ну, разве что Вовку. Но он-то мне этого сделать не даст, он сам это делать любит.
Приходит Вовка, а у него на тыльной стороне ладони шишка была от шайбы. Герой!
– Игорек! Я нашел патрон с войны.
– Ну-ну! Скажи еще, что пушку нашел.
А он вытаскивает из кармана ржавый патрон с целым капсюлем. Ого! Представляете, что это такое? Это же классно! Если его в костер бросить, он же взорвется. И все, война миров, и снова я один на голой Земле. Но как же развести костер зимой?
– Ты где его взял?
– В ботаническом саду, у магазина.
Значит, в нашем сиротском огороде, там, где стена магазина заменяет стену детдома. Понятно?
– А там еще есть?
– Не знаю.
Пошли мы ковыряться в земле. У Вовки была лопатка деревянная, он там «секрет» девчачий искал. Ну, знаете, девчонки сдуру зарывают записочку: «Я тебя люблю!» и стеклышко в подарок тому, кто найдет. Вовка искал «секрет», а нашел патроны. Стали мы там рыть, нарыли патронов на год. Костер развели прямо на крыше магазина, на рубероиде. Крыша почему-то загорелась, рубероид, блин, прогорел насквозь… почему-то. Приехала пожарка. Кто ей сообщил, не знаю. Мы с Вовкой точно не сообщали. Как только загорелось, мы сразу же оттуда драпанули. Борьба с огнем – дело пожарников.
По всему детдому было объявлено общее построение. Алярм! Директриса ходит перед строем и повторяет:
– Кто?
Как в фашистском плену:
– Комиссары, командиры, коммунисты, евреи – шаг вперед! Остальным – шаг назад, ряды сомкнуть!
Я тогда этого не знал. А то точно бы никогда не вышел. Я же еврей, я хитрый. Так все говорят, я не спорю.
Детдом молчит. Промолчали семь часов подряд: тот, кто этого не делал, не выйдет. Верно? А нам с Вовкой тоже неохота. Хотя все знали, что это сделали мы. Откуда? А кто же еще? Дубинин – он же юный техник, подрывник, а я всегда в подельниках. Если кто где куда залез-упал-провалился, то это непременно Лукацкий. Я раз за воробьем в классе погнался: он – в окно, и я – в окно, он – полетел, и я… А я же летать не умею… Ну и грохнулся на клумбу. Не, ничего такого не отбил, даже не зацепило.
Стоим мы семь часов всем детдомом. Потом нам с Дубининым стоять надоело, мы и вышли из строя. Как коммунисты, блин. А директриса, фашистка долбаная, завела нас в свой кабинет. Меня заперла в персональном туалете: там у нее в кабинете туалет был, чтоб далеко не бегать. Меня заперла… а Дубинина отхерачила. Потом Дубинин пошел на мое место, а я на его. Она и меня начала херачить, даже ногами пыталась, но я за стулья прятался. И все время визжала:
– Как вас наша советская земля носит?!
А я ей с перепугу:
– А вас?..
Ухо мне отхерачила, а нос я ей не дал. Зато Дубинину она хорошо нос размазала. Ух! Каллистрат, конечно, ночью добавил:
– Так… Морды вам уже надраили, а жопы еще шершавые. Становись!
Но мне все это, как ежу плетка. Самое мерзкое со мной приключилось еще до детдома, в обыкновенной советской средней школе. На всю нашу школу было всего два еврея – я да Пашка. Нас бы на руках носить! А тут какая-то мразь мне на спину прилепила плакатик: «Плюнь на меня!»
А почему, объяснять никому не надо: Украина же! Ты идешь и ничего не понимаешь, как девка, которой прицепят прищепку за подол платья, а нитку от нее перебросят через плечо. Девка хвать за нитку, а подол…
Пиджак был весь заплеван. На первой же перемене я пошел за школу к фонтану, помылся. Пиджак я выбросил, за что мне здорово попало от мамы.
В детдоме почему-то такого дебилизма не было. Там мы даже гадов немножко жалели, потому что и им тяжело. Если дома нет – туда не пойдешь, а если есть – туда не зовут. Как меня.
Только на праздники забирали меня домой, и я двадцать четыре часа в сутки смотрел телек. Если Витка мешала, я ее бил по коленке. Телек не трогай! Сколько хочу, столько и смотрю! Я и сейчас обожаю под телек спать. Не лежа, а сидя. Класс!
Через пять лет ко мне приехал отец, с яблоками, конфетами и сырой морковкой.
– Хочешь домой? Иди попрощайся с ребятами.
– Па! А я уже давно попрощался.
Отец увез меня в Стрежевой. Мать не провожала, она и не знала. Потом, небось, обрадовалась: а как же – навещать не нужно!







