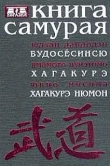Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
Глава 1
Страна: от высокомерия к комплексам, от неподвижности к движению
Общество и государство эпохи Токугава отличались высочайшей степенью стабильности. Однако система сёгуната была выстроена таким образом, что она хорошо работала в условиях закрытости и автаркии, когда она располагала достаточной гибкостью и ресурсом для самоподстройки в случае возникновения внутренних проблем. Однако малейшее внешнее вмешательство в ее деятельность грозило, как оказалось, катастрофой.
К середине XIX в. европейское присутствие в Азии было практически повсеместным. Япония оставалась одним из немногих регионов (островков?), свободных от прямого воздействия Запада. Однако в 1854 г. сёгунское правительство под напором западных держав (прежде всего США, России, Англии и Франции) было вынуждено пойти на открытие нескольких портов «для свободной торговли», а уже в 1868 г. сёгунат Токугава пал. Япония в то время была страной мирной и ни для кого не представляла угрозы. Ее технологии управления и хозяйствования обладали достаточной эффективностью для поддержания в стране высокой численности мирного населения. Однако за долгие годы мира приходилось платить – Япония не обладала управленческим, научно-техническим, а следовательно, и военным потенциалом для того, чтобы предотвратить прямую военную агрессию западных держав.
Эта «отсталость» привела к тому, что сёгунат не смог дать никакого отпора западному давлению. Когда американская флотилия в 1853 г. вошла в залив Эдо, требуя открытия японских портов, японцы не нашли ничего лучше, как развернуть на берегу огромное полотнище с изображением крепости. Однако они упустили из виду, что американцы были оснащены не только пушками, но и биноклями. Сами дымящие угольным дымом фрегаты казались японцам горами, которые перемещаются со скоростью птицы. Знаменитый самурайский меч не мог составить конкуренцию западным корабельным пушкам. Патриотически настроенные самураи провозгласили лозунг «изгнания варваров» и зарубили своими острейшими мечами нескольких европейцев, но это все, на что они оказались способны.
В 1862 г. британский подданный Ричардсон отказался спешиться перед процессией Симадзу Хисамицу – отцом и регентом юного князя Сацума. Вместо этого Ричардсон, поживший в Китае и набравшийся там колониалистских замашек, закричал: «Я знаю, как обращаться с этими людишками!» и погнал лошадь вперед. Однако это были его последние слова. За отсутствие должной церемониальности княжеская охрана зарубила англичанина на месте (при такой непочтительности смерть ждала бы и любого японца). Меркантильные британцы потребовали огромной денежной компенсации, на что Хисамицу ответил отказом. В августе следующего года английская флотилия сожгла деревянную Кагосиму – столицу княжества. После предпринятого обстрела она спокойно удалилась в открытое море. Самураи же стояли по колено в воде с обнаженными мечами, ожидая, когда же начнется настоящая схватка. Однако никто и не думал вступать с ними в рукопашное сражение...
Сёгунат отказался защищать своего князя. Отказался он и сопротивляться западному давлению. Вместо этого для уплаты компенсации власти предоставили заем княжеству Сацума. Немудрено, что в этих условиях сёгунат стал подвергаться проклятиям, многие полагали, что он должен быть устранен – ибо не может гарантировать безопасности императора и независимости страны. В результате вспыхнувшей гражданской войны к власти пришли те силы, которые выступали за всеобъемлющую модернизацию. Сёгунат пал, а на императорский трон взошел юный Мэйдзи (на троне 1867—1912). Его перенесли в паланкине из древнего Киото в сёгунский замок в Эдо (переименован в Токио), а его образ стал освящать всесторонние реформы этого времени.
Эпоха Мэйдзи характеризуется широчайшими преобразованиями во всех областях жизни. Император Мэйдзи позиционировался как абсолютный монарх, хотя на самом деле он таковым не являлся. Более того, он вообще ничего не решал. Тем не менее все преобразования проводились от его имени – ведь он был, согласно официальным подсчетам, 113-м представителем той династии, которая не знала перерыва с незапамятных времен (согласно тем же официальным данным, с 660 г. до н. э.). Реальная власть принадлежала группе людей, состоявшей из нескольких придворных аристократов и представителей низкорангового самурайства (в основном из юго-западных княжеств Сацума и Тёсю). Тех «внешних» княжеств, которые потерпели поражение от коалиции княжеств под водительством Токугава Иэясу еще в начале XVII в., а теперь свергли последнего, пятнадцатого сёгуна Токугава Ёсинобу.
Политическому дискурсу первых годов правления Мэйдзи свойственна резкость выражений, свержение сёгуната зачастую характеризуется как «революция» (несколько позже этот жесткий термин был заменен на более мягкий – «обновление»), сам сёгунат Токугава решительно осуждался за недееспособность. В титул сёгуна входило словосочетание «покоритель варваров», что звучало теперь как откровенная насмешка – ведь именно «красноволосые варвары» заставили Японию открыться помимо ее воли. Сёгунат обвиняли и в том, что он притеснял императора, и за то, что он со своей политикой изоляционизма оторвал страну от «достижений» мировой цивилизации. Одной из основных претензий, которая предъявлялась сёгунату, был упрек в том, что он не смог обеспечить конкурентоспособность Японии на международной арене. Политика изоляционизма, которая раньше казалось благом, воспринималась теперь как преступная недальновидность.
Столкновение с западной цивилизацией и культурой породили в японцах глубочайший комплекс неполноценности. Совсем недавно они считали свою страну абсолютно самодостаточной и полагали, что ей незачем и нечему учиться у «варварского» Запада, который сотрясают войны, мятежи и революции. Но теперь японцы стали говорить, что это их стране нечем похвастаться. Психологический климат в стране стал совсем другим: из уверенных (самоуверенных) людей японцы превратились в нытиков – на какое-то время они перестали гордиться своей историей, культурой и даже географией. Предлагались самые разные и самые фантастические проекты: упразднить иероглифы и ввести латиницу, улучшать «породу» с помощью смешанных браков. Японцы стали жаловаться на малость Японских островов, которые раньше своими размерами совершенно удовлетворяли их. Они стали жаловаться и на то, что обделены природными ресурсами, хотя раньше им вполне хватало всего: земли, еды, воды, воздуха. Смена ориентиров была резкой, психологическая травма оказалась глубокой.
Япония испытывала унижение. Вопреки своим желаниям, она была вынуждена пойти на «открытие» страны, подписала ряд неравноправных договоров, ущемляющих ее суверенитет. Хотя эти договоры, лишавшие страну права самостоятельно устанавливать таможенные тарифы, имели минимальные экономические последствия (объем внешней торговли был крайне невелик), они имели колоссальный психологический эффект. Иностранцы также получили право на экстерриториальность и не подлежали «варварскому» местному суду, не брезговавшему пытками и казнью с помощью отпиливания головы. Иностранцев в стране насчитывалось ничтожно мало, преступлений они тоже совершали немного, но осознание того, что японский закон не властен даже над преступниками, было крайне унизительным.
Империалистический Запад считал Японию «азиатской», то есть заведомо отсталой страной. Поэтому западные державы проводили по отношению к Японии ту же самую «политику канонерок», что и в других странах Азии. В воображении европейских мыслителей и политиков Азия представлялась «спящим» архипелагом, который следовало поскорее «разбудить» для тех видов «цивилизованной» деятельности, которые считались тогда на Западе наиболее престижными (промышленность, торговля, война). В Японии же отсутствовали дымящие заводы, торговец (он же банкир или ростовщик) стоял на социальной лестнице ниже крестьянина и ремесленника, страна не воевала в течение двух с половиной веков и считала это благом. Но теперь приходилось пересматривать все привычные установки.
Не только страна Япония представлялась европейцам «отсталой», сами ее обитатели тоже казались им неполноценными. Это было расистское время, ни о какой «политкорректности» речь не шла. Изгнанные в свое время миссионеры относились к японцам намного доброжелательнее и терпимее, чем нынешние европейцы и американцы, которые твердили о «прогрессе».
Вспомним, что на первых европейцев (миссионеров XVI– XVII вв.), которые попали в Японию, ее обитатели производили весьма благоприятное впечатление. Они находили, что японцы – самый «культурный» народ на всем Востоке. Первый проповедник христианства католик (иезуит) Франциск Ксавье, находившийся в Японии в 1549—1551 гг., писал: «Судя по тем людям, которых мы встретили, я бы отметил, что японцы – наилучший народ, открытый [европейцами], и я не думаю, что кто-нибудь может сравняться с ними среди язычников»1. Другой миссионер, Алессандро Валиньяно, даже находил, что в некоторых отношениях японцы превосходят европейцев: «Люди там белокожи и культурны; даже простолюдины и крестьяне хорошо воспитанны и настолько вежливы, что создается впечатление, что они воспитывались при дворе. В этом отношении они превосходят не только другие народы Востока, но и европейцев. Они очень способны и сообразительны, а их дети быстро усваивают наши уроки и наставления. Они выучиваются читать и писать на нашем языке быстрее и легче, чем дети в Европе. Нижние классы не так грубы и темны, как в Европе; наоборот – в общем и целом они сметливы, хорошо воспитанны и учатся с легкостью»2. Суждения первых миссионеров относительно японцев были достаточно (или хотя бы в какой-то мере) сбалансированы. Единственная по-настоящему серьезная претензия, которую они предъявляли японцам, заключалась в том, что те не исповедуют спасительного христианства и пребывают в языческой мгле.
Однако за истекшие пару с половиной столетий Европа проделала громадный путь. Набрав военной, научно-технической и экономической мощи, люди с «цивилизованного» (не путать с «диким») Запада существенно прибавили в высокомерии и потеряли в человечности. Японские мужчины казались им тщедушными и лживыми, женщины – развратными. Местные японские порядки и обыкновения огульно объявлялись «варварскими». Японцам попросту отказывали в праве на существование. С неподражаемой безответственностью герой рассказа Оскара Уайльда «The Decay of Lying» (1891) утверждал: «И вот теперь, можете ли вы вообще представить, что японцы – такими, какими они явлены нам в их искусстве – вообще существуют? Если вы ответите “да”, то вы ничего не понимаете в японском искусстве... Нет такой страны, нет такого народа».
Уничижительные оценки европейцев относительно японцев выносились даже, казалось бы, самыми доброжелательными и не такими парадоксальными (как Оскар Уайльд) людьми. В лучшем случае они с отцовской нежностью аттестовали японцев как детей, т. е. как недорослей, которым еще только предстоит стать людьми «настоящими», взрослыми. Вот как в конце XIX в. русский путешественник Д. И. Шрейдер описывал японскую трапезу: «Когда я смотрел на это малорослое общество, – японцы отличаются крайне невысоким ростом, – на эту массу микроскопических чашек, флаконов, блюдечек, чайников, и наконец, на эти микроскопические блюда, годные, каждое в отдельности, разве только для лилипутов и грудных детей, – то мне как-то невольно казалось, что я попал в общество взрослых детей, играющих в маленькое хозяйство и употребляющих пищу больше для забавы и развлечения, чем для утоления голода»3.
Д. И. Шрейдеру вторил ботаник А. Н. Краснов, дважды побывавший в Японии в 90-х годах XIX в.: «Если есть на свете царство лилипутов, то это, конечно, остров Киу-Сиу [Кюсю] в Японии. При среднем росте жителя Киу-Сиу, едва хватающего по плечи обыкновенной высоты европейцу, решительно вся его обстановка согласована с этими миниатюрными размерами. Вы въезжаете в улицы, чистенькие, шоссированные, но настолько узкие, что на них не разъедутся два европейских экипажа... [Эта узость] согласуется с величиною зданий – хотя и 2-х-этажных, но столь маленьких, что они кажутся одноэтажными»4.
Несмотря на свою общую доброжелательность по отношению к японцам русские наблюдатели мыслили в полном соответствии с научно-расистскими представлениями того времени. Еще в середине XIX в. французский врач и эмбриолог Этьенн Серре (1786—1868) выдвинул получившую широкое признание теорию, согласно которой развитие рас проходит те же этапы, что и развитие человека. Белая раса уже прошла детскую и подростковую стадии, а все другие расы и относящиеся к ним «примитивные» народы по своим умственным, психологическим и эмоциональным характеристикам находятся в возрасте младенцев, детей, подростков. Серре не писал о японцах специально, но множество западных экспертов – сознательно или бессознательно – находили подтверждения этой теории с точки зрения физического развития именно японцев.
Европейцы почти никогда не характеризовали японское мужское тело как «сильное» и «мускулистое». Если кто-то в Японии и обладал «развитым» телом, то это были только статуи охранителей буддизма Нио, выставленные перед храмами. Лафкадио Хёрн (1850—1904, принял японское имя Коидзуми Якумо), один из немногих и, одновременно, самых ревностных европейских почитателей всего японского, писал об их «устрашающе-мускулистых» телах5. И только тела презренных рикш соответствовали европейским представлениям о телесной красоте. Вот как отзывалось о них российское справочное издание: «Почти совершенно обнаженные кули, превосходно сложенные, с мускулистыми крепкими бронзовыми телами, стоят возле своих “курума”, пролеток, и, держа шляпу в руках, вежливо, в самой утонченной форме, предлагают вам свои услуги, как только вы выйдете на улицу»6. Но рикши – это рикши, и какому образованному японцу пришло бы в голову считать презренного рикшу за образец?
Вслед за европейцами сами японцы тоже стали считать свою страну отсталой, они осуждали свое прошлое и настоящее, считали, что им нечем гордиться. Совсем недавно христианство считалось злейшим врагом, но теперь даже в элите находились люди, которые принимали крещение. Кризис идентичности имел всеобъемлющий характер и осознавался не только как культурно-политический или научно-технический, но и как телесный. Безоговорочно веря оценкам европейцев, японцы тоже стали считать себя «некрасивыми» и хилыми, они полагали, что многие проблемы страны обусловлены телесной немощью ее обитателей. При сравнительном взгляде на тщедушного японского солдатика и бравого европейского моряка их сердца наполнялись унынием. Если при прежних контактах времен Токугава суждения европейцев относительно японцев и их обычаев не принимались в расчет, то теперь мнения европейцев вызывали немедленную реакцию, призванную исправить «недостатки» и подкорректировать имидж.
В то время физическая сила человека еще имела огромное значение. Иностранные инструкторы, выписанные для обучения японской армии, твердили, что японский солдат не в состоянии таскать современную амуницию. Русский матрос вопрошал: «Если б пришлось драться с ними [японцами]... неужели нам ружья дадут?» И. Гончаров отвечал положительно. «По лопарю [толстая веревка] бы довольно», – заметил матрос7. Европейские вещи, инструменты, машины и вооружения были рассчитаны на рослых и «могучих» европейцев, а не на «тщедушных» японцев.
С точки зрения дальней исторической ретроспективы Японии было не привыкать к комплексу неполноценности. Соседство с Китаем, откуда древняя и средневековая Япония черпала культурные и цивилизационные достижения полной мерой, давало для этого веские основания. Приступив к широкомасштабным культурным заимствованиям из Китая в VII в. н. э., японская элита столкнулась с кризисом государственной идентичности. Были предприняты многие практические и символические меры, призванные продемонстрировать независимое положение страны. В частности, введены собственные девизы правления и собственный законодательный свод, чего не было дозволено странам-вассалам Китая. О том же говорило и решение переименовать страну. Без санкции Китая делать это запрещалось. В начале VIII в. вместо Ямато страна стала именоваться Японией («Нихон» – «Присолнечная»), В ход было пущено даже утверждение, что в Японии нормы учения Конфуция соблюдаются лучше, чем в самом Китае. В записи официальной хроники «Сёку ни-хонги» за 704 г. сообщается, что китайские чиновники в разговоре с японским посланником Авата-но Асоми якобы так отзывались о Японии: «Нам часто доводилось слышать, что за Восточным морем лежит великая страна Ямато. Еще ее называют страной Конфуция, люди там богаты и веселы, там хорошо соблюдается церемониальность. Видим, что и ты хорош обликом и одеждой»8.
Зная, что китайская политическая мысль помещала Японию (впрочем, как и все остальные страны) в категорию «варваров», приведенную оценку Японии как страны, где процветают конфуцианские представления и практики («хорошая одежда» в данном случае – это «правильное» китайское чиновничье облачение, призванное, в частности, подчеркнуть социальную иерархию), следует воспринимать с изрядным скепсисом. Однако попытки тогдашней японской бюрократии (она же – аристократия) возвысить себя в собственных глазах не вызывают сомнения. Эти усилия были обратной стороной комплекса неполноценности, который испытывала японская элита по отношению к Китаю, несомненно являвшемуся в то время культурно-политическим гегемоном обширного региона.
С падением династии Мин и установлением «варварской» маньчжурской династии Цинов в Японии стали утверждать, что она превосходит нынешний Китай в институциональном, этическом, интеллектуальном и религиозном отношениях. При этом единицей сравнения выступала «страна», а не индивид, не «население» или же «народ». В этой рефлексии полностью отсутствовала телесность, комплекс неполноценности (превосходства) не затрагивал тело, никто не утверждал, что японец «красивее» (некрасивее) китайца, что японец как таковой в чем-то превосходит китайца. Сейчас же, во второй половине XIX в., кризис идентичности имел всеобъемлющий характер и осознавался не только как культурно-политический, но и как личностно-телесный. Опыта по преодолению последнего Япония не имела.
Еще совсем недавно народному сознанию европейцы казались чудовищами: огромный рост, «непропорционально» большие глаза, длинный нос, «рыжие» волосы, слишком длинные руки и ноги, слишком громкий голос, бородатое лицо, волосатое тело и т. д. Однако те же самые телесные характеристики европейца, которые недавно ужасали японцев, стали теперь трактоваться как признаки «цивилизованного» человека. Многие из них были приняты за идеал, которому следовало подражать. Это была непростая задача.
Европейцы твердили о «сонной» Японии, отсутствие в японцах «динамизма» вызывало неприкрытое раздражение. Обозревая с корабля бухту Нагасаки, И. А. Гончаров восклицал: «Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения... Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом кипения жизни или “мышьей беготни”, по выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешанная синими, белыми, красными тканями?.. Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все заселится, оживится?»9 Посольства Путятина и Перри, прибывшие в Японию в 1853 г., не сговариваясь подарили японцам по модели паровоза – символу «прогресса», суть которого заключена в быстром движении. Европейские державы хотели направить Японию по той же самой колее. Неторопливость, с которой японцы вели дела, вызывала их раздражение. Немецкий врач Эрвин Бельц (1849—1913), живший в Японии с 1876 по 1905 г., отмечал, что дело здесь не просто в отсутствии привычки к тому, что следует делать дела возможно быстрее, – японцы полагают, что скорость является показателем отсутствия приличий10.
Весь модус жизни японца стал считаться «пассивным», граница между Западом и Востоком (Японией) проходила по этой линии. Много позже видный писатель Дадзай Осаму (1909—1948) наглядно демонстрировал это на таком литературном примере. Представим себе, что река отделяет влюбленных друг от друга. Что делает европеец? Раздевается и переплывает реку. А японцы будут по-прежнему стоять на берегу и предаваться ламентациям11. Писатель, возможно, отдавал (или не отдавал) себе отчет в архетипичности придуманной им ситуации. Одним из самых распространенных сюжетов классической японской литературы (сам сюжет имеет китайское происхождение) был рассказ о Волопасе и Ткачихе (звездах Вега и Альтаир), разделенных рекой (Млечным Путем). Они имеют возможность встретиться только один раз в году, а все остальное время обмениваются душераздирающими любовными стихами...
Японцы испытывали комплекс неполноценности перед Западом. В то же самое время господствовавшие в обществе настроения нельзя охарактеризовать как тотальное «уныние». Элита, а вслед за нею и «народ», все-таки полагали, что страна в состоянии догнать Запад. На вооружение было взято учение социального дарвинизма в версии Герберта Спенсера. Вслед за ним японцы стали считать, что «прогресс» обеспечивается сначала соревнованием между отдельными людьми, потом – между группами людей, а в настоящее время – конкуренцией между народами. И что по этой шкале, где сосуществуют «первобытные», «дикие» и «цивилизованные» народы, возможно перемещение вверх. А это давало надежду на улучшение своего положения. Прежняя, ведущая свое происхождение от Китая, модель мира была статичной. Она предполагала, что существует культурный центр, окруженный «варварами». Центр и периферия обладают постоянными характеристиками, а потому варвары никогда не могут приобщиться к цивилизации и встать вровень с Центром. Поэтому перед Центром не стоит задача по интеграции и «просвещению» варваров, а само их существование наполняет сердце гордостью, служит вечным и неопровержимым доказательством того, что тебе выпала счастливая, цивилизованная доля.
Вера в Спенсера давала японцам силы и энергию для проведения реформ. Их главной целью являлось создание такой страны, которая смогла бы не только отстоян, свою независимость, но и войти в клуб европейских держав, i ле опа была бы признана ими в качестве равного партнера. Мшив кая элита была настроена максималистски и не ставила перед собой простых задач. Одной из них было решительное пере осмысление оппозиции движение/неподвижнос! ь.
Раньше считалось, что долговременное отсутствие kohi.ik тов с внешним миром избавило Японию от mhoi их бе вч вин международных конфликтов, войн, революций, эпидемий. Теперь же стали полагать, что изоляция Японии привела к ее отсталости. Чтобы преодолеть изоляцию и отсталость, следовало, в частности, прибавить в динамизме и развивать средства транспорта. Уже в 1872 г. вводится в действие первая железнодорожная ветка, соединившая Токио и Иокогаму. Страна стремительно покрывается сетью железных дорог, развивается современное судостроение. Ввиду недостатка лошадей и горного рельефа гужевой транспорт не получает сколько-то широкого распространения, но все равно быстрые колеса становятся признаком энергйчной современности. Только повозки повезли не лошади, а люди – рикши. Всех японцев теперь призывают к более активной двигательной активности, к занятиям физкультурой и спортом.
Сам император Мэйдзи тоже стал заниматься верховой ездой – вещь в прошлые времена немыслимая. Точно так же, как и его поездки по стране, которые он совершал сначала в паланкине, а потом на корабле, по железной дороге, в конном экипаже. Художники того времени с маниакальной настойчивостью стали изображать транспортные средства и людей, которые находятся в непрестанном движении. Сборник песен, посвященных путешествию по железной дороге, который был выпущен в 1900 г., за двенадцать лет разошелся громадным тиражом в 10 миллионов экземпляров12.
Если раньше «движение» воспринималось прежде всего как «движение» сезонов, то есть движение времени, то теперь картине мира был придан изрядный пространственный динамизм. Идеалом объявлялась не неподвижность (стабильность), а движение, развитие и «прогресс». Глобальные реформы претворялись в жизнь людьми, их динамичными телами, которые должны были соответствовать требованиям времени.
Поэтому горожанам, представителям элиты и интеллектуальных занятий предлагалось оторваться от книг и придать своему поведению больше динамизма, поскольку именно он и обеспечивает прогресс на Западе. Специально подчеркивалось, что это требование не распространяется на крестьян (т. е. подавляющее большинство населения), поскольку их трудовая жизнь и так полна движения. Согласно «точным» подсчетам того времени, реформированию подлежало тело и поведение 16 процентов японцев, т. е. 5—6 миллионов горожан (население страны составляло чуть более 30 миллионов)13. Однако именно эти люди были элитой, т. е. «лицом» японского общества. Таким образом, элита не стала держаться за свои прежние представления о теле и начала реформы с себя, что свидетельствует о тонком понимании ситуации.
В Японии давно знали, что движение полезно для здоровья. Традиционная медицина подчеркивала, что неподвижный образ жизни ведет к застою циркулирующей в организме жизненной энергии, а потому необходимо задавать телу работу. Однако эти наставления были или подзабыты, или же имели ограниченное распространение (не распространялись на высшую элиту). Да и мерилось это движение другой меркой: рекомендуемая Кайбара Экикэн прогулка после принятия пищи составляла всего-навсего триста шагов... В любом случае нынешний призыв к активному образу жизни очаровывал японцев связью не со своим прошлым, а с настоящей европейской аурой.
Положение было особенно серьезным среди высших страт общества – аристократии (как военной, так и киотосской). Помимо гиподинамии, на их здоровье огромное влияние оказывал крайне ограниченный круг потенциальных брачных партнеров, что препятствовало появлению здорового потомства. Так, у императора Мэйдзи было пять братьев и сестер, но, кроме самого Мэйдзи, никто из них не пережил своего отца – императора Комэй, который скончался в возрасте 36 лет. Несмотря на заботу лучших врачей, долгожителей среди императоров и сёгунов было немного.
В эпоху Мэйдзи страна развивалась стремительно, и ее успехи были налицо – это было особенно заметно на фоне других стран «спящей» Азии. Фукудзава Юкити, знаменитый мыслитель того времени, уже в 1885 году обнародовал программную статью «Бегство из Азии», в которой он утверждал: Япония настолько оторвалась от своих азиатских соседей, что ей по дороге не с ними, а со странами Запада. Фукудзава Юкити описывал Японию как динамическое образование, в то время как в странах Азии «ничего не ме-
няется в течение столетий». Христианин Утимура Кандзо (1861—1930) вторил ему: «Наш западный сосед [имеется в виду Китай. – А. М.] до сих пор не имеет ни ярда железной дороги, мы импортировали культуру железных дорог, в результате чего мили и мили полотна добрались до самых удаленных уголков. За тридцать лет Япония перестала быть страной Востока»14. Достижения Японии удостаивались множества лестных оценок и на Западе. «Реформа тела» происходила медленнее, но, как казалось достаточно долгое время, она двигалась в верном направлении.