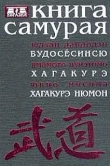Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Глава 2
Тело японца: от кимоно к мундиру, от бритья к бороде
Население Японии распадалось на две основные категории, перед которыми стояли разные задачи в области реформирования тела. Элите (горожанам) предстояло отказаться от гиподинамии, перед «простонародьем» такой задачи не стояло. Однако и тем и другим предстояло изменить такой важнейший параметр, как одежда.
В начале правления Мэйдзи японцы посчитали свое тело «некрасивым», неприспособленным к модернизации и взяли за образец тело европейца. Однако «исправление тела» (наращивание мускулов, повышение роста, ликвидация кривизны ног, вызванной недостатком животного белка и принятым в стране способом сидения на полу, обычаем ношения младенцев и детей на спине и т. д.) – процесс длительный. Поэтому для начала было гораздо проще и даже естественнее «закамуфлировать» тело и скрыть его «недостатки» – то есть облачиться в европейское платье. Естественнее потому, что именно одежда в глазах японца всегда являлась показателем статуса. Соответствующая одежда служила показателем «цивилизованности» и «варварства». Поскольку именно Запад стал признаваться тогда за мерило цивилизации, то и одеваться, и вести себя следовало на западный манер. Относительно последовавшего в 1873 г. запрета на «дурные» обычаи прошлого (включал в себя, в частности, запрет мочиться на улицах и появляться на публике с обнаженными ногами) видный мыслитель Нисимура Сигэки (1828—1902) писал не как о малозначащей частности, а как о важнейшем событии, имеющем отношение к судьбам страны: чиновники и аристократы должны следить за своим телесным поведением, поскольку в противном случае страна не будет иметь права называть себя цивилизованной, «сколько ни тверди о богатой стране, сильной армии и открытости перед заграницей»15.
Национальная японская одежда вызывала у европейцев противоречивые чувства: она вроде бы и красива, но никак не подходит для двигательной активности. Вот как характеризовал традиционную японскую одежду И. А. Гончаров: «Глядя на фигуру стоящего в полной форме японца, с несколько поникшей головой, в этой мантии, с коробочкой на лбу [имеется в виду традиционный головной убор, представлявший собой подобие коробочки из папье-маше, подвязывающейся у подбородка шнурами. – А. М.] и в бесконечных панталонах, поневоле подумаешь, что к^кой-то проказник когда-то задал себе задачу одеть человека как можно неудобнее, чтоб ему нельзя было не только ходить и бегать, но даже шевелиться. Японцы так и одеты: шевелиться в этой одежде мудрено. Она выдумана затем, чтоб сидеть и важничать в ней. И когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только, что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему положению и что тогда она не лишена своего рода величавости и даже красива. Эти куски богатой шелковой материи, волнами обвивающие тело, прекрасно драпируются около ленивой живой массы, сохраняющей важность и неподвижность статуи»16.
Гончаров говорил о «неподвижности статуи» и о том, что японские одежды служат прежде всего церемониальным целям, но требованием эпохи был динамизм. Традиционная одежда препятствовала этому. Это было видно даже по походке: поскольку долгополое кимоно сужается книзу, то с точки зрения европейцев походка японцев выглядела «семенящей» и «шаркающей», быстрое передвижение в ней было невозможно. В особенности это касается женщин, нательное белье которых состояло из куска широкой материи, которая плотно обхватывала бедра и сковывала движения ног, что вело к тому, что носки ног были обращены при ходьбе внутрь.
Японская обувь также препятствовала быстрому передвижению. Она была рассчитана на частое и беспрепятственное снимание у входа в помещение или же при встрече на улице с более высокопоставленным лицом. В «гэта» (деревянная подошва на двух подставочках, где большой палец отделяется от остальных шнуром), предназначенных для ходьбы по улице



волочились по полу наподобие шлейфа у придворной дамы. Его прическа была такой же, как и у его придворных, но ее венчал длинный, жесткий и плоский плюмаж из черной проволочной ткани. Я называю это “плюмажем” за неимением лучшего слова, но на самом деле он не имел никакого отношения к перьям. Его брови были сбриты и нарисованы высоко на лбу; его щеки были нарумянены, а губы напомажены красным и золотым. Зубы были начернены»18.
На своем первом фотографическом портрете Мэйдзи предстает именно таким, как его описал британский посланник. Разумеется, такой облик главы «великой империи» мог вызвать у европейцев только «смешанные» чувства. В их восприятии «настоящий» император должен был являть собой динамичный образец мужественности. Облик же Мэйдзи сильно напоминал женский. Его придворные и чиновники выглядели не лучше. В то время, когда среди элиты господствовала растерянность, она чутко прислушивалась к мнению европейцев.
В 1871 г. последовало распоряжение, предписывающее всем государственным чиновникам облачиться в европейское платье. В императорском указе от 4 сентября говорилось: «Полагаем Мы, что одеждам следует меняться в лучшую сторону во времена перемен, а мужи государственные должны своим авторитетом определять их. Нынешние одеяния и головные уборы были определены по примеру установлений, существовавших в древнем государстве Тан [т. е. Китае 618—907 гг.]. Они скроены ниспадающими и оставляют впечатление слабости. Считаем это весьма прискорбным. В нашей божественной стране с самого начала управление осуществлялось с опорой на военных. Сын Неба являлся главнокомандующим войсками, а люд поклонялся его обличью. Государь Дзимму [трэд. 660—585 до н. э.] при свершении своих изначальных дел [прежде всего, имеются в виду его военные походы против “восточных варваров”] и государыня Дзинго [трэд. 201—269] во время похода в Корею одевались совсем не так, как принято сейчас. Выглядя слабым, как можно управлять Поднебесной хотя бы один день? Так что теперь желаем Мы решительно изменить установления относительно одежды и обновить их, возвратиться ко временам предков и построить государство с почтением к военному. Вы, наши подданные, должны принять Нашу волю близко к телу»19.
Таким образом, имеющая китайское происхождение одежда подлежала смене на «другую». Хотя в указе и говорится про возврат к древнеяпонским традициям, на самом деле имелся в виду переход на европейскую одежду. Японские реформаторы поступали так часто: вводя новые обыкновения, они говорили, что возвращаются «к истокам». В далеком VIII веке, когда Япония модернизировалась по китайскому образцу, главным мотивом введения китайского платья тоже было желание походить на тогдашнего культурного донора. Во второй половине века XIX дело обстояло похожим образом.
Отказ от традиционной одежды объяснялся тем, что она является атрибутом «слабого». Иными словами, «женского». В отзывах европейцев о японских мужчинах мотив «женственности» их облика (имеются в виду, прежде всего, представители правящей элиты) звучит постоянно. Помимо одежды, это малый рост, гладкое и бритое лицо, напоминающее «детское», отсутствие морщин, тихий голос (согласно традиционному этикету, благородный человек должен говорить не только возможно меньше, но и предельно тихо). В этих условиях задача состояла в том, чтобы придать японскому мужчине больше «мужественности». Так что все реформаторы встретили указ с полным пониманием. Они подчеркивали также неудобство традиционных одежд, облачиться в которые было невозможно без посторонней помощи20.
Как следует из императорского указа, европейская одежда государственных служащих воспринималась прежде всего как одежда военная, как униформа. С этих пор традиционные одежды почти полностью исчезают из придворного и государственного обихода. Сам император Мэйдзи подал в том пример – с мая 1872 г. он стал появляться на публике почти исключительно в европейском платье, преимущественно в военном мундире, призванном подчеркнуть его должность верховного командующего. В таком позиционировании Мэйдзи было немало лукавства, поскольку японские императоры никогда не командовали войсками непосредственно (Дзимму совершал свои походы до занятия трона, а Дзито не прохо-

бородка с усами еще более приближали его к европейскому идеалу21.
Военный мундир императора дополнялся кожаными туфлями или сапогами – как уже говорилось, традиционная обувь исключала возможность быстрого передвижения. Раньше обувь императора представляла собой туфли на высокой «платформе» – для изоляции тела императора от вредоносных «флюидов», исходящих от земли.
Официальные изображения высокопоставленных лиц в прежней Японии обязательно предполагали головной убор. На парадном портрете Мэйдзи сидит с непокрытой головой – европейские государи того времени представали, как правило, без него. Исключение составляют конные портреты – когда государь находится не в интерьере, а на воздухе (преимущественно на поле сражения). Мэйдзи тоже изображен без головного убора, но лежащая рядом на столике треуголка как бы напоминает о прежних временах.
Отныне японские императоры и наследные принцы будут появляться на публике в японской одежде в исключительных случаях (интронизация, свадьба, похороны, посещение храма). Поскольку европейская одежда была прочно сопряжена с понятием динамизма, то май 1872 г. был выбран для провозглашения указа об одежде не случайно – Мэйдзи отправился в первое путешествие по стране (напомним, что до него японские императоры на протяжении столетий практически никогда не покидали пределы своего дворца).
Чтобы оценить масштаб психологического переворота, вызванного переходом на европейское платье, стоит вспомнить, что всего несколько лет назад оно вызывало лишь стойкое отвращение. Принцесса Кадзуномия – сестра императора Комэй (отца Мэйдзи) и вдова сёгуна Токугава Иэмоти, отказалась увидеться с новым (и последним) сёгуном Ёсинобу (Кэйки) только на том основании, что тот был одет в европейскую одежду. Ёсинобу, который только что прибыл в Эдо из Осака после поражения своих войск от дружин императора, пришлось одолжить у кого-то японскую одежду22. Фукудзава Юкити вспоминал: когда сёгунская миссия 1860 г. возвращалась из Америки, один из ее членов раскрыл на палубе купленный там зонт, на что его товарищи заметили ему, чтобы



вую сторону приравнивал японцев к японкам... В прежней жизни так запахивалось только облачение покойника. В кимоно роль «кармана» отводится широким рукавам, в которых прятались, в частности, длинные курительные трубки. Поскольку такая трубка не помещается в карманы европейского костюма, это привело к замене японских трубок на более короткие европейские. Вееру, непременному атрибуту всякого летнего наряда, который раньше затыкали за пояс кимоно, также не находилось подходящего места в европейской одежде. Европейская одежда прилегала к телу и казалась стеснительной. Японцы никогда не употребляли шерстяных тканей – они квалифицировали их как принадлежность зверей. Переход на кожаную обувь (сапоги, ботинки, туфли) также не мог не быть травматичным. Во-первых, такая обувь поначалу казалась стеснительной; во-вторых, японцы раньше не носили ничего сшитого из кожи, поскольку она считалась материалом «нечистым». Но сейчас приходилось забыть про прежние убеждения, которые объявлялись «предрассудками».
Традиционная одежда в традиционной Японии свидетельствовала об определенном статусе, статус же предполагал определенные формы поведения. Переход на европейскую одежду в значительной степени «скрывал» статус. Индустриализация требовала рабочих рук, эти рабочие одевались по-европейски и начинали вести себя совсем по-другому. В глазах общества они делались шумными, скандальными, неуважительными и аморальными. Один рабочий горько признавался: одеть крестьянина в европейскую одежду – все равно что дать нож маньяку26.
Европейская одежда вызывало множество неудобств и недоумений, но желание походить на европейцев перевешивало все другие соображения. Некий высокообразованный японец того времени утверждал: «По правде говоря, мы не любим европейскую одежду. Мы носим ее лишь в определенных случаях – точно так же, как некоторые животные принимают, в зависимости от времени года, определенный окрас в защитных целях»27.
Новая одежда и обувь не могли не сопровождаться множеством поведенческих новшеств. Менялась походка – мужчина теперь не волочил ноги по земле, а шагал по ней (правда,



Рюноскэ свои «платяные» ощущения: «Я, посещая общественные места, обычно ношу европейский костюм. В хакама пришлось бы придерживаться строгих формальностей. Даже придирчивый японский etiquette часто весьма либерален в отношении брюк, что чрезвычайно удобно для такого не привыкшего к церемониям человека, как я»31.
Таким образом, форма мужской одежды имела ситуативный характер, полного отказа от национального костюма не происходило. В тогдашнем пособии по этикету говорилось: «При встрече гостя, облаченного в европейское платье, следует провести его в гостиную, поприветствовать и предложить чаю; после этого предложить ему усесться поудобнее на циновки. Если известно заранее, что предстоит длительное застолье, посоветовать гостю переодеться в хозяйские одежды и любезно предложить ему хорошо приготовленную баню, а потом предложить ему японскую одежду»32.
Для того чтобы продемонстрировать себе и Западу свою «цивилизованность», в столичном Токио была устроена площадка, призванная стать витриной «новой» Японии. Речь идет о Рокумэйкан – Доме приемов, строительство которого было завершено в 1883 г. В этом двухэтажном кирпичном здании устраивались приемы и балы, на которых присутствовали европейцы и представители местной элиты. Героине рассказа Акутагава Рюноскэ «Бал» казалось, что во время приема в Рокумэйкан она находится не в Токио, а в Париже. И только китайские чиновники в своих национальных одеждах и со своими национальными прическами (косичками) портили общее «парижское» впечатление и представлялись ей верхом безвкусицы. Японцы того времени стали казаться себе «цивилизованными» европейцами в общении со своими «отсталыми» азиатскими соседями, до которых еще не докатилась модернизация и которые еще не успели отказаться от привычных одежд. Что до тогдашних китайцев и корейцев, то они обвиняли японцев в бездумном подражательстве и отказе от тысячелетних традиций. Однако японская газета «Нихон симбун» писала по поводу бала, устроенного 3 ноября 1885 г. по случаю дня рождения императора Мэйдзи: «Мы не можем не выказать своего уважения по отношению к тем японским женщинам, который проделали такой прогресс в танцах, в манерах и общении... Они действительно достойны звания женщин просвещенной страны».
Японская элита закружилась в вальсе. А ведь совсем недавно европейские наряды и исполненные динамизма танцы представлялись верхом безвкусицы. Когда в 1860 г. посольство сёгуната впервые побывало в Америке, балы произвели на его членов отвратительное впечатление. Заместитель посла отмечал: «Мужчины и женщины двигались парами по комнате кругом, ступая на цыпочки и сообразуясь с музыкой. Они были похожи на мышек, которые не в состоянии остановиться. В этом не было ни вкуса, ни очарования. Было смешно видеть, как огромные юбки женщин надувались при поворотах, как если бы это были воздушные шары... Не подлежит сомнению, что эта нация не знает, что такое порядок и ритуал; весьма некстати, что главный министр должен приглашать посла другой страны на такое действо. Мое недовольство безгранично: они не знают уважения по отношению к порядку, церемонности, долгу. Единственное, что извиняет полное отсутствие церемонности, – это то, что именно так они понимают дружбу»33.
«Передовые» японцы гордились приемами в Рокумэйкан, однако многим европейцам затея пришлась не по вкусу. Моряк и писатель, автор нашумевшего романа «Госпожа Хризантема» Пьер Лоти (1850—1923) по-моряцки прямо сравнивал здание Рокумэйкан со второразрядным казино, а сами балы называл «обезьяньим шоу». Р. Киплинг, побывавший в 1889 г. на балу в Рокумэйкан, предсказывал, что Япония вскоре превратится в «петлицу» на американском наряде. Лафкадио Хёрн предрекал, что фраки и стоячие воротнички вызовут полную деморализацию страны34.
Несмотря на эти уничижительные оценки европейцев, редкий образованный и высокопоставленный японский мужчина отваживался на ношение национальной одежды в публичном месте. Во время проведения торжественной церемонии в новом императорском дворце 11 февраля 1889 г., посвященной провозглашению конституции, даже князь Симадзу, известный своими консервативными привычками, был облачен в европейские одежды. И лишь его традиционная принес-

им Академии изящных искусств униформа, которая должна была напоминать о древнеяпонских одеждах периода Нара (VIII в.), вызывала у студентов и персонала Академии стойкое чувство отвращения: покинув пределы заведения, многие из них заходили к проживавшим неподалеку друзьям и родственникам, чтобы немедленно переодеться36.
Облачаясь в европейскую одежду, японцы хотели мимикрировать, «понравиться» себе и европейцам и, таким образом, стать с ними заодно. Поначалу это желание умиляло европейцев. Во время пребывания японского посольства в Санкт-Петербурге в 1873 г. газета «Голос» с придыханием сообщала: «Члены посольства были одеты в парадных мундирах европейского покроя, богато вышитых золотом, в белых брюках с золотыми лампасами и треугольных шляпах с золотым шитьем и плюмажем. У посланников этот плюмаж – белый, у секретарей и проч. – черный. Во время Высочайшего выхода на площадку перед манежем, представители Японии стояли в первом ряду многочисленной и блестящей свиты Государя Императора, приложа, подобно всем прочим членам этой свиты, руки к кокардам своих шляп. Молодые члены посольства имели чрезвычайно красивый и совсем европейский вид в своих парадных костюмах». В другой заметке сообщалось, что члены посольства катались «в открытых экипажах по Невскому проспекту и по Морской, не обращая на себя ничьего внимания. Проходящие, очевидно, и не подозревали, что эти изящные джентльмены в богатых шубах и парижских шляпах – соотечественники тех японцев, которые в 1861 и 1863 годах обращали на себя внимание нашей публики странностью своих костюмов, головных уборов и бритых, женоподобных лиц»37. Стремление японцев «подделаться» под европейцев вызывало поначалу исключительно положительные чувства у русских газетчиков. Но европейцы хвалили новый облик японцев тогда, когда те попадали за границу. Что до тех европейцев, которые подолгу жили в Японии и имели возможность наблюдать ее обитателей как в японской, так и в европейской одежде, то они относились к реформе одежды, которой так гордились сами японцы, более прохладно. Большинство из них находило, что национальная одежда все-таки больше подходит японцу. Прибывшие в Петербург и облаченные в мундиры японцы приводили в восторг местных обитателей, но вот доктор Бельц с раздражением записал в 1877 г. в своем дневнике, что введенный правительством обычай являться во дворец во фраке, брюках, цилиндре и белых перчатках выглядит гротескно, нелепо и комично, поскольку эти одежды японцам совершенно не к лицу38.
Побывавшей в Японии в 1878 г. англичанке Изабелле Бёрд страна и сами японцы, безусловно, понравились. Но и она говорила, что западные одежды японцу «не идут». Во-первых, отказ от гэта сделал японцев еще ниже, чем они были на самом деле. Во-вторых, японская одежда отличалась свободным кроем, а это, по ее мнению, было хорошо для их худых фигур, ибо делало японцев «размернее» и скрывало «недостатки» конституции. Действительно, японцы того времени не отличались дородством. Поэтому и сами японцы стали считать, что подчеркивающий фигуру европейский костюм больше идет полным японкам, а не худым39.
А. Н. Краснов тоже находил, что европейский костюм идет японским мужчинам меньше национального. Что до японок, то они (речь идет о Нагасаки) «попадаются в европейском платье крайне редко, их осмеивают, и надо надеяться, прекрасный пол Японии окажется умнее и практичнее своих европейских сестер и не заменит здорового для тела и так хорошо к их лицам идущего национального костюма на нелепые выдумки парижских и лондонских дам, стоящих вдесятеро дороже и уродующих стан»40.
Переодеваясь в европейское платье, японцы хотели закамуфлировать свое тело в европейские одежды, чтобы их признали «за своих», но на поверку оказалось, что в глазах европейцев оно только подчеркивает их природные телесные «недостатки». Самооценка и взгляд со стороны демонстрировали драматическое несовпадение. Вспоминая свое путешествие по первой японской железной дороге, соединявшей Токио и Иокогаму, народник Л. И. Мечников, который какое-то время преподавал в Японии, со свойственной революционерам безжалостностью и отсутствием такта писал: «Здешние кондукторы, японцы в европейских мундирах и в белых панталонах на коротеньких, дугообразно изогнутых ножках, сильно смахивающие на хорошо дрессированных мартышек, проделывающих с умным видом перед публикою неожиданные для их звания штуки...»41
Европейская одежда японцев не отвечала и еще одному важному условию: идентификации японцев как японцев, что со временем стало осознаваться как все более важная задача. Приезжая в Америку, японцы обнаруживали, что тамошние китайцы тоже одевались по-европейски, а сами американцы принимали японцев за китайцев (ввиду подавляющего численного превосходства последних – в 80-х годах XIX в. в Америке находилось 105 тысяч китайцев и только 2 тысячи японцев), а это воспринималось как оскорбление42.
Проницательный публицист Миякэ Сэцурэй (1860—1945) писал, что европейскую одежду может напялить на себя каждый – хоть негр, хоть индиец. Если отправиться на Мадагаскар и посетить тамошнее государственное учреждение, рассуждал он, то тамошние чиновники своей одеждой не будут отличаться от чиновников японских. Подобная подражательность свойственна народам «примитивным», такая ситуация подобна тому, как малолетние дети копируют повадки взрослых. Если же речь идет о человеке взрослом, то это означает, что он не обладает чувством собственного достоинства, является лицедеем и похож на шута. Так что для Японии, которая обладает историей протяженностью в две тысячи лет, которая имеет свои собственные древние обыкновения, разработанный этикет, развитую словесность и прекрасное искусство, такая подражательность является постыдной43.
Однако с этими словами, сказанными Миякэ Сэцурэй в 1891 г., были согласны далеко не все. Нанятый в 1887 г. императорским двором немецкий церемониймейстер Оттмар фон Моль полагал, что на званых приемах японская знать вполне может позволить себе национальное платье, но его предложение было с гневом отвергнуто на самом высоком уровне. Что до Миякэ Сэцурэй, то правительство воспринимало его в то время как злостного оппозиционера и хулителя своих «передовых» начинаний, а выпуск его печатного органа «Нихондзин» («Японец»), выступавшего против «бездумного» подражательства и ратовавшего за сохранение японского своеобразия, многократно останавливался цензурой. В это время правительство было самым большим европейцем в Японии, критику нативистского свойства оно считало недопустимой.
Реформа одежды дополнялась «реформой волос». Это был такой телесный параметр, который тоже мог быть изменен сравнительно легко и, одновременно, традиционно служил важным социальным маркером.
Одним из символов прежней Японии была прическа тён-магэ (вначале была распространена среди самураев, потом стала стандартной прической и для горожан). Она представляла собой бритый лоб и косичку на затылке. Европейцы аттестовали ее самым уничижительным образом: «Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической!»44 Кроме того, такая прическа, с точки зрения европейцев, делала японцев слишком «женственными». Аттестация И. А. Гончарова, данная им японцам, может считаться классической: «Вообще не видно почти ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много. Да если и есть, так зачесанная кверху коса и гладко выбритое лицо делают их непохожими на мужчин»45.
В 1876 году прическа тёнмагэ была официально отменена. Фотоателье заполнились бывшими самураями, которые желали зафиксировать последний внешний признак своего благородного происхождения. Школьникам тоже предписали короткую стрижку европейского образца. Одновременно с поразительной скоростью получили распространение европейские головные уборы (шляпы, котелки, цилиндры, фуражки, чуть позднее – канотье). Если раньше соответствующий традиционный головной убор был маркером высокого социального положения, то теперь люди с готовностью и охотой приняли европейские головные уборы, которые служили знаком их «прогрессивности» и «цивилизованности».
В Японии мужчины брились, борода была положена только старцам и мудрецам. Европа же в то время почитала за норму бороду, усы, бакенбарды. Уничижительное отношение европейцев к «безбородости» японцев вызывало у тех глубокий комплекс, понуждала к действию. Желание походить на

образца для подражания: на своем официальном портрете он представал с усиками и бородкой.
Усы и борода превратились в мерило «цивилизованности» (раньше растительность на лице воспринималась как атрибут «варваров» – айнов и тех же европейцев). Фотографии государственных деятелей того времени свидетельствуют: усы и борода сделались необходимым атрибутом приобщения тела японца к «цивилизации», под которой однозначно понимался Запад. Показательно, что те люди, которые протестовали против курса правительства на европеизацию, не только отказывались от европейской одежды – они по-прежнему не отращивали усов и бород. По отсутствию растительности на лице с достаточно большой долей вероятности можно было «вычислить» оппозиционера. Протестуя против безоглядной вестернизации, знаменитый писатель Нацумэ Сосэки (1867—1916) писал о неприглядном и вульгарном типаже новейшего времени: золотые часы, западная одежда, борода, речь, уснащаемая английскими фразами46. Не будем при этом, правда, забывать, что сам писатель тоже носил усы...
Желание походить на европейцев было сильным, но пропаганда волосяного покрова на лице преподносилась и в рамках привычной и столь милой оппозиции мужское/женское. «Творец дал мужчинам бороду и усы, но лишил растительности женщин. Он дал каждому свое украшение... У мужчин есть свои украшения, и с их помощью они украшают свое тело. У женщин есть свои украшения, и с их помощью они украшают свое тело»47.
Европейцы с большим энтузиазмом восприняли желание японцев иметь такой же, как у них, волосяной покров на лице. В газетном отчете о посещении японским посольством Санкт-Петербурга в 1873 г. с удовлетворением отмечалось: «Все члены посольства и их спутники одеты по-европейски. Все они с длинными волосами, и за исключением старшего посла, все носят усы, бакенбарды или французские бородки. Старший посол лет сорока, с задумчивым и умным лицом; второй посол – совсем еще юноша с небольшими усиками, бородкой и густыми роскошными волосами на голове. В движениях, манере носить платье, трости и проч., в приемах при курении сигар (которые большая часть из них не выпускают изо рта), члены посольства усвоили себе совершенно европейский характер. Только смугло-желтый цвет кожи да несколько плоский профиль выдают происхождение этих посланцев молодого преобразователя [имеется в виду император Мэйдзи] Японии»48.
Поскольку европейцы расценивали японское лицо как «детское», или даже «женоподобное», то усы должны были «состарить» его и придать ему более «мужественный» (мужеский) облик. Литератор Тогава Сюкоцу (1870—1938), путешествовавший в Америку и Европу в 1908 г., отмечал, что он болезненно переживал свою «узкоплечесть», и только собственные усы позволяли ему ощущать себя несколько «более широкоплечим»49. То есть растительность на лице как бы увеличивала размеры тела, помогая преодолеть стеснительность «маленького» человека. Отсутствие же усов стало восприниматься как признак безнадежной «отсталости».
Однако в скором времени и в этом отношении японцев ждало жестокое разочарование. И дело не только в том, что волосяной покров на лице отличается у японцев меньшей густотой. С начала XX в. мода на усы и бороду идет на Западе (особенно в Америке) на убыль, они становятся достоянием людей пожилых (т. е. «консервативных»), а также «презренных» рабочих (статус пролетария в Японии был исключительно низок, поскольку в рабочие подавались только младшие сыновья крестьян, которые не имели шанса унаследовать земельный надел). Так что усатые японцы, путешествовавшие в США, превращаются там в объект для насмешек50. Таким образом, усы, которые воспринимались в самой Японии в качестве показателя приобщенности к «настоящей» цивилизации, оказывались негодным оберегом против насмешек людей Запада. Японцам казалось: если мы однажды стали схожи обликом с западным человеком, то так останется навсегда. Но в то время этот западный человек уже сделался рабом моды, и того же он требовал от всего света.
Путешествия японцев на Запад слишком часто приносили разочарования. В самой Японии многие из них вступали в непосредственный контакт с миссионерами и по ним судили о людях Запада в целом. Однако миссионеры были людьми особыми, среди них было немало выдающихся людей. Японцы хотели видеть в странах Запада христианский рай на земле, где все люди живут в соответствии с евангельскими заповедями. Однако сколько-то длительное пребывание японцев в Европе и Америке слишком часто оканчивалось культурным шоком: приходилось признать, что люди в Японии гораздо вежливее, честнее, они не боятся оставлять свои дома не запертыми на ключ, они не так алчны, агрессивны, они не так высокомерны и насмешливы. Знаменитый поэт Такамура Котаро (1883—1956), который в 1906 г. учился в Нью-Йорке скульптурному делу, ощущал со стороны «простых» американцев такую дискриминацию, что в одном из своих стихотворений («Слоновий банк»), описывающем посещение зоопарка, он утверждает: тамошний слон и сам поэт относятся к друг другу с симпатией, потому что оба они – родом из Азии.
Вместо того, чтобы радоваться новым заграничным впечатлениям, японские мужчины предавались самоедским переживаниям. Повествуя об опыте своего проживания в Лондоне, Нацумэ Сосэки с грустью говорил в 1901 г., что он встретил там только одного человека одинакового с ним роста – подойдя поближе, он увидел собственное отражение в зеркале. Такамура Котаро со свойственным поэтическому сознанию сверхвоображением видел себя и других японцев (стихотворение «В стране нэцкэ», 1910 г.) в качестве грубой деревянной куклы (нэцкэ) – выступающие скулы, толстые губы, треугольные глаза, она лишена души, не знает саму себя, она вертлява, дешева, тщеславна, мала, холодна, самодовольна, она похожа на обезьяну, лисицу, насекомое... В эссе «Письмо из кафе» он рассказывает о своем первом сексуальном опыте: после ночи с прекрасной парижанкой (ее глаза напоминают ему ясное небо над Индийским океаном или же витражи Нотр-Дам) он видит себя в зеркале, ужасается своей безобразности, в его ушах стоит крик: «Ты – япошка!»