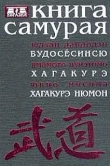Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Анализируя высказывание Танидзаки относительно зубов, следует обратить внимание и на следующее обстоятельство. «Показывать зубы» считалось в традиционной Японии неприличным. До сих пор многие японские женщины, улыбаясь, прикрывают ладонью рот. Зубы ассоциировались с агрессией и злобным характером. С открытым ртом изображались черти. Недаром поэтому и главный отрицательный персонаж сказания о 47 ронинах – Кира Ёсинака (Моро-нао) – изображается с открытым ртом, в то время как «настоящие» герои неизменно предстают перед зрителем с сомкнутыми губами57. Поэтому фотографии американских актеров с их широкой улыбкой и обнаженными белыми зубами


в туалетах европейского типа. Точно так же раздражают его и белые суповые тарелки, и белейшая европейская бумага, которая блестит и отражает свет, что неприятно глазу. В то же самое время традиционная китайская и японская бумага свет поглощает, она мягка и не издает при складывании неприятного шуршания, что создает впечатление уюта и спокойствия. Так же нехороши белые потолки и стены европейского жилища59.
Иными словами, ненавистная Танидзаки белизна, подчеркнутая таким же «безвкусным» электрическим освещением, исходит с Запада, она есть продукт деятельности белого человека. Писатель же мечтал о доморощенной цивилизации, самобытном искусстве и знании, которые порождали бы вещи и образы, способные соответствовать «цвету кожи и наружности японцев, японскому климату и пейзажу».
В традиционной японской культуре белый цвет, как уже отмечалось, устойчиво ассоциировался с погребальным обрядом и отчетливо напоминал о смерти. Эта символика сохранялась и в новых условиях. На похоронах знатного лица люди облачались во фрак, в петлицу которого вставлялась белая розетка60. На перевязочных пунктах в японской армии тяжелораненых, требующих немедленного хирургического вмешательства, маркировали белыми ярлыками, остальных – красными61. В популярном романе Кикути Кан (1888—1948) «Дама с жемчугом» (1920)62 его героиня, которая приносит окружающим смерть, обладает белейшей кожей, а ее аксессуаром, давшим название роману, является белоснежное ожерелье. Иными словами, и в белом цвете кожи – вопреки всем эталонам традиционной культуры – теперь могли видеть отсутствие жизни, угрозу, безжизненность, отсутствие красоты.
Разумеется, белый цвет напоминал японцу не только о смерти. Он служил и символическим обозначением любой ритуальной чистоты. Но именно «смертельную» коннотацию белого цвета и пытались (вероятно, подсознательно) актуализировать новые творцы «чисто японской» цветовой и телесной эстетики.
При первоначальных контактах с японцами многие европейцы отмечали превосходный художественный «вкус» японцев. Относясь весьма скептически к обыкновениям японцев и их одежде, И. А. Гончаров, тем не менее, после встречи с японскими чиновниками отмечал: «Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: всё смесь, нежные, смягченные тоны того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах, и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории»63. Он же свидетельствовал: «Наши русые волосы и белые зубы им [японцам] противны; у них женщины сильно чернят зубы; чернили бы и волосы, если б они и без того не были чернее сажи»64.
Таким образом, «чужие» цвета (включая белый) входили в противоречие с традиционными представлениями о том, каким надлежит быть японскому цвету. Конечно, тогдашняя японская массовая культура часто демонстрировала совсем другие образцы отношения к цвету, но наиболее чуткие интеллигенты формировали иные подходы, основанные на учете местных культурных особенностей.
Вышеприведенные высказывания японских писателей и мыслителей принадлежат людям, на глазах которых среда обитания японца менялась решительно и бесповоротно. Однако детские воспоминания бередили душу и обладали несравненной и столь понятной привлекательностью. Ко многим чутким людям приходило ощущение, что западная массовая культура, представленная в Японии (главным образом в ее американском изводе) – чересчур примитивна, кричаща, назойлива, безвкусна. Это касается и жилья, и одежды, и еды. Танидзаки писал: «В детстве омлет был для меня вкуснее са-сими, сейчас совершенно обратное. Мне кажется, <...> что, в общем, самая невкусная в мире еда – европейская. Не оттого ли, что я живу поблизости от Нада, где сакэ изготовляют из кристально чистой воды, японское сакэ стало для меня самым вкусным?»65
Вестернизация заставляла менять привычки и вкусы, вторгалась в самое интимное – в тело, но отменить ностальгию по старым добрым временам и она была не в силах. Так бывает везде и всегда, но в Японии эта тоска приобрела сильно выраженный эстетическо-телесный оттенок. «Поскольку Япония уже вступила на пути европейской цивилизации, то остается только оставить стариков на обочине; тем не менее, следует помнить, что, покуда не изменится наш цвет кожи, мы сами должны будем всегда тащить на своих плечах тот груз потерь, который предназначается нам одним»66. Иными словами, Танидзаки настаивал на неотменимости расовой принадлежности, реализующейся через кожу.
Писатели, поэты, публицисты и мыслители – часто с раздражением – отмечали, что по стилю жизни японцы теперь мало отличаются от европейцев, но от этого желание самоидентификации становилось только сильнее. Тело (главным образом кожа, отчасти волосы67) было тем последним рубежом, где японец держал оборону от «вражеских» сил, которые стремились отменить самобытность нации, самобытность японца. Культура и быт Японии испытывали сильнейшее влияние Запада, но антропологические особенности нельзя было нивелировать, и японцы надеялись, что цвет кожи спасет их от уничтожения. В отличие от конца XIX и начала XX в., когда японцы страстно желали походить на «белоснежных» европейцев, «неотменимость желтого» выступала теперь как положительный фактор. Однако временами от рассуждений на эту тематику веет истерикой.
Наблюдения Танидзаки Дзюнъитиро, Хагивара Сакутаро и им подобных зачастую отличаются тонкостью и вкусом. Вырванные из историко-культурного контекста рассуждения Танидзаки о свете и тени, о белом и черном до сих пор считаются на Западе классикой японской эстетики. Однако не будем забывать и о том, что – в конечном итоге – они представляли собой ослабленный эстетикой перевернутый шовинизм белого человека. В особенности, когда эти идеи бывали перенесены на уровень массового сознания в условиях крепнущего тоталитаризма с его откровенно националистическими устремлениями. Японская культура не стремилась к равенству, расовая красота вписывалась в эту закономерность. Раньше японцы казались менее красивыми, чем европейцы, теперь красивее стали японцы. И теперь признаком «благородного» происхождения и «красоты» выступает не белый, а желтый цвет (цвет японской кожи) со всеми возможными вариациями и оттенками.
Осмыслявший телесную красоту японцев, этот эстетический дискурс мог иметь определенный успех только в самой Японии. Выражение «люди Востока», которое употреблял Танидзаки, включало в себя еще и китайцев с корейцами, но это – по большому счету – мало меняло дело. Презрительное и высокомерное отношение большинства тогдашних японцев к современным им китайцам (не говоря уже о корейцах) не вызывает никакого сомнения.
Однако за счет одного этого эстетического дискурса телесный комплекс неполноценности не мог быть преодолен полностью. Сравнивать свое тело с телом европейцев вошло в болезненную привычку. Сэридзава Кодзиро в романе «Умереть в Париже» (1942) писал: «Любуясь невестой, совершенно естественно державшейся в европейском платье – встречая гостей у входа зал, она была в белоснежном свадебном наряде, а на банкете появилась в нежно-розовом суаре, я невольно думал о том, как быстро прижилась в Японии западная культура, ведь нынешние японки даже с точки зрения западных стандартов могут смело соперничать с европейскими женщинами. Марико, к примеру, ни в чем не уступала многим замечательным представительницам женского пола, с которыми я познакомился в Европе и которые блистали не только красотой, но и умом, не говоря уж об исключительной тонкости чувств, являвшейся едва ли не главным их достоинством»68.
Тем не менее и Сэридзава полагал, что таких японок, которые могут соперничать с европейками, насчитывалось совсем немного. Героиня романа отмечает: «Рядом с нашей каютой была каюта тридцатилетней японки, которая ехала вдвоем с сыном, пятилетним мальчиком смешанной японоанглийской крови. Она, что совершенно нехарактерно для японок, была прекрасно сложена, элегантное европейское платье сидело на ней превосходно, походка была не хуже, чем у европейских женщин, плывущих на нашем корабле, и я, прогуливаясь по палубе, изо всех сил старалась идти так, как эта Хацуко Макдональд, – я впервые надела тогда европейское платье, туфли причиняли мне неимоверные мучения, но я терпела, старательно следила за своей походкой, смотрела на Хацуко снизу вверх и мечтала о том времени, когда стану такой, как она, и научусь ходить так же легко и непринужденно, как европейские женщины»69.
Приведенная цитата свидетельствует об убежденности автора в том, что можно «выучиться» на европейца. Но это была «отсталая» точка зрения, свойственная для более раннего времени. Обществом все более овладевают настроения, что японцу не следует стремиться стать европейцем – следует не учиться у него, а проучить, что и обеспечит чаемую самоидентификацию японского народа.
Глава 4
Национализация тела
Государь (или сёгун) в традиционной Японии – это объект непосредственного почитания и авторитет для сравнительно узкой группы приближенных лиц. В Японии конца XIX – начала XX в. в соответствии с общеисторической тенденцией в «развитых» западных странах созидалось государство «народного типа», когда руководитель такого государства является репрезентацией всего населения, всей «нации», всего «народа», что создавало предпосылки для мобилизации этого народа в немыслимых доселе масштабах. Специфика Японии заключалась, в частности, в том, что в Европе это явление протекало на фоне десакрализации (или же полном элиминировании) фигуры монарха, в Японии же мы наблюдаем создание народного государства, сердцевину которого образует монарх, подвергающийся усиленной сакрализации. И не «народ» – через посредство мирных выборов или же кровавых революций – является источником его власти (что характерно для западной ситуации), а он сам (его тело и кровь) являются для народа источником жизни. Власть японского императора дана ему рождением, она зависит не от народного во-леизлияния, а от решения синтоистских божеств, вынесенного в незапамятные (и столь памятные) времена мифа. Поэтому синхронные по времени западные технологии репрезентации лидера нации, рассчитанные на создание эффекта «близости к народу», применялись в Японии в ограниченной степени. Он не произносил зажигательных речей с трибуны, мало путешествовал по стране и редко встречался с населением, не писал писем и теоретических работ, обязательных для изучения. Лицезрение его портрета было обусловлено ситуативно (предъявлялся в учреждениях и школах только во время государственных праздников), императорская иконография не знала трехмерных (скульптурных) изображений. С появлением радио император Сёва не стал использовать его для общения с народом. Лидеры западного типа искали площадки и возможность (или же ее видимость) для диалога, который в японской ситуации выглядел попросту неуместным. Японский император не искал близости с народом, это народ искал близости с ним. Искал и находил.
Метафора коллективного тела имела огромное значение в государственной идеологии второй половины XIX – первой половине XX в. Уподобление государства человеческому организму (государство-тело, яп. кокутай) встречается еще в древнекитайских сочинениях, однако в Японии это уподобление входит в действительно широкий обиход только в период Мэйдзи. При этом знакомая метафора приобретает значения, навеянные европейскими (главным образом немецкими) мыслителями (прежде всего правоведами) с их идеями «органического государства». Причем, в зависимости от политических и мировоззренческих убеждений, государству-телу могут приписываться разные и даже конфликтующие смыслы.
Видный юрист и политический деятель Цуда Мамити (1829—1903) писал в 1874 г.: «Полагаю, что правительство подобно духу, народ же подобен телу. Сочетание духа и тела образуют человека, сочетание правительства и народа образуют государство. Тело без духа – это труп. Дух же сам по себе, без тела – это не человек. Народ без правительства не образует государства. Правительство без народа тем более не образует государства. Если кто-то думает, что тело просто повинуется приказаниям духа, то это не так. У тела есть свои дарованные Небом законы. Если не учитывать эти законы и чрезмерно использовать тело, тогда и дух подвергнется чрезмерному напряжению, что приведет к ослаблению человека и его смерти. Если же использовать тело в соответствии с небесными законами, тогда человек будет становиться все здоровее и здоровее»70.
Цуда Мамити выступал против абсолютной монархии, в его понимании тело-народ имело право на сопротивление в случае его чрезмерного «использования» духом. Цуда действительно заботился о «народном теле» – выступал против пыток в тюрьмах и ратовал за создание парламента.
По отношению к государству наиболее последовательно и успешно (в плане общественного признания) применял метафору тела другой юрист – профессор Минобэ Тацукити (1873– 1948). Именно под его влиянием в начале XX в. в японский политико-государственный быт прочно входит «теория органа» (кикансэцу). Согласно Минобэ, государство представляет собой единый организм, в котором каждая его клетка (человек) входит в состав определенного органа и всего тела. Император же отправляет функцию «головы».
В традиционной китайской мысли государь характеризовался, как правило, в качестве «сердца» (или «сознания» – яп. смн, кокоро) – органа главного, но местоположение которого затруднительно определить, поскольку его (в отличие от сердца анатомического) нельзя увидеть ни при каких обстоятельствах. Вслед за Китаем, в древней и средневековой Японии император также уподоблялся сердцу. Как и «сердце», японского императора увидеть было тоже нельзя. Уподобление господина голове, а вассалов – рукам и ногам встречается преимущественно в военной сфере – скажем, при описании отношений князя и его самураев71. Однако в Японии второй половины XIX в. вместе с началом позиционирования императора в качестве верховного главнокомандующего (напомним, что в японской истории императоры никогда не командовали войсками) Мэйдзи тоже начинает уподобляться «голове». Так, в манифесте 1882 г., адресованном военнослужащим, император говорит о себе как о голове, а о военнослужащих – как о ногах и руках, представая в качестве руко– и ноговодителя72.
Ранние просветители периода Мэйдзи, которые делали упор на необходимости приобретения современных западных научных знаний для модернизации Японии, при характеристике тела-государства употребляли позаимствованную с Запада новомодную медицинскую лексику. Они тоже ратовали за монархию и уподобляли ее телу, но в их рассуждениях государь именуется не вульгарной головой, но «головным мозгом», а его чиновники не только «пятью органами» (понятие «пяти органов» было присуще для традиционной медицины), но и «нервной системой»73.
К концу XIX в. в сознании японского общества уже прочно укоренилась концепция «государства-семьи». В этой системе император исполняет роль отца-матери (фубо) для своих подданных, которые в официальных указах именуются даже не просто его детьми, а младенцами (сэкиси). В китайской политической философии долг по отношению к родителям (ко) и долг по отношению к государю (пдо) были разведены. И верность по отношению к родителям не означала автоматической (анатомической) верности императору, долг перед родителями считался важнее долга перед «сыном Неба», что вызывало в нынешней Японии осуждение: подобная ситуация предусматривала пугающую возможность выступления против монарха.
В связи с этим японская общественная мысль «усовершенствовала» китайскую модель – оба этих долга оказались объединены в один: «верность государю и родителям – это одно и то же» («тюко иппон»). Подобное соединение встречается еще в работах нативистов эпохи Токугава, в период Мэйдзи этот лозунг был повторно обоснован Като Хироюки, который полагал, что в нем заключена уникальность японской политико-культурной ситуации, когда правящая династия не знает перерыва, и в стране невозможны революции – на том основании, что в жилах всех японцев течет одна и та же японская кровь.
Профессор Токийского императорского университета Ход-зуми Ясака (1860—1912) в работе «Патриотизм народного образования» писал в 1897 г.: «Неотъемлемое свойство [политической] системы японского народа состоит в том, что она является кровным образованием... Нашим общим предком является внушающий трепет Небесный императорский предок. Он является предком нашего народа, а императорский дом является домом хозяина народа». В 1912 г. другой профессор Токийского университета – Какэи Кацухико – додумал эту мысль до конца и в работе «Великий смысл древнего синто» заявил, что «ни один человек, принадлежащий к японскому народу, не может существовать без императора. Поскольку мы получаем свою жизнь от внушающего трепет императора, то, если бы императора не было, мы не смогли бы даже родиться, а японский народ исчез»74. Утверждение о том, что все японцы являются кровными родственниками, было большим новшеством. Еще совсем недавно никому просто не могло бы прийти в голову объявить, что в жилах сёгуна и крестьянина течет одна и та же кровь.
Таким образом, несмотря на оттенки в политических взглядах мыслителей, все японцы считались этими профессорами органами (клетками) одного и того же огромного тела – сообщества под названием «государство». В «настоящем» теле каждый орган выполняет отведенную ему функцию. Но японская общественная мысль основной упор делала не на функциональности, а на соподчиненности органов, т. е. на первое место выходила столь любезная японской мысли идея иерархии и служения.
Эта идея не была просто «придуманной», для японского общества она выглядела действительно как совершенно «органичная» и пронизывала все общественные отношения. Она была закреплена и в гражданском кодексе, где, несмотря на многие западные нововведения, главе семейства предоставлялись огромные полномочия по отношению к членам семьи (вплоть до права исключать кого-то из семейных списков, что превращало исключенного в деклассированный элемент). Невостребованность человека в качестве субъекта служения воспринималась как оскорбление и дискриминация. В отличие от управленцев, которые получали вознаграждение один раз в год, рабочим в начале XX в. полагалась поденная зарплата, что расценивалось как недоверие, сомнение в лояльности – ведь «настоящий» человек служит своему господину не один день, а всю жизнь. Во вполне типичном письме рабочего, направленного в газету в 1914 г., говорилось: несмотря на то, что я бедный и презираемый рабочий, «я не человек, который смотрит на свою жизнь как на собственную принадлежность. Я готов отдать жизнь своему господину и своей стране: как поезд следует по рельсам, я буду всегда следовать путем справедливости»75. Таким образом, мы видим искреннее желание того, чтобы жизнь и тело не принадлежали самому человеку.
Японцы искали «хозяина», кому можно было бы вверить свою жизнь в безраздельное распоряжение (пользование). И этим «хозяином» оказалось в результате государство. В 1934 г. некий Ооиси Минэо с упоением писал, что «личность» является принадлежностью государства – точно так же, как руки, ноги и сердечная мышца являются принадлежностью человеческого организма76.
«Теория органа» Минобэ Тацукити какое-то время считалась ведущей и официально признанной. Но в 1934 г. она подверглась суровому осуждению со стороны военных на том основании, что император не может быть органом (пусть даже самым важным), т. е. выполнять подчиненную по отношению ко всему организму роль. Минобэ Тацукити был изгнан со всех своих должностей (он, в частности, был членом верхней палаты парламента), его обвиняли в том, что он не в состоянии оценить «эмоциональную связь» между императором и народом, правительство официально открестилось от «теории органа». Организм был разрушен. Военные выполнили то, что они умели лучше всего – разрушать. Император перестал быть «головой», лишился своей важной самостоятельной функции и «народ» – теперь ему предстояло только подчинение. И если в указах императора японцы продолжали именоваться «младенцами», то в планах правительства народ фигурировал теперь исключительно в качестве «ресурса». В телесности всегда присутствует человеческое, плотское, земное, а радикалы делали упор на «небесности», непередаваемой духовности японца, и эта духовность осознавала плоть как груз, как помеху к духовному полету. Государство лишилось плоти, теперь в нем господствовали не имеющие земного веса эмоции.
Этот «эмоциональный процесс», который вел к упразднению тела, хорошо виден повсюду и на всей территории страны. Еще в начале XX в. в школьном учебнике 5 класса по родной речи содержался текст, повествующий об опыте восхождения на «национальную святыню» – гору Фудзи, где подчеркивались трудности, с которыми приходится сталкиваться путешественнику: подъем тяжел, воздух разрежен, плохо горит костер, трудно приготовить пищу. Однако потом подобные связанные с телесным опытом пассажи исчезли из текста учебника. Их место занимают описания «светоносной» Фудзи, которая является символом японского народа. При этом наблюдатель занимает место у подножия горы, то есть Фудзи для него существует лишь как объект визуализации, а не как объект подъема со всеми вытекающими из него телесными ощущениями и тяготами.
В руководстве для учителей относительно урока, посвященного Фудзи, говорилось следующее: «Поскольку дети хорошо и близко знакомы с Фудзи по фотографиям и картинкам, и поскольку эта гора часто упоминается в учебниках, она уже почти стала для них предметом для почитания – даже для тех, кто не видел ее. Не подлежит сомнению, что Фудзи – вне зависимости от наличия или отсутствия опыта соприкосновения с реальным ландшафтом – является для всего народа предметом для поклонения, она обожествляется как проявление японского духа. Целью урока является максимальная и понятная конкретизация характерных черт этой чудотворной горы, возбуждение в детях чувства восхищения, воспитание в них народного характера».
Таким образом, постулировалась необязательность для ребенка самому увидеть Фудзи или же взобраться на нее. Для формирования «настоящего» японца основным признавался тот словесно-изобразительный опыт, который он получает как в самой школе, так и из средств информации. Отрыв от реального телесного опыта, отлет от действительности являются родовым свойством утопических обществ и государств, которые предпочитают оперировать со знаками, а не с обозначаемыми ими реальностями. Отказ от телесной метафоры применительно к государству привел к ситуации, когда основной и почти что единственной («монопольной») метафорой для описания государственного устройства становится метафора семьи, которая клонируется не только на всех уровнях общества, но распространяется и на международные отношения – так, «дружественные» (т. е. присоединенные к Японии или оккупированные ею) страны характеризуются как «старшие» (Китай, Маньчжоуго, Корея, Тайвань) и «младшие» братья (страны Юго-Восточной Азии). Сама же Япония выступает, естественно, в качестве «родителя»77.
Такие проблемы, как цвет кожи, проблема красоты, эстетика тела по-настоящему волновали интеллектуалов – в основном применительно к женщине. Государство тоже беспокоили телесные проблемы, но понимались они по-другому. Японское государство становилось все более маскулинным, тоталитарным, военизированным, экспансионистским и утопичным. Призывая японцев сменить место жительства и

переселиться в оккупированную Маньчжурию, пропаганда прямо утверждала, что государство Маньчжоуго – «рай для переселенцев». Для осуществления грандиозных планов по превращению всей Азии в настоящий рай требовались люди. И чем больше, тем лучше. Эти люди понимались как «ресурс».
Человеческий ресурс должен был быть силен и здоров, ибо японское государство не ставило перед собой простых задач. После оккупации Маньчжурии (1931—1932 гг.) особенно усилились призывы к тому, чтобы японцы становились все более сильными телом, ибо в этой материковой стране переселенцы столкнутся со страшными холодами и суховеями. Таким образом, японцу следовало готовить свое тело к пребыванию в непривычных природных условиях. В связи с этим государство стало проявлять все большую заботу о теле императорских подданных. В тоталитарном государстве все должно быть под контролем, включая тело. Это тело нужно было заставить быть здоровым. Процесс превращения тела в собственность государства (олицетворяемого прежде всего императором), начатый еще во вторую половину правления Мэйдзи, набирал обороты. Защитить свое тело от вмешательства государства было нелегко. Следует также помнить, что у слишком многих японцев процесс огосударствления тела не вызывал особых возражений, ибо в японской культуре давным-давно господствовали установки на то, что тело не принадлежит самому человеку. Только при сёгунах Токугава оно принадлежало Небу, родителям и сюзерену, а теперь оно отторгалось в пользу государства и императора. Публицистические тексты того времени полны прямыми указаниями на необходимость национализации тела японца: равно как и дух, оно «является собственностью императора, государства, народа, а не самого человека»78.
Какую же заботу проявляло правительство о человеческом «ресурсе»? Следует сказать, что понятие «ценный ресурс» имело отношение прежде всего к детям, а также половозрелым, фертильным и трудоспособным (главным образом в физическом отношении) особям обоего пола. В этом смысле к старшему поколению понятие «ресурс» было применимо лишь в ограниченной степени. Япония была страной, безусловно, геронтократической, решения там принимали люди пожилые, но их политика по обеспечению здоровья нации была выборочной и имела своим главным объектом молодежь. Она имела своей целью не столько продление жизни, сколько увеличение количества носителей жизни. Система пенсионного обеспечения по старости находилась в зачаточном состоянии и распространялась только на государственных служащих. Никаких специальных программ помощи старикам не существовало. Японское государство склонилось в результате к идее, что поддержки требуют не слабые и больные, не старики и старухи, а поколение юное.
«Ювенифильная» политика Государства представляла собой решительный пересмотр ценностей традиционной Японии, когда главным объектом общественной (семейной) заботы являются старики. Разумеется, стариков в Японии продолжали почитать, но забота о них возлагалась исключительно на семью и соседей. С 10-х гг. XX в. в стране получили достаточно широкое распространение соседские «общества почитания стариков» (кэйрокай), на которых пожилым людям вручали памятные подарки, но эта была, скорее, инициатива «снизу», и сама организация этих мероприятий лежала на плечах молодежных организаций. Государство же предпочитало думать не о прошлом, но о будущем. Причем не столько о будущем каждого отдельного японца, сколько о судьбе страны. В дебатах, предшествующих принятию того или иного закона по здравоохранению, неизменно подчеркивалось, что болезнь (будь то туберкулез, проказа или сифилис) ведет к тому, что больной будет производить слабое потомство. Слово «народ» и его производные («народный дух», «народное здоровье» и т. п.) были чрезвычайно частотными в словаре того времени, но и «народ» не обладал самоценностью. Его предназначением являлось служение идее государства как такового.
В мае 1927 г. при кабинете министров был создан Департамент ресурсов, целью которого являлась выработка политики по лучшему контролю над «человеческими и материальными ресурсами». Чего здесь было больше – очеловечивания материи или материализации человека? Среди чиновников этого департамента высказывалось и мнение о необходимости ограничения рождаемости (в это время уровень рождаемости в Японии соответствовал Франции 1840-х гг., Англии 1870-х гг., Германии– первого десятилетия XX в.), но в результате возобладала противоположная точка зрения: одной из основных задач департамента признавалось увеличение населения и его «качества», под которым понималось прежде всего здоровье молодого поколения. В заявлении одного из высокопоставленных чиновников провозглашалась цель создания «тела, способного с успехом выполнять задачи по обороне страны и производительному труду», в то время как больные и умственно неполноценные люди таких задач выполнить не в состоянии79.
Создание департамента явилось отражением ситуации, когда прежние «естественные» резервы по увеличению населения и улучшению здоровья японца оказались в значительной степени исчерпаны. Бедственная ситуация со здоровьем нации усугублялась финансовым кризисом 1927 г. в самой Японии и последовавшим сразу вслед за ним мировым экономическим кризисом 1929 г., в результате которых качество жизни японцев значительно ухудшилось. И без того не слишком богатый калориями и животным белком рацион стал еще скуднее, что делало тело более беззащитным перед лицом болезней. Кое-где японцы даже подголадывали.
Как и всюду в мире, вместе с урбанизацией страны рождаемость стала постепенно падать. Пик рождаемости был достигнут в 1920 г., после этого она начала уменьшаться с каждым годом. Правительство с большой подозрительностью относилось к призывам к ограничению рождаемости, никогда не поощряло «планирование» семьи, аборты были запрещены, публичные лекции поборников контроля над рождаемостью отменялись (так произошло, в частности, с приехавшей в Японию в 1922 г. американкой Маргарет Сангер, 1883– 1966), их печатные произведения подвергались цензуре. Однако в связи с неблагополучной экономической ситуацией второй половины 20-х гг. противозачаточные средства все-таки начали получать распространение, некоторые «несознательные» японцы считали допустимым «планирование семьи» по «низким» экономическо-индивидуалистическим соображениям.