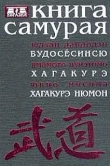Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Глава 3
Тело одетое и тело нагое: встречать и провожать по одежке
Традиционная Япония (как и вся дальневосточная культура конфуцианского ареала) никогда не знала такого ригористичного отношения к телу и всем проявлениям телесного, как то было в странах христианской культуры. Потерпевшие кораблекрушение японские моряки, которых миссия Н. П. Резанова возвратила на родину в 1804 г., с нескрываемым удивлением отмечали, что в жару «на корабле всякий обливался водой два-три раза в день. Русские при любой жаре донага не раздевались и, даже обливаясь водой, оставались в однослойной одежде»57.
Истязание, самобичевание и наказание греховной плоти в Японии принято не было. Аскетические практики буддийских монахов и даосов имели целью не уничтожение греховной плоти и не причинение себе «спасительных» страданий, а лучшую подготовку, закалку тела для вознесения в рай, лучшего кармического перерождения, достижения бессмертия. Дальневосточная культура не создала ничего подобного образу страдающего распятого Христа. Люди не желали обрести и не искали на своем теле стигматов. Высказывание папы Григория Великого «Тело есть отвратительное вместилище души» не могло быть порождено на Дальнем Востоке. Наряду с другими культурными «нестыковками» специфически христианское представление о теле как источнике греховности создавало непреодолимые препятствия для сколько-нибудь широкого распространения христианства в Японии даже тогда, когда в стране стала реально существовать свобода вероисповедания.
Тем не менее и в традиционной Японии на экспозицию обнаженного тела и его изображение существовали серьезные ограничения. Европейцы сурово критиковали японцев за то, что летом те носят полупрозрачные одежды, работают

Представителям социальной группы «неприкасаемых» («эта» и «хинин») запрещалось носить длинное кимоно ниже колен (помимо этого, они должны были носить на боку разбитую чашку, пользоваться бамбуковыми, а не деревянными палочками для еды). В некоторых регионах и случаях крестьяне совершали паломничества в святилища обнаженными (хадака-маирй), что, видимо, должно было продемонстрировать их чистоту и отсутствие неправедных интенций, но для элиты это было немыслимо.
Представители высших социальных страт избегали, как было сказано, посещения общественных бань. Однако в отличие от Европы, где баня считалась рассадником разврата, в Японии это происходило по другим соображениям: баня лишала одежды, то есть статуса. В бане нужно было расстаться не только с одеждой, но и с мечом, а меч был наделен для самурая таким же огромном символическим смыслом, что и нательный крестик для христиан. Мечам давали имена, считалось, что нужно настолько сжиться с ним, чтобы ощущать его частью своего тела (некоторые говорили, что он должен ощущаться как рога у животных). Утеря меча каралась самым суровым образом – вплоть до лишения фамилии.
Дайдодзи Юдзан писал, что, принимая домашнюю ванну, самурай должен иметь с собой хотя бы деревянный или затупленный меч59. Мыслитель аргументировал это необходимостью быть всегда настороже, но на самом деле такой меч – вещь совершенно бесполезная в случае внезапного вооруженного нападения. Видимо, речь идет о «дисциплинирующем» эффекте меча, о ежеминутной готовности к схватке (смерти) и о невозможности отказаться от статуса хотя бы на минуту. Поэтому было принято, чтобы знатного человека сопровождал в туалет его слуга самурайского звания. Фукудзава Юкити описывает курьезный случай: во время нахождения в 1862 г. в Париже делегации сёгуната один из ее глав отправился в туалет, расположенный в коридоре шикарного отеля. Как и положено, его сопровождал слуга с масляным фонарем (хотя вся гостиница была ярко освещена газовыми рожками). Перед входом в туалет этот высокопоставленный человек отцепил свой меч и вручил его слуге, который невозмутимо дожи-

ровки указывали на статус (антистатус) человека. В то*же самое время в период Токугава среди городских низов широкое распространение получают цветные татуировки, которые зачастую покрывали весьма значительную часть кожного покрова. Эти люди работали обнаженными, и татуировки, видимо, предназначались прежде всего для того, чтобы скрыть обнаженное тело. Татуировки бывали обычно весьма «серьезного», зачастую «автобиографического» содержания (буддийские молитвы и изображения, любовные клятвы, тигр – символ силы, могущественный дракон, рыба – «удостоверение» рыбака и т. д.). В то же самое время татуировки запрещались самураям.
Боязнь сексуального осквернения никогда не носила в Японии маниакального характера, свойственного Европе. Согласно синтоистскому мифу, серия актов творения совершалась в основном парными (мужским и женским) божествами посредством соития, что, естественно, придавало ему соответствующий статус, передававшийся и людям. Сексуальная жизнь воспринималась как атрибут жизни «нормальной», как частное проявление творительных потенций Природы и Неба, как реализация мужского и женского природных начал – Ян и Инь. Христианство с его концепцией единого Творца решительно табуировало наготу и изображение полового акта, считая недостижимым идеалом непорочное зачатие. Японские «безбожники» высмеивали последователей христианства, в частности, на том основании, что те поклоняются Христу, у которого не было отца, т. е. он является социально и морально ущербным маргиналом. «[Христиане] говорят об Иосифе и Санта Марии, что они всю жизнь были добродетельны и не жили вместе, но стали отцом и матерью – родился Иисус Христос. И это они почитают за высшее добро. Случается, что муж и жена не живут вместе, но нормой для всех людей является совместная жизнь. Тот, кто поступает по-другому, творит зло»61. В трактатах, посвященных здоровому образу жизни, секс, наряду с едой и питьем, рассматривался в качестве базовой потребности человека. Многие мыслители и врачи полагали, что соответствующие сексуальные практики ведут к продлению жизни. Широкое хождение имели трактаты и пособия, посвященные сексуальной жизни. Они свидетельствуют о большой изощренности, фантазии и чувстве юмора у их творцов.

Городская культура эпохи Токугава имела мощную чувственную составляющую, представленную, в частности, разветвленной сетью публичных домов. Широчайшее распространение получают цветные гравюры, на которых изображались проститутки и их клиенты в самых нескромных позах. Подтверждением широты распространения этого вида живописи служит огромное количество сохранившихся «весенних картинок» (сюнга) – практически все художники-граверы отдали дань этому жанру.
Название «сюнга» обусловлено тем, что традиционный для Дальнего Востока новый год символизировал наступление весны. Существовало обыкновение, когда в первый день нового года люди дарили друг другу календари с «нескром-

щего заведения, учебника (известно, что сюнга входили в состав приданого невест князей), для возбуждения желания и, возможно, в качестве вспомогательного средства для рукоблудия. Изображения полового акта предельно откровенны и брутальны. Они являются еще одним свидетельством мужского доминирования в жизни общества. Тщательно подавляемый с помощью системы церемониального поведения комплекс мужской агрессивности в мирной Японии находил выход, в частности, в изображениях этой агрессивности, реализуемой в публичных дома.
Нескромные картинки не имели статуса «настоящей» живописи и никогда не украшали дом – в «красном углу» японского дома, в нише-токонома, вешались пейзажные свитки или же каллиграфия. Начиная с 1722 года власти неоднократно запрещали нескромные картинки, но как-то непоследовательно и вяло, так что они имели широчайшее бытование. При этом главным мотивом запрета служило не нарушение художниками «моральных норм», а требование вести экономный и скромный образ жизни. Как уже говорилось, инвективы сёгуната против проституток не включали «запрета на профессию» – регламентированию и осуждению подвергались их «роскошные» одеяния и украшения. И в этом отношении проститутки мало чем отличались от остального населения Японии, которое подпадало под те же самые ограничения. Запрет на употребление красного цвета в цветных гравюрах (1792 г.) следует понимать в русле этих же самых ограничений. Государство предписывало японцам жить в мире приглушенных тонов. Связь между цветом и половым влечением не придумана автором – любовь к чувственным удовольствиям определялась в японском языке как «иро гономи» – «любовь к цвету». Яркость же расценивалась как вызов одной из основных официальных установок – установки на экономность и скромность, установки, которая в результате распространялась и на цвет.
Несмотря на то что объектом изображения сюнга был половой акт, на этих картинах редко встречается полностью обнаженное тело. Даже при изображении самых страстных мгновений свиданий мужское тело обычно не обнажается полностью (и это при том, что гипертрофированное изображение половых органов считалось вполне «нормальным»). На покрывающей спину мужчины одежде можно часто увидеть родовой герб, временами мы наблюдаем любовника с заткнутым за пояс кинжалом или даже мечом, которые указывали на самурайский статус его обладателя. Распространенная трактовка меча как фаллического знака не представляется основательной, поскольку этот меч всегда находится в ножнах и своим острием направлен вовсе не на женщину; кроме того, меч и фаллос обладали в японской культуре совершенно различной статусной значимостью, так что их уравнение было для самурая делом невозможным.
В синхронной китайской традиции изображения полового акта одетые фигуры практически отсутствуют. Японская «нескромная» живопись до токугавской эпохи тоже предпочитает полностью обнаженное тело. Однако более чем на 80 процентах сюнга времени Токугава оба партнера тем или иным образом одеты, причем узоры на их одеждах соответствуют тем узорам, которые фиксируются в пособиях для портных соответствующего периода63. На наш взгляд, это было напрямую связано с тем повышенным вниманием, которое уделяла культура токугавского времени одежде как социальному (дифференцирующему) маркеру (отчасти и показателю «вкуса»), что и не «позволяло» художнику «раздеть» объекты своего страстного изо(воо)бражения. По этой же причине и прически партнеров практически всегда предстают в идеальном (не растрепанном страстью) виде.
В то же самое время в Японии отсутствовало изображение обнаженного тела как такового, вне связи с половым актом или общественной баней. То есть чисто эстетическому любованию телом и его формами в японской культуре не находилось места. Ничего подобного античной (а вслед за ней и европейской) скульптуре, где предметом изображения является тело как таковое, вне связи с эротикой, Япония не знала. Японцы не вычисляли пропорции «идеального» тела. «Автопортрет» Дюрера, где он представлен совершенно обнаженным, в японской культуре был невозможен. Поэтому западные репрезентации обнаженного тела вызывали у японцев откровенное удивление. Вот как отзывался о парковой скульптуре Царского Села по-


тания и управления государством. И в «пути самурая» и в «пути» европейского рыцаря ценится верность, но в Японии весь ее потенциал использовался на служение сюзерену, семье, а не растрачивался на служение «прекрасной даме».
Таким образом, официальная культура осуждала «серьезную» половую любовь, но подконтрольный сознанию секс такого возмущения не вызывал. Посещение публичного дома не считалась зазорным, среди элиты (императорский и сёгун-ский дворы, князья) полигамия была делом совершенно естественным, что вызывало жестокую критику европейцев, но в то время их мнение не принималось в расчет. В то же самое время супружеская измена со стороны женщины сурово осуждалась японским обществом и встречалась исключительно редко, хотя брак не освящался в Японии церковью и не считался таинством.
С точки зрения христианских наблюдателей Япония представлялась страной «беспутной». Однако, как ни парадоксально, одежде в этой стране придавалось большее значение, чем в ригористичной Европе. Именно одежда служила одним из главных параметров «правильного» церемониально-телесного поведения. В Японии она имела, пожалуй, еще большее значение, чем в Европе, которая начала раньше избавляться от внешних признаков социального статуса. Идея о том, что именно одежда отличает человека от животного, человека от «варвара», являлась общим местом рассуждений китайских и японских мыслителей о природе человеческого. Одежда считалась важнейшим средством для воспитания церемониаль-ности. Ямага Соко прямо писал, что древние мудрые правители с помощью регламентаций в одежде добивались исправления нравов, совершенствования добродетелей, правильного телесного поведения65.
Идея о неразрывной связи одежды и правильного церемониального поведения прекрасно видна из того случая, который описал самурайский сын Фукудзава Юкити в своей автобиографии. Этот эпизод относится к его молодости, когда он был учеником частной школы. Когда Фукудзава уже лег спать, он услышал, как кто-то зовет его. Подумав, что это назойливая служанка из общежития, он в негодовании вышел к ней неодетым. Каково же было его удивление, когда он увидел

тов в древности и средневековье68. Эта традиция сохраняется вплоть до новейшего времени. В качестве главного сёгунского подарка членам миссии Путятина (1853—1854 гг.) фигурировали «всего лишь» отрезы ткани и шелковая вата, что, похоже, вызвало у них некоторое разочарование69. Сёгуны не использовали свою одежду дважды и дарили ее своим приближенным. Князья поступали так же, но они носили одежду в течение восьми дней70.
Придворные и чиновничьи одежды не претерпевали существенных изменений в течение веков. Одежда указывала на статус и социальную принадлежность. Поскольку идеалом выступала неизменность порядков, одежда также менялась мало. В связи с этим одежда европейцев вызывала недоумение. Не только своим необычным кроем, но и непостоянством. Испанец Родриго Виверо, который в 1609 г. потерпел кораблекрушение у берегов Японии, приводит слова японского чиновника, возмущенного «разнообразием их [европейцев] костюмов – области, в коей испанцы столь непостоянны, что-де каждые два года одеваются на иной лад». Что до самой Японии, то этот чиновник похвалялся тем, что «его народ более тысячи лет не изменял своего костюма»71. Феликс Мейлан, глава голландской торговой фактории в 1826—1830 гг., подтверждал, что за два с лишним истекших века положение не изменилось: «Для нас, европейцев, наши одежды и наряды – уже совсем не те же, что у наших отцов, не говоря уже о дедах; они не имеют ничего общего. Если же посмотреть на изображения японцев, которые жили триста лет назад, и сравнить их с картинами, на которых представлены их потомки, то окажется, что их одежда и прически не претерпели никаких изменений. Приверженность японцев к неизменности их старомодных одежд позволяет им избежать дорогостоящих и бессмысленных трат, связанных с изменением моды»72.
Одежды высших придворных, аристократов, князей, сёгуна и императора волочились по полу. Одежды аристократок представляли собой многослойные (до 12 слоев) халатообразные накидки с подобием шлейфа. Аристократы в Киото и высокопоставленные самураи носили шаровары (нагахакама), штанины которых были намного длиннее ног. Такие одежды ско-




того, ч тобы демонстрировать знание правил церемониально-сги, направленных на поддержание иерархии. Подавление «естественности», сокрытие ее (тела) делало его человеком «культурным», отличным от животного. Именно поэтому Ямага Соко полагал, что назначением обуви является вовсе не удобство, а сокрытие ступней от посторонних взглядов. Он же писал и о том, что неподобающая одежда и облик являются фактически проявлением агрессивности, которую следует подавлять. Сочетание короткой одежды, неопрятной прически, обнаженных локтей, сжатых кулаков, злобно блестящих глаз, устрашающего вида, грозного меча, незнания классических текстов и невежливых речей являлись для него признаками неверного понимания «пути самурая»75.
Носители власти и авторитета ассоциировали себя с неподвижностью, а не с движением. Японский император позиционировался в качестве земного воплощения неподвижной Полярной звезды, вокруг которой другие звезды ведут свой «хоровод». Отношения государя и подданного «клонировались» на всех социальных уровнях: вступая в контакт с «подчиненными», человек более высокого статуса всегда занимает неподвижное положение – он сидит, к нему приближаются. В связи с этим двигательная активность аристократов близилась к нулю. Они редко покидали пределы столицы. Высшие аристократы передвигались либо в повозке, запряженной медлительными волами, либо в паланкине. В качестве доказательства безумия императора Кадзан (984—986) средневековое сочинение «Великое зерцало» приводит такой факт: этот государь вознамерился сесть на коня76. С течением времени сёгунский двор в Эдо все более приближался по признаку подвижность/непод-вижность к императорскому окружению, сёгуна («грозного» военачальника) и князей никогда нельзя было увидеть на коне. Таким образом, скорость передвижения тела, являющаяся на Западе одним из маркеров высокого социального положения, в Японии такой роли не играла.
Общим требованием к одежде был ее неброский цвет. Элита избегала в одежде ярких цветов, которые считались атрибутом людей «низких». Рекомендовалось избегать и крупны,х гербов, узоров и широких полос, всего того, что «бросается в глаза»77.

процессии князя или же высокорангового самурая помещали человека с острым зрением, в обязанности которого входило определение герба на флажке встречной процессии.
Помимо самураев, гербы украшали и одежду любого городского мужчины, который обладал хоть каким-то положением. В отличие от крестьян горожане (как и самураи) обладали фамилиями, зрительным выражением которых и служил герб. Гербы имели такое широкое распространение, что шведский врач и ботаник Карл Тунберг (Thunberg, 1743—1828), побывавший в Японии в качестве члена голландской миссии в 1775—1776 гг., даже предполагал в них меру, направленную против воровства – «чужой» герб был виден всякому78.
Семейный статус женщины обозначался с помощью нескольких маркеров. Замужние женщины чернили зубы, выщипывали брови, белили лицо, красили губы, делали особую прическу и завязывали пояс на кимоно спереди (девушки – сзади).
Японцы предстают перед нами как люди крайне чувствительные в отношении одежды. В произведениях японской литературы (как древней, так и средневековой) описания внешности персонажей редки, в портретных изображениях лица высокопоставленных людей лишены, как правило, индивидуализирующих черт, они больше походят на маски, чем на реальных, неповторимых и уникальных людей. Японский портрет характеризуется тем, что лицо как бы «смазано», глаза почти что закрыты или же только намечены. Европейская идея о том, что «глаза – зеркало души», была японцам чужда. Итальянский торговец и искатель приключений Франческо Кар-летти (1572—1636), побывавший в Японии в 1597—1598 гг., писал о том, что местный идеал красоты предполагает не большие, а маленькие глаза79.
Чем выше был статус изображаемого человека, тем меньше в нем «портретного» сходства. Люди высокого статуса (как мужчины, так и женщины) покрывали свое лицо толстым слоем грима, создавая дополнительный социальный маркер и дополнительную защиту от злых духов, чужих глаз и сглаза. Этой же цели служили и внушительные зонты, которые – вне зависимости от погоды – слуги несли над знатным человеком во время его выходов за пределы дома.


жей» того времени также имеют мало общего с самим объектом, поскольку цель состояла в изображении того, чему надлежит быть, а не того, что есть на самом деле)81.
Душа японца (во всяком случае, обладающего определенным статусом) была заключена не столько в чертах лица и или в глазах, сколько в одежде, ее аксессуарах и прическе. Одежда придавала телу необходимый половозрастной и социальный статус, индивидуальные черты лица лишь «затемняли» его. «Портрет» человека того времени – это всегда портрет должным образом одетого человека. Именно соответствие изображаемого своему статусу и есть его «портретное сходство».
Многочисленные обряды и обыкновения, связанные с одеждой, свидетельствуют о тождественности человека и его одежды.
Сразу после рождения младенец еще не считался «человеком» (именно поэтому в этом возрасте и был возможен инфантицид). В течение нескольких дней после рождения младенца не одевали в предназначенную для него одежду, а кутали в материнскую набедренную повязку (косим аки), старые летние накидки (юката), набедренную повязку (фундоси) отца, в некое подобие пеленки. Лишь после наречения младенца именем (на седьмой день после рождения) и посещения святилища (обычно на тридцатый день), когда «объявляли» ребенка перед богами (часто для лучшей коммуникации с ними его вынуждали там плакать), он получал «человеческий» статус и имел право на личную одежду, которая, в частности, маркировала и пол (темная или черная – для мальчиков, красная – для девочек). Вместо самого младенца можно было отнести в храм и пояс детской одежды, над которым читались молитвы. После этого инфантицид был невозможен, ибо ребенок становился «настоящим» человеком, то есть был «одет».
В одежде «жила» душа носившего ее человека. Новую ткань можно было подарить любому, но подарок ношеной одежды свидетельствовал об особо близких связях между дарителем и тем, кому такой подарок преподносился. Попадание одежды к постороннему считалось опасным, ибо он мог проделать с ней ритуалы «черной» магии. Поношенную верхнюю одежду с нанесенным на ней гербом полагалось сжигать. Существовал и запрет на «одалживание» одежды, в особенности пояса – той части одежды, которая соприкасалась с животом – вместилищем японской души. Во время корейской экспедиции Тоётоми Хидэёси его войска разграбили гробницу корейского правителя, сожгли его труп, а в королевскую одежду облачили труп простолюдина82. Таким образом, несоответствие одежды и статуса должно было выразить крайнюю степень презрения японских воинов.
Буддийская составляющая японской культуры учит отрешенности от суетного мира, выражение лица у будд и бодхисаттв характеризуются, как правило, непроницаемостью, глаза у изображений святых обычно полузакрыты, что свидетельствует об их полном душевном равновесии и отрешенности. Их взгляд направлен не вовне, а внутрь себя. Учение знаменитого проповедника дзэн-буддизма Хакуина (1685—1768) настаивало на первостепенной значимости именно «внутреннего взгляда» (найкан), целью которого было познание своей сущности. В то же самое время у ревностных адептов буддизма допускалось появление слез, свидетельствующих о религиозном умилении83. Слезы у придворных кавалеров и дам, возникающие у них от любовных переживаний, считались необходимым признаком аристократизма и тонкости чувств.
Однако установка официальной (конфуцианской) культуры токугавской эпохи была совсем другой. Она предполагала сдерживание внешних проявлений эмоций и способствовала тому, что лицо не воспринималось в качестве показателя душевного состояния человека. Воспитанному и благородному самураю и мужу (даме) также приличествовало сохранять невозмутимое, «непроницаемое» выражение лица. Громкий голос, смех и плач, чрезмерное проявление гнева, печали и радости выдавали «подлое» происхождение или же свидетельствовали о недостойной «слабости», неумении владеть собой. Европейцам японское лицо казалось «непроницаемым», в чем они зачастую усматривали «бесчувственность», «скрытность» или же «двуличие». Развитая мимика европейцев, напротив, служила для японцев еще одним признаком их «некультурности».
Таким образом, в токугавской Японии мы наблюдаем не «культ лица», а «культ одежды». То есть в облике человека подчеркивалось не столько его переменная (мимика), сколько неизменная (статусная) составляющая. Поскольку одежда была лишена индивидуализирующего значения, понятие моды отсутствовало (или было ослаблено), никакие новшества не приветствовались. Одежда состояла из ряда подпоясанных халатообразных накидок (пуговиц японцы не знали), которые скрывали особенности телесной конституции. Одежда не облегала тело, а «маскировала» его. Маскировала таким образом, чтобы лучше выявить социальный статус ее хозяина. Если оценивать ситуацию в целом, то можно сказать, что японских морализаторов, писателей и художников больше интересовали в облике не те черты, которые выделяли человека (индивидуальность) из толпы (особенности внешности, мимики), а те, которые ясно обозначали его статус. Поэтому при введении в повествование того или иного персонажа писатели часто указывают на его прическу, которая служит указателем на возраст, общественное положение или род занятий. По этой же причине одежды бывают прописаны в литературных произведениях с подкупающей тщательностью, а на живописных свитках по одежде всегда можно определить, к какой общественной страте относится тот или иной персонаж. Невнимание к описанию внешности персонажей (выражение их лица) хорошо чувствуется даже в современной японской литературе.
В средневековых (в особенности относящихся к эпохе Хэйан) художественных текстах, имеющих своим источником императорский двор, часто говорилось о женской красоте, но авторы обычно ограничиваются восхищением белой кожей и длинными (густыми) волосами. Характеризуя женскую «красоту», они говорят о том, что женщина была прекрасна, как «фея» или «картинка», уподобляют ее знаменитым китайским красавицам. Характеристика мужчины, как обладающего «красивой» внешностью, также встречается достаточно часто. Эти тексты сосредоточены на любовных переживаниях персонажей, поэтому их гендерная привлекательность имеет для авторов такое большой значение.
Официальная культура эпохи Токугава относилась к хэй-анским текстам с осуждением, половая любовь воспринималась как распущенность. Поэтому и определение «красивый» применительно к внешности встречается в литературе этого времени реже. Уподобления японок китайским красавицам не исчезают полностью, однако теперь акцент делается совсем на другом: утверждается, что истинная красота заключена не во внешности, а в душевных качествах, которые достигаются правильным воспитанием. Так, Кайбара Экикэн в своем поучении женщинам решительно утверждал: «Будет лучше, если душевные качества женщины станут превосходить внешние. Отказываться от женской добродетели и служить [мужчине], полагаясь лишь на внешность, считалось встарь, считается и теперь дурным. Мудрецы древности не отвергали даже тех, чья внешность была поистине безобразна, и если у женщины обнаруживался превосходный нрав, то она могла стать и императрицей»84. Приведя примеры из китайской истории, автор продолжает: внешность дается рождением и не поддается изменению, поэтому следует трудиться над гем, что возможно «окультурить», т. е. следует озаботиться воспитанием добродетельности – в таком случае и безобразная внешность не может послужить помехой для исполнения своего долга. Таким образом, ясно утверждается приоритет культурного над природным, повышенной ценностью обладает то, что возможно изменить, реформировать, окультурить.
Представление о том, что привлекательность женщины заключена вовсе не в ее внешности, глубоко укоренилась в японской литературе. Вместо того чтобы описывать внешность красавицы, Ихара Сайкаку (автор, который творил для простонародья) предпочитает описывать ее одежды, аксессуары и прическу: «Поверх нижнего кимоно из узорчатаго белого шелка на алом исподе на ней было нарядное фурисодэ [верхняя накидка, носимая незамужними девушками. – А. М. с рисунком в виде кипарисовых вееров, подвязанное поясом, сплетенным из крученых лиловых нитей. Небрежно уложенные волосы посередине перехвачены золоченым шнурком... В руке вместе с веером, украшенным кистями, она держала листья тутового дерева»85.
«Красота» представителей высших страт японского общества была заключена прежде всего в одеждах и церемониальном поведении. Поэтому выявление индивидуализирующих особенностей внешности может происходить только при описании «простонародья» и у тех авторов, которые писали для простонародья (в особенности это касается юмористических произведений). При этом может описываться не столько «красота», сколько безобразность, по параметрам которой мы и можем судить о нормативных представлениях о красоте. В юмористическом рассказе Ихара Сай-каку опытный сват так расхваливает свою безобразную клиентку: «Личико у нее хоть и скуластое, но приятной округлости. Лоб выпуклый, будто нарочно создан для накидки кацуги. Ноздри, может быть, и великоваты, зато дышит она легко и свободно. Волосы, нет спору, редкие, но это имеет свое преимущество: не так жарко летом. Талия у нее, конечно чересчур полная, но и тут ничего страшного – поверх платья она всегда будет носить парадную накидку свободного покроя, поглядишь – и на душе приятно. А то, что пальцы у нее толстые, тоже не беда, крепче будет держаться за шею повитухи, когда приспеет время рожать»86.
У того же Ихара Сайкаку в другом его юмористическом произведении имеется и весьма подробное описание девичьего облика, но это описание идеальной, а не реальной внешности (она нарисована на свитке): «Избранница должна быть так же хороша, как этот портрет. Прежде всего возраст – от пятнадцати до восемнадцати. Лицо, как велит современный вкус, довольно округлое, нежно-розового цвета, подобного лепестку вишни. Черты лица без малейшего недостатка. Глаза с узким разрезом не годятся. Брови непременно густые. Переносице не следует быть слишком узкой, а линия носа должна повышаться плавно. Ротик маленький, зубы ровные, белые. Уши продолговатые, мочки тонкие, чтобы сквозили до самого корня и не прилегали плотно к голове. Очертания лба не должны быть искусственными, пусть волосы растут на нем так, как от природы положено. Шея стройная, и чтобы пряди из прически сзади не выбивались»87.
Обращает на себя внимание, что оба вышеприведенных описания внешности относятся к незамужним девушкам (т. е. к существам «неполноценным»), на облик которых накладывается намного меньше ограничений, чем на внешность замужней женщины. Их лица лишены грима, зубы не подвергаются чернению, в облике второй, идеальной «красавицы» подчеркивается ее «природность», тогда как замужняя женщина должна быть от нее избавлена.





и сословий, праздничная и обыденная, священников и простолюдинов, и, конечно же, одеяния всех чиновничьих и военных разрядов описаны с чрезвычайным тщанием и даже любовью. При этом те чиновники, которые допрашивали Кодаю и его коллегу, велели им надевать русское платье, кланяться стоя и сидеть на стульях. Показательно, что проницательный капитан В. М. Головнин, очутившийся в плену у японцев несколько позже (в 1811 г.), при описании японского платья отмечает по преимуществу особенности одежды японцев как таковых, но более тонкие различия в одежде, свидетельствующие о сложной социальной дифференциации, как правило, ускользают от него. «Все японцы, кроме духовных, носят платье одного покроя, также и голову убирают одинаковым образом все состояния без различия»90. При рассмотрении «инородцев» японский и русский капитаны использовали те языки описания и вмонтированные в них смыслы (предпочтения), которые были актуальны и привычны для их собственных культур.