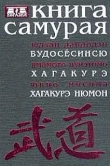Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Глава 4
Японцы: разоблаченное тело
Относительно реформы одежды и волос японцы получали от европейцев разнонаправленные сигналы. Одним нравилось, что японцы с переходом на европейскую одежду демонстрируют стремление приблизиться к «настоящей» цивилизации. Другие же утверждали, что лучше бы все оставалось так, как есть. Единственным пунктом, по которому на Западе царило практически полное единодушие, было раздражение по поводу того, что японцы («простые» японцы) столь спокойно относятся к наготе тела и его определенных частей.
Европейцев раздражало, что у стольких «простых» японцев обнажены ноги. Это свидетельствует о том, что в разных культурах степень «неприличия», приписываемая той или иной части тела, может быть разной – ведь декольтированные платья были в то время на Западе в моде. Однако в Японии они не прижились. Сама императрица Сёкэн (Харуко) для своих французских нарядов заказывала съемные кружевные воротники и рукава. Придворные дамы последовали за ней. Это породило слухи о том, что они – куртизанки и гейши, которые пытаются таким образом скрыть кожу, испорченную свинцовыми белилами83.
В то же самое время к обнаженным ногам простолюдинов представители элиты относились до поры до времени со спокойствием, они не оскорбляли их «тонких» чувств. Европейцы оказались в этом отношении намного «чувствительнее». В связи с этим во время визитов высокопоставленных иноземцев полиция стала предписывать японцам, которые намеревались поприветствовать гостя, ни в коем случае не появляться на улицах с обнаженными ногами. Мнение европейцев относительно обнаженных ног постепенно становилось достоянием «образованных», «культурных» и «воспитанных» японцев. Нацумэ Сосэки так характеризовал одного из своих персонажей: «Полы его одежды были подоткнуты, голова непокрыта. Словом, вид совершенно неотесанный» (рассказ «Десять снов», неопубликованный перевод Е. Б. Сахаровой и Е. Тутатчиковой).
В своих путевых заметках европейцы с возмущением подчеркивали, что крестьяне и представители городских низов работают полуобнаженными, что в японских банях практикуется совместное мытье мужчин и женщин. Это рассматривалось ими в качестве дополнительного свидетельства «отсталости» или даже «аморальности» японцев. Подобные инвективы были японцам малопонятны. Всеволод Крестовский, внимательный и тонкий наблюдатель, отмечал: «Нарушение приличий в общественной бане сочлось бы здесь величайшим оскорблением семейной чести и общественной нравственности, и совместное мытье происходит у японцев самым обыкновенным и серьезным образом, как и всякое другое повседневное, обиходное действие. Такая совместность не возбуждает в их помыслах никакой скабрезности, свойственной европейцам, и они даже понять не могут, что европейцы находят тут скандалезного»84.
Тем не менее чувствительность тогдашних японцев по отношению к западной критике была велика, что приводило к постепенному исчезновению (сокращению) публичных бань, где практиковалось совместное мытье. Тенденция к «сокрытию» тела была налицо. Однако в жарком и влажном климате заставить одеться крестьянина или чернорабочего было не так просто.
Тот же В. Крестовский описывал, как, несмотря на официальные запреты демонстрировать наготу, японцы во время отлива собирают съедобные ракушки. «Весь этот люд, и стар, и млад, засучив повыше штаны, а то и вовсе без оных, в коротеньких синих распашонках, с плетеными корзинами в руках, торопливо и весело отправляется на свой кратковременный промысел и целыми стаями усеивает на далекое расстояние все отмелое взморье... В прежнее время прибрежное население хаживало на этот промысел просто в костюме праотца Адама, но это очень шокировало леди Паркс, жену английского посланника, по настоянию которого правительство запретило ракушникам появляться на взморье без одежды»85.
Будучи «истинно» русским человеком, писатель не упускал случая «поддеть» англичан, однако в его оценке роли «леди Паркс» содержится важная догадка. До периода Мэйдзи Японию посещали почти исключительно мужчины. Теперь же в стране находились и европейские женщины. Их было немного, в основном это были жены своих мужей, занимавших заметное положение в обществе. Эти жены отличались европейской воспитанностью, образованием, христианскими ценностями и, следовательно, особой нетерпимостью ко всем проявлениям телесного. Их мужья в свою очередь считали, что нежные чувства супруг следует беречь. Когда в 1837 г. американский бриг «Моррисон» находился в бухте Урага, на борт корабля устремилось множество любопытствующих полураздетых японцев. Моряки вполне дружелюбно общались с ними и одаривали мелкими сувенирами, но ввиду «нескромного» вида японцев их не допустили в каюту, которую занимала супруга американского купца86.
Проблема требует специального исследования, но рискнем предположить, что женам находившихся в Японии европейцев принадлежит достаточно большая роль в «европеизации» облика японцев. Тем не менее, несмотря на все попытки правительства «одеть» простого японца, его усилия приводили лишь к ограниченным результатам. Еще в начале XX в. Г. Востоков отмечал, что «у японцев зрелище наготы не считается постыдным; на голого человека смотрят так же равнодушно, как на деревья, на небо, и никто не останавливает на нем своего внимания»87.
Предъявляя японцам претензии, европейцы не желали обращать должного внимания на то обстоятельство, что экспонирование обнаженного (полуобнаженного) тела имело ситуативный и социально обусловленный характер: высшие слои общества никогда не представали полураздетыми в публичных местах, в своем доме японцы не ходили раздетыми, не обнажались они и во время церемоний и отправления торжественных ритуалов88. Препятствием к крещению одного японца – адепта православия – являлось то, что он полагал: во время обряда он должен войти в купель обнаженным, а это стыдно89.
Европейцам нравились японские женщины, однако «весенние картинки» (сюнга) подвергались ожесточенной критике со стороны европейских носителей христианской морали. Правда, некоторые из них с умилением писали, что спокойное отношение к наготе свидетельствует о «неиспорченности», о том, что они живут в «золотом веке» и даже в «раю». Американец Эрнест Феноллоса (1853—1908), знаменитый коллекционер и знаток японского искусства, не обинуясь утверждал, что неиспорченные японцы, в отличие от развратных французов, равнодушны к женской наготе: «Они не могут понять, как изображение такой обычной вещи, как женщина, может так воодушевлять ее иностранного обладателя. Но они в состоянии понять, что любое художественное или же фотографическое неоправданное изображение наготы не имеет за собой ничего, кроме отсутствия морали»90. Однако таких людей, как Феноллоса, на Западе было мало.
Критика европейцами «весенних картинок» вызывала у многих японцев полное непонимание. Показывая русским путешественникам «нескромные» картинки и предметы в присутствии японской девушки, чем те были немало смущены, японский антиквар утверждал: «Для европейцев оно не совсем понятно... и это оттого, что европейцы, извините меня за откровенность, всегда подкладывают под подобные вещи какой-то особенный непристойный смысл, которого мы, буддисты, не допускаем... Для нас это есть священная эмблема жизни, воплощение всего сущного, мужское и женское начало, или, говоря философски, – элемент активного и пассивного, действующего и страдательного»91.
Японские адепты православия совершенно не стеснялись показывать отцу Николаю «скабрезные» изображения. После того, как хозяин дома продемонстрировал ему редкостные сабли и ширмы, он развернул свиток «особого» свойства: «“А это смешные картины; во время болезни одного придворного нарисованы, чтобы занять его” – начинается смешными фигурами, и вдруг переходит к грязнейшим сценам», – возмущенно отмечал в своем дневнике отец Николай92.
В рамках правительственной борьбы с «дурными обычаями прошлого», которые так возмущали европейцев, последовал ряд распоряжений, запрещающих производство и продажу сюнга. В отличие от сёгунских указов эти распоряжения подлежали реальному соблюдению. Ближе к концу своей жизни отец Николай с удовлетворением писал в 1908 г.: «Сорок лет тому назад нельзя было войти в книжную лавку без того, чтобы тебе не совали под нос книжку с мерзкими картинками, нельзя было войти в гостиницу пообедать, чтобы не натолкнуться на скабрезность; теперь ничего подобного нет. Кто очистил воздух Японии от скверных миазмов? Дух Христов, дунувший на нее из христианских стран»93. К концу периода Мэйдзи нескромные картинки если и не исчезли из продажи совсем, то были вытеснены на культурную обочину.
Правда, следует иметь в виду, что это было время, когда функционирование цветной грав1оры претерпевало решительные изменения. Они были связаны с быстрым распространением фотографии, которая отбирала у гравюры многие ее функции. Прежде всего, информационную и образовательную. Эротическая (порнографическая) фотография также потеснила сюнга. Цветная японская гравюра на глазах превращалась в «высокое» искусство и в XX столетии была востребована почти исключительно именно в этом качестве. В то же самое время не следует забывать, что проституция как таковая продолжала играть в жизни японцев весьма существенную роль. Однако гонения на проституток никогда не достигали той степени накала, какая была присуща борьбе с их изображениями.
«Весенние картинки» вытеснялись из обихода, но дискуссия об обнаженной натуре в искусстве не утихала. В своем докладе, читанном в 1887 г. в обществе «Рютикай» («Общество драконового пруда»), заместитель его председателя юрист Хосокава Дзюндзиро с некоторым недоумением заявлял: на Западе нагое тело вытеснено из публичной жизни, но является предметом высокого искусства; в Японии же дело обстоит наоборот – простые японцы не стесняются своего обнаженного (полуобнаженного) тела, но «настоящие» художники его не изображают. Хосокава видел причину этого в античных истоках европейского искусства (культе тела как такового, вне связи с «непристойностью») и в «объективности» развитых на Западе анатомических штудий94.
Таким образом, японцев поражало, что европейская «улица» столь «моральна», а пространство художественного музея – наоборот, таковой морали лишено. Однако несмотря

Таким образом, в сознании многих японцев того времени тело реальное и тело живописное судились одной меркой. И в этом отношении японцы демонстрировали, пожалуй, большую последовательность, чем их европейские учителя. Зачастую японцы не видели особой разницы между обнаженностью «высокого» и «низкого» порядка. Вот в каких выражениях ревнитель чистоты нравов подвергает осуждению представительницу «реформаторского» направления в среде гейш: «Скажу честно, я и сам толком не знаю, только слышал от своих гейш, что она даже и не пляшет вовсе, она вообще ничего не делает. Одним словом, она всего-навсего появляется на банкетах голая. Ведь на Западе же многие показывают перед зрителями свое нагое тело... Она объявляет: я, мол, такая-то и такая-то знаменитая на Западе статуя, которая зовется так-то, – и изображает эту статую. Она выходит в белом обтягивающем трико, на голове парик, тоже белый, чтобы было похоже на статую... К примеру, в гостиных она ужасные вещи заявляет. Говорит, японцы как следует не понимают, в чем красота нагого тела, потому и бывают каждый год проблемы с картинами обнаженных на выставках, организуемых Министерством культуры»95.
Глава 5
Стать выше: от риса к мясу, стоять, а не сидеть
Европейцы, которые надолго приезжали в Японию в период Мэйдзи, были немногочисленны и находились на совершенно особом положении. Большинство из них служило в государственном аппарате, получали огромное жалованье, но на их передвижения по стране существовали жесткие ограничения, они общались по преимуществу с элитой японского общества, по которой они часто судили о «японцах» вообще. Если прибавить к этому неискоренимый европоцентризм, непоколебимую уверенность в превосходстве западной цивилизации, то станут понятны те уничижительные вердикты, которые они выносили как «азиатам» вообще, так и японцам в частности. Так, многие из них совершенно искренне полагали, что весь японский народ «слаб» и ущербен в физическом отношении, лишен присущей западному человеку энергии96. Разумеется, это было не так: японские крестьяне и трудовые люди действительно уступали европейцам в росте и весе, но говорить об их слабосильности было бы сильным преувеличением. Те же самые европейцы с неизменным восхищением говорили о выносливости японских рикш. Удивление европейцев вызывало и то, что простые японцы даже зимой одеваются по европейским меркам очень легко и при этом не простужаются.
Другое дело, что представители высших страт японского общества в силу неподвижного образа жизни, раннего вступления в брак, ограниченности брачных партнеров и особенностей воспитания действительно зачастую не отличались ни здоровьем, ни крепостью – как тела, так и духа. Будучи вызван для лечения шестилетнего сына бывшего князя Сэндай, доктор Бельц отмечал, что этот мальчик был типическим продуктом прежней японской элиты: слабым, хрупким, изящным, умненьким, избалованным. Окружавшая его челядь только охала по поводу его болезни, но ничего более существенного не предпринимала. Бельц проницательно замечает, что такое воспитание было причиной того, что среди князей практически не наблюдалось волевых и решительных людей97.
Добавим от себя, что это послужило одной из существенных причин того, что во время «реставрации Мэйдзи» переход власти к представителям низкорангового самурайства юго-восточных княжеств произошел с такой легкостью. И когда князьям предложили добровольце отказаться от своих наследственных владений (взамен были предложены деньги), ни один из них не поднял восстания. А вот пришедшие к власти низкоранговые самураи отличались, по отзывам всех современников, отменным здоровьем, решительностью и фантастической работоспособностью, на которую не оказывал существенного влияния даже их вполне распутный образ ночной жизни, сопровождавшийся обильными возлияниями и другими излишествами.
Европейцы и правительство ставили перед японцами сложную задачу: подрасти. Сложная и сама по себе, она усугублялась еще и тем, что для традиционной культуры развитое и сильное тело служило показателем вульгарности, она была ориентирована на «маленькое» и «изящное». Традиционный для Японии телесный идеал не имел ничего общего с западными представлениями. Дальневосточная мысль стремилась прежде всего к продлению жизни, а не к наращиванию роста и мускулов. Японские художники с удовольствием изображали иссохших долгожителей, но культ мускулистого и энергичного молодого тела был им чужд, что, возможно, указывает на общую ориентацию на недоедание как на идеальное состояние души и тела. Япония с ее культом предков и патриархальной семьей была страной геронтократической, и это тоже сильно препятствовало изображению и воспеванию молодого, здорового и мощного тела. Борьба сумо всегда пользовалась значительной популярностью среди «простонародья», но образованные люди начала периода Мэйдзи ратовали за ее полное упразднение, поскольку соревнование богатырей в грубой физической силе является признаком варварства и принадлежности к «звериному миру»98.

вала легендарному воину Минамото Ёсицунэ (1159—1189) рост всего в пять сяку (151,5 см).
Высокий рост не обладал в традиционной Японии положительными коннотациями, самураи совершали свои подвиги не столько благодаря богатырской силе, сколько благодаря силе духа. Гораздо более важным качеством самурая, чем физическая сила, представлялась непревзойденная «сила духа», которая привычно уподоблялась железу. Ученость конфуцианского типа, умение слагать стихи (как японские, так и китайские), хитрость, владение «воинскими искусствами», отвага, мужество, верность (а вовсе не «богатырская», т. е. «грубая» физическая сила)– вот что входит в стандартный набор идеального самурая. Постоянное нахождение на полу уравнивало разницу в росте, вальяжные позы, при которых тело максимально «заполняет» объем, не приветствовались и считались нарушением правил церемониального поведения. Телу предписывалось находиться в максимально «сжатом» и «сложенном» состоянии, чему идеально соответствовала церемониальная поза (сэйдза), которая уподоблялось «глиняному изваянию».
Однако теперь все изменилось, и проблема реформирования тела, необходимость «подгонки» его под европейские стандарты, увеличение его объемов переживались обществом с большой чувствительностью. Высказывались самые разные и самые экзотические мнения по поводу того, что следует предпринять, но никто не говорил, что все следует оставить как есть. Новомодные научные дисциплины – евгеника и генетика – подсказывали варианты для получения более здорового, высокого, сильного и, таким образом, «красивого» потомства: следует подвергать стерилизации «неполноценных» индивидов, нужно развивать полигамию, предоставляя фертильных женщин наиболее выдающимся особям мужского пола.
В 1884 г. появилась наделавшая много шума работа журналиста Такахаси Ёсио (1863—1937) «Об улучшении японской расы», в которой он утверждал, что отсталость Японии от Запада объясняется расовыми причинами и для «улучшения» организма японцев им следует вступать в браки с европейцами, скрещиваться с ними, что принесет более совершенное потомство. Таким образом, Такахаси полагал, что тело японца не может быть реформировано «изнутри», для его приспособления к новым условиям требуется внешнее воздействие.
С точки зрения практического осуществления «план» Такахаси вряд ли мог быть воспринят сколько-то серьезно. Европеизация Японии действительно набирала обороты, но самих европейцев в стране было совсем немного. Так с кем же будут скрещиваться японцы? Даже среди представителей японской элиты смешанные браки с европейцами были большой редкостью. Посылать японцев для размножения за границу? Но они не имели для этого ни средств, ни желания – их «комплекс оседлости» было не разрушить в одночасье.
Проект Такахаси подвергся суровой критике. И здесь дело даже не в сомнениях по поводу его принципиальной осуществимости. Показательна реакция влиятельного юриста, публициста и политического деятеля Като Хироюки (1836—1916), который высказывал следующие соображения.
1. Не существует никаких гарантий того, что смешанные браки приведут к «улучшению» японской расы и смогут помочь в деле модернизации страны. 2. К такому улучшению могут, скорее, привести изменения в обычаях и среде обитания (одежда, пищевая диета, жилье), повышение уровня гигиены, развитие медицины. 3. Даже если с помощью смешанных браков и будет достигнуто улучшение «японской расы», возможно ли будет после этого называть ее «японской»? Ведь она попросту исчезнет, растворится, канет в небытие100.
В то время одной из основных целей японского правительства и общества становится максимально быстрое создание японской нации. Потеря только еще приобретаемой национальной идентичности настолько страшила Като Хироюки, что он даже считал: пусть уж лучше Япония потерпит поражение в конкурентной гонке с Западом (что будет закономерным подтверждением истинности теории эволюции), чем японцы растворятся в чужеродном генетическом материале101.
При самых различных подходах к проблеме реформирования тела дискурс того времени имел целью не столько реформирование японского тела в качестве самоцели, сколько создание тела, которое могло бы справиться с задачами по модернизации страны – чтобы японское государство смогло бы догнать страны Запада. И здесь позиция Като Хироюки нашла гораздо больше сторонников: следовало прежде всего реформировать среду обитания и стиль жизни, улучшить медицинское обслуживание и гигиену, что и должно привести к появлению более конкурентоспособного тела. Вместо пропаганды браков с иностранцами стала проводиться подкрепленная конкретными медицинско-генетическими обследованиями энергичная кампания по отказу от близкородственных браков, что было весьма распространенной практикой прежнего времени, чему способствовала вся социальная структура японского общества, основанная на крайне жестком делении на «своих» и «чужих». Медицинские соображения служили мощным аргументом в пользу правительственного курса на отмену сословных ограничений, уменьшение степени оседлости населения, увеличение его трудовой мобильности, развитие коммуникаций, преодоление регионализма (в практике и сознании) и, в качестве конечной цели, создание единого «японского народа». Кроме того, медики настаивали на том, что принятые в стране ранние браки приводят к появлению слабого и больного потомства. Поэтому в стране развернулась еще одна кампания – призывавшая к более поздним бракам.
Японцы жили и работали сидя. Даже кузнецы ковали металл, находясь в сидячем положении. И. А. Гончаров свидетельствовал, что и в положении «стоя» японцы не разгибались окончательно: «Мне, например, не случалось видеть, чтоб японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись, руки постоянно держит наготове, на коленях, и так смотрит по сторонам, нельзя ли кому поклониться. Лишь только завидит кого-нибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги, потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям, и на несколько секунд оцепенеет в этом положении; после вдруг выпрямится и опять согнется, и так до трех раз и больше. А иногда два японца, при встрече, так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже полусогнувшись и приложив обе руки к коленям, чтоб недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол,

и клонить голову долу, что привело не только к согбенности и «недостаточному развитию тела», но и к формированию «депрессивного», лишенного жизнерадостности национального характера.
Теперь задача состояла в «распрямлении» японца, что знаменовало собой коренное переосмысление тела и его места в пространстве (как в физическом, так и в социальном). Если рассуждения евгеников и генетиков были рассчитаны на «улучшение» японского тела в отдаленном будущем, то просветители, врачи и гигиенисты вслед за политиками делали акцент на настоящем и близкобудущем времени. Они были убеждены, что «качество» тела находится в прямой связи не только с одеждой, но и с тем, чем его «наполняют». Одним из путей по наращиванию габаритов японца была признана реформа пищевой диеты. Стали раздаваться голоса, призывавшие к замене риса пшеничным хлебом. Российская газета писала: «В городе Наби издан закон, которым предписывается есть хлеб в подражание европейцам, которые красивее, выше ростом, крепче и разумнее»103. Таким образом, и российская газета напрямую увязывала телесные (и даже умственные) характеристики с особенностями питания.
Желание японцев реформировать пищевую диету подогревалось унизительными аттестациями европейцев, которые те давали японской кухне. Они находили ее «пресной», говорили, что она надолго оставляет во рту «неприятный вкус». Сакэ вызывало ассоциации с «дурным рейнском вином». Сладости характеризовались как красивые на вид, но «отвратительные на вкус»104. О моде на японскую этническую кухню не было тогда и речи. Относившийся к Японии с большим почтением и даже восторгом Б. Пильняк несколько позже не без сарказма писал: «Ну, а мы должны были привыкнуть жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку, горькое варенье, сладкое соленье, черепах, ракушек, сырую рыбу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу»105.
К хлебу японцы привыкали сравнительно просто. Гораздо большей проблемой было приобщение к мясной и молочной пище. Ведь эти продукты традиционно считались «нечистыми», многие японцы смотрели на европейцев, «пожирающих» мясо, с неприкрытым отвращением. Князья-даймё, когда их проносили мимо мясной лавки, приказывали поднять свой паланкин повыше. В Иокогаме, первом японском порту, открытом для европейцев, в 1869 г. из-за недовольства местного населения мясные лавки пришлось вывести за пределы города. Фукудзава Юкити, который отличался жизнелюбием, цинизмом и отрицанием традиций, вспоминал в своей автобиографии, что в огромном городе Осака в последние годы существования сёгуната было всего два едаль-ных заведения, где подавали мясо, и эти заведения были самыми низкопробными и самыми дешевыми – настолько мало находилось японцев, которые желали бы оскоромиться. Недаром «нормальные» люди принимали самого Фукудзава и его невоспитанных соучеников за неприкасаемых – эта. Сурово осуждая «феодальные» обыкновения, Фукудзава с нескрываемой гордостью говорил о том, что в его собственной семье, по сравнению с одеждой (читай: показателем статус-ности), гораздо больше внимания уделяется качественной (читай: европейской) пище106.
С самого начала «новой эпохи» Фукудзава Юкити и другие западники, которые в то время обладали огромным авторитетом, стали ратовать за мясную диету. В их понимании мясо было способно сделать японцев выше, сильнее и выносливее. Если в пору существования сёгуната Кайбара Экикэн утверждал, что японцы (в отличие от китайцев) не едят мяса, поскольку от природы слабы на желудок, то теперь восторжествовала противоположная идея: японцы слабы именно потому, что мяса не едят. С 1871 г. на кухне у самого императора Мэйдзи стали готовить мясо. Как и в других модернизаторских начинаниях, он подавал своим подданным пример. Мясоедение сделалось признаком «цивилизованной» жизни. Реальное потребление мяса на душу населения оставалось крайне низким, но оно стало символом перемен, происходящих с телом японца и его содержимым. Точно так же, как и молоко. Поскольку предполагалось, что посетителями кафе-молочных являются прежде всего «передовые» японцы, обладающие усами, то для их предохранения и поддержания в чистоте стаканы, бывало, оснащались проволочными сетками-крышками.

хологических и даже желудочных проблем (известно, что если к молочным продуктам не привыкнуть с детства, они обычно вызывают несварение желудка). На самом деле превратить рисовые поля в пастбища означало уморить Японию голодом: площадей не хватало, а калорийная продуктивность единицы территории, пущенной под пастбище для коров или овец, не идет ни в какое сравнение с растениеводством (разница составляет десятки раз). Пшеница же по своей урожайности значительно уступает рису, так что и хлеб на самом деле доставался лишь избранным. Успехи в агротехнике привели к тому, что урожайность риса возросла, и простой японец стал теперь потреблять намного больше обрушенного («белого») риса, и это радовало его, ибо именно «белый рис» традиционно считался показателем престижа и достатка. Так что попытки перехода на мясо-молочную диету фактически закончились провалом.
Превратить слабость в силу, недостаток в преимущество – достойная задача для всякого политика и мыслящего человека. Помимо пищевой ценности, рис выполнял и важнейшие идеологические задачи. Японцы гордились тем, что рис в их диете занимает большее место, чем у жителей соседних дальневосточных стран, которые едят и чумизу, и просо. Рис действительно был основным поставщиком калорий в диету японца, но помимо риса в рационе присутствовали и гречиха, и просо, и пшеница, и корнеплоды, и самые разнообразные овощи, и многое другое. Не говоря уже об основном источнике животного белка – рыбе. Но ни один из этих продуктов не вошел в идеологический оборот. Рис же в идеологических построениях того времени приобрел признаки национальной монокультуры, Япония стала характеризовать себя как «страну риса».
Многие японцы были убеждены, что. употребление одного и того же продукта приводит к появлению одного и того же человеческого типа. В данном случае – «настоящего» японца. Потребление риса всеми японцами фактически приравнивалось к ритуальному (совместному!) вкушению пищи, после которого все участники действа возвращаются к повседневности с горящими глазами единомышленников. Основная пища японцев – это рис. Европейская же культура стала характери-
зоваться как «культура хлеба». На глазах создавался «пищевой миф», который объединял японцев и отделял их от других народов. Считалось, что идеальным телом (здоровьем) обладает вовсе не горожанин с его более разнообразной диетой, а крестьянин, который выращивает рис и меньше «разбавляет» его другими продуктами. В результате на свет появляются крестьянские юноши, которые крепче телом и более пригодны для службы в армии. Так что теперь заливное рисосеяние объявлялось эквивалентом сельского хозяйства, а сам рис становился символом Японии вообще.
Еще одним направлением реформирования японского тела и придания ему больших габаритов посчитали изменение стиля жизни. Для увеличения роста врачи и гигиенисты рекомендовали пересесть с циновок-татами на стулья – от сидения на полу, утверждали они, происходит искривление позвоночника и, значит, уменьшение роста. Особое внимание уделялось тому, как японцы сидят: постоянное сидение «на пятках» приводит к искривлению ног, пониженному тонусу мышц и застою в кровообращении – так что японцы оказываются малоспособны к стремительному передвижению. Гигиенический журнал утверждал: «Не так обстоит дело в Европе и Америке. Все люди сидят там на стульях, ноги у них вытянуты. Как бы долго ты ни сидел на заду, онемения в нижней части тела не наступает, а если все-таки и наступает, то есть возможность противостоять застою. Для этого следует лишь переменить положение ног, подвигать ими или же встать со стула и подвигаться. Поэтому, по сравнению с нашими обыкновениями, это приводит к большей подвижности европейцев и к лучшему развитию их тела»108.
Образованное общество разделяло это мнение. Иными словами, задача состояла в том, чтобы «оторвать» японцев от пола, «приподнять» их и, таким образом, «распрямить». В связи с этим цитированный выше гигиенический журнал предлагал решительно изменить церемониальное поведение японцев, для которого характерна сидячая поза: «при приветствии следует сделать стоячую позу основной – как в публичной жизни, так и в частной; немедленный отказ от сидячего изъявления вежливости позволит исправить осанку простого народа и, таким образом, устранить причину будущих заболеваний»109.