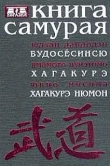Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Упразднение тела с его «мешающими» духу потребностями имело самое непосредственное отношение и к самим японцам. «Никаких желаний – вплоть до победы!» – таков был один из главных призывов военной эпохи. Национализируя тело, государство национализировало и личное время. Время, потраченное на себя и развлечения, имело антинародный и антигосударственный душок. Слово «отдых» приобрело отрицательные коннотации. Сон и ночь воспринимались как досадная помеха для выявления национального духа. В отличие от традиционной поэзии, в поэзии тоталитарной воспевается не луна, а солнце. То яркое крабное солнце, которое изображено на японском флаге.
В идеале личного времени у «обычного» японца не должно было оставаться совсем, днем и ночью японец должен был служить общему телу и делу. Образцом для подражания служил солдат, напрочь лишенный права распоряжаться как своим телом, так и временем. В армии запрещалось употребление личного местоимения «я», вместо него следовало употреблять свою фамилию и звание, т. е. именовать себя таким же образом, как и твое армейское окружение. Таким образом, человек военный как бы смотрел на себя «со стороны», что предполагало лишение его прав собственности на себя и свое тело.
Главным достоянием «японского духа» объявлялась готовность умереть во имя императора. И действительно, японский солдат с неподражаемой готовностью шел на смерть. Самый известный и растиражированный массовой культурой пример – это летчики-камикадзе, но на самом деле подобный «героизм» был массовым явлением во всех родах войск, «психические атаки» (американцы называли их «банзай-атаками) под шквальным огнем были чуть ли не ежедневной практикой. Американская пропаганда (которая по степени своего выдающегося антигуманизма выделяется даже на фоне других образцов военного времени) призывала к поголовному истреблению японцев, т. е. к геноциду, в частности, на том основании, что «япошкам» попросту «нравится умирать».
«Нормальная» ситуация мирной жизни – дети, оплакивающие своих скончавшихся престарелых родителей. Типичный японский образ военного времени – мать, оплакивающая своего сына. То есть война лишала возможности исполнить главное жизненное предназначение – заботиться о престарелых родителях.
Все иностранные наблюдатели отмечали, что дух японского солдата действительно исключительно крепок, а его готовность к самопожертвованию приводила не только в восхищение, но и в ужас. Это касается не только военных чинов, но и гражданского населения, зачитывавшегося сочинением Ямамото Цунэтомо, который объявлял, что предназначением самурая является смерть. В выпущенных в декабре 1941 г. «Лекциях по культуре родной речи» приводился образцовый диалог командира и построенных перед ним солдат. «Умрите!» Солдаты отвечают: «Есть умереть!»122
Ямамото Цунэтомо говорил о смерти как о привилегии самурая, теперь эта привилегия была распространена на всех японцев. Военный человек служил образцом для подражания. Общество все больше позиционировало армейские порядки, обыкновения, вкусы и идеалы как чаемый идеал. В стране господствовало убеждение, что Манифест императора Мэйдзи, адресовавшийся военным (его главный смысл: смерть за родину – легче птичьего перышка), следует рассматривать как текст, адресованный всем японцам без исключения. Не желая попасть в руки врага, японские жители на крошечных островах, разбросанных в Тихом океане, неоднократно кончали жизнь массовым самоубийством. С точки зрения «рациональности» (достижения победы или же нанесения ущерба противнику), большинство подобных поступков не выдерживают никакой критики, однако для тогдашнего японца гораздо важнее было преодолеть себя и инстинкт жизни, то есть победить себя, одержать победу над собственной бренной плотью, а не над противником. Излюбленным мотивом военных художников была смерть японского солдата на поле боя. Иными словами, воспеванию подлежал тот миг, когда воин переставал выполнять свой воинский долг. Он его уже выполнил: пожертвовал своим телом во имя императора, и это служило свидетельством чистоты его души и помыслов, способствовало освобождению духа от ненужной оболочки. Выявляемый войной комплекс агрессивности и разрушения был в зна-читальной степени направлен не только против врага, но и против самого себя.
Японцы оказывались заложниками используемых ими метафор. В таких условиях, когда господствовало убеждение, что «дух» безусловно первичен по отношению как к «телу», так и ко всему «материальному», к этому «материальному» стали относиться с пренебрежением и даже презрением. Японская армия была вооружена плохо, ни один вид вооружений не показал своей конкурентоспособности по сравнению с вооружениями других «передовых» стран, лучшей «защитой» от вражеской пули вчитался нательный пояс с вышитым на нем тигром. «Коллективное бессознательное» японского народа полагало, что качество вооружений не имеет решающего значения, ибо японскому «коллективному духовному» ничто не страшно. Материальному обеспечению потребностей тела живого солдата (еда, медицинское обслуживание, одежда, безопасность) уделялось чрезвычайно мало внимания, ибо господствовало убеждение, что главное – это боевой дух. Во время многих боевых операций число погибших от голода и болезней солдат значительно превышало количество погибших непосредственно на поле боя, что указывает на открытое небрежение и даже презрение по отношению к «телу». Некоторые исследователи полагают, что во время той войны количество «небоевых» жертв вообще превышало число жертв «боевых».
Возвращавшиеся домой раненые, калеки и инвалиды превозносились в качестве героев, им выдавался специальный значок, свидетельствующий о боевом ранении, для большей приметное™ они одевались в белые одежды, свидетельствующие о «непорочности» их ран. Во многом это было обусловлено страхом, что их примут за «обычных» калек и подвергнут дискриминации, которая на бытовом уровне была делом весьма распространенным. Раненые даже просили власти учредить какой-нибудь «телесный знак», который свидетельствовал бы о боевом происхождении их ран, ибо в бане их тело было лишено опознавательных меток. Инвалидам, лишившимся конечностей, государство бесплатно выдавало протезы, производство которых успешно развивалось. Также бесплатно предоставлялись искусственные глаза. Открывались и дома инвалидов, которым требовалось длительное лечение. Государство полностью национализировало тело японца, включая его составные части. Конечной целью реабилитационного процесса было возвращение раненого или инвалида либо в действующую часть, либо в производственный процесс. То есть «починка» искалеченного тела вела к его возвращению туда, где ему и положено быть – на место смерти. По мере ухудшения положения на фронте осуществлять такую реабилитацию становилось, разумеется, все сложнее.
Забота государства о мертвом теле была больше, чем забота о теле живом. Тело солдата, призванного в армию, по умолчанию рассматривалось как тело мертвое. Новобранцу срезали прядь волос и обстригали ногти, которые было положено помещать в погребальную урну. Кремированные останки солдата, погибшего на поле боя, находившегося за тысячи километров от Японии, непременно и, разумеется, тоже бесплатно доставлялись в родной дом. Их помещали в урну, урну – в ящичек, замотанный в белую траурную материю. Иными словами, государство осуществляло контроль над принадлежащим ему человеком (телом) не только при жизни, но и после смерти. Большинство японских воинов погибло за рубежами Японии. Их отпевали шесть раз, но только один раз это было делом частным, когда отпевание совершалось в родном доме. Кроме того, похоронные обряды совершались в воинской части, в портовой таможне (по синтоистскому и буддийскому ритуалу), в администрации того места, где он проживал, в синтоистском святилище Ясукуни (в Токио), где почитались души всех погибших за родину и императора. Это святилище играло роль национального пантеона.
Живых героев не было принято ни награждать медалями, ни повышать в чине. Повышение в чине мог получить воин только погибший, ему же присваивался «титул» «ратного бога». А японские боги были лишены тела – синтоистская традиция не знает антропоморфных изображений своих божеств.
«Духовный» дискурс предполагал, что манипуляции с телесными символами (заменителями тела) важнее, чем само живое тело. Это был триумф семиотического знака (означающего) над означаемым. В войне символов Японии не было равных, степень управляемости японского народа до сих пор вызывает восхищение и ужас, но в скрежещущем металлом столкновении телесных материй Япония не имела никаких шансов на победу. Возвращение останков воина называлось «безмолвным триумфом». Заслуги воина на полях сражений не имели при этом никакого значения. Знаменитый фехтовальщик Ягю Мунэнори (1571—1646) говорил: «Я не ведаю пути победы над другими, я познал путь победы над собой»123. Складывается впечатление, что его слова были восприняты чересчур буквально. Как и в эпоху Токугава, в тоталитарной Японии жизнеустроительные принципы хорошо работали внутри самой страны, но при прямом столкновении с внешним миром они демонстрировали свою полную несостоятельность.
Постскриптум
Работа над этой книгой поставила перед автором множество проблем – как исследовательских, так и экзистенцио-нальных. Возможно, самая главная из них заключается в следующем «наивном», но мало отрефлексированном вопросе: а кому, собственно говоря, принадлежит (должно принадлежать) человеческое тело? Рассмотренные события и источники подталкивают к мысли, что в зависимости от господствующего мнения о принадлежности тела строилась и направляющая стратегия коллектива (семьи, клана, дружины, княжества, государства), и поведенческая стратегия самого индивида (если такого человека можно назвать «индивидом» в современном понимании этого термина). Определение принадлежности тела в значительной степени формировало и более общий культурно-исторический фон. Оно определяло и те способы, с помощью которых происходило управление обществом, его составляющими, всем государством.
В рассмотренный период тело никогда не принадлежало самому человеку. Самурайский кодекс воинской чести (в особенности во времена междоусобных войн) предполагал, что тело воина принадлежит сюзерену, и по его первому требованию вассал должен расстаться со своим телом, принести его в жертву. При такой установке забота о собственном теле и продление его существования не являются первоочередными задачами, не имеет никакого значения, в каком возрасте и в каком здравии человек закончил жизнь «достойной» смертью – будь то смерть в бою, церемониальное самоубийство или постель.
Мирная конфуцианская картина мира тогугавского времени несколько понижает в ранге верность господину и на первое место ставит сыновний (дочерний) долг, который требует от человека личных усилий по сохранению здоровья и продлению жизни ради заботы о престарелых родителях, ибо именно они дали тебе тело, а потому «владеют» и распоряжаются им. Поскольку главой семьи является отец, мы назвали этот феномен «патернализацией» тела. Распространение медицинских знаний и гигиенических навыков, сама наука о «пестовании жизни» имеет основой конфуцианское убеждение в приоритетности семейных связей. В эту эпоху страна состоит из множества более-менее изолированных объединений (семей и княжеств), каждое из которых обладает своими собственными интересами, распоряжается принадлежащими им телами. Государство этого времени, в свою очередь, не ищет дополнительных возможностей для их объединения, централизации, увеличению ресурсной и налоговой базы. Государство не стремится к экспансии. Это касается как внутренней жизни элементов, из которых состоит социум, так и внешних завоеваний, колонизации неосвоенных территорий.
«Народное государство» (nation state), формирующееся в период Мэйдзи, сталкивается с задачей обеспечить единение всех людей (потенциальных «японцев»), проживающих на его территории, и всячески способствует укоренению идеи «государства-тела» (кокутай), в котором каждая отдельная клетка (человеческое тело) обладает определенной автономностью, функциональностью, интересами и местом в государственной (телесной) иерархии. Но и в этот период (особенно во второй его половине) уже ясно видно начало процесса по «национализации» тела, интересы государства («Великой Японской империи») объявляются более значимыми, чем интересы «органов» (или клеток), образующих его «тело». Тем не менее забота о собственном теле все еще остается прерогативой самого человека.
Тоталитарное государство полностью «национализирует» тело и лишает его самостоятельности. Оно активно и даже назойливо выстраивает глобальную систему здравоохранения (физкультура и спорт идейно также входят в эту систему), рассчитанную прежде всего на размножение, «производство» молодых людей и девушек репродуктивного и трудоспособного возраста. При этом государство фактически не ставит перед собой целей по увеличению продолжительности индивидуальной жизни, которая, несмотря на внедрение «передовой» западной медицины, в первой половине XX в. почти не изменилась и стала существенно расти только во второй половине прошлого века вместе с ростом индивидуалистических ценностей. Вместо продления личной жизни ставится задача по обеспечению вечной жизни тела государственного – задача, которая решается с помощью его безграничного роста, достигаемого с помощью размножения и внешней экспансии.
Тоталитарное государство позиционировало себя как одну большую семью. Во главе ее стоял император, именовавший себя «отцом и матерью» в одном лице. Он был жизнедавцем, без которого невозможно бытие любого другого японца. Этот император именовал своих подданных «младенцами». В обычной «человеческой» японской семье отец тоже пользовался непререкаемым авторитетом и распоряжался телами своих домочадцев, но его дети мужского пола (в особенности это касается старшего сына) со временем тоже становились главами семей. Таким образом, японская семья обеспечивала определенные возможности для «возрастной вертикальной мобильности» (по крайней мере, для мужской ее части). Что касается «семейной» (псевдосемейной) схемы, предлагаемой тоталитарным государством, то она такой вертикальной мобильности лишена, и «младенец» до самой своей смерти остается им, т. е. существом зависимым, лишенным самостоятельности и, в сущности, неполноценным. Такой конструкт давал «законные» права государству, персонифицированному в фигуре императора, распоряжаться телами своих подданных – как при жизни, так и после смерти.
По злой иронии культуры европейцы тоже зачастую рассматривали японцев как подростков, остановившихся в своем развитии. Поскольку себя они, естественно, позиционировали как «взрослых», они тоже считали, что к японцам невозможно относиться как к равным – для взрослого человека они выступали как объект поучений. Но если «сыновняя» роль по отношению к императору воспринималась японцами как нечто должное, то предписываемая им роль подростка по отношению к «взрослому» европейцу вызывала негодование. В самом разгаре войны в недрах штаба генерала Макартура появился документ, призванный служить руководством для ведения пропаганды. В нем, в частности, утверждалось: «Перл-Харбора не случилось бы, если бы японцы были на три инча выше ростом». Далее утверждалось, что «будучи маленькими людьми, японцы мечтали о мощи и славе»124. Таким образом, в американской армии полагали, что японцы обладают врожденным комплексом неполноценности, который и привел к агрессии. Но в этом документе не было ни слова о том, что на самом деле этот комплекс был навязан Японии Западом, причем ведущая роль в этом принадлежала США.
В рассматриваемый период мы все время имеем дело с телом «общественным», а не личным. В связи с этим и все проявления телесного следует рассматривать именно в этом ключе. Поэтому тело обнаженное («персональное») объективируется культурой в дозированной степени. Прежде всего потому, что обнаженное тело не обладает общественным статусом, не указывает на то, какое положение занимает человек в социуме. В связи с этим в японской культуре такое огромное внимание уделяется одежде (телу одетому) – как социальному маркеру. Важно при этом помнить, что нетерпимость по отношению к обнаженному (сексуальному) телу возрастает с течением времени. И если в период Токугава мы наблюдаем спокойное и уравновешенное отношение к обнаженному телу, то во времена тоталитаризма оно оказывается под реальным запретом. И здесь дело не только в критике со стороны европейцев (христиан), но и в том, что тоталитарная культура «отменяла» все материальное, включая и персональное тело с его «эгоистическими» потребностями и проявлениями.
С началом западного влияния и развитием комплекса национальной (включая телесный) неполноценности во второй половине XIX в. происходит постепенный переход на европейское платье, которое, однако, продолжает играть ту же самую «общественную» роль. Но теперь одежда выступает не только в качестве внутрияпонского социального (мировоззренческого) маркера, но и в качестве показателя, призванного уравнять тело японца и европейца, т. е. обеспечить мимикрию японца, «подгонку» его тела под западный стандарт. Этой же цели по преодолению комплекса телесной неполноценности служили и другие меры: изменение пищевой диеты, реформа телесного поведения, развитие физкультурно-спортивного движения. Иными словами, перед японским телом ставилась задача не по обеспечению различий между японцем и не-японцем, а задача по ликвидации этой разницы. В результате, однако, выяснилось, что эта задача недостижима – как по объективным причинам, так и в силу европоцентризма (расизма) той части света, которой желали подражать японцы. Невозможность отменить те расовые признаки (прежде всего, цвет кожи), на которые столь упорно указывали европейцы, привел к эстетическим (временами – истерическим) поискам, воспеванию желтой кожи, выработке японского идеала красоты – главным образом женской.
Заимствуя модели западного телесного поведения и жертвуя многими своими обыкновениями, японцы, однако, не смогли отказаться от главного – поведенческой церемониальное™, которая обеспечивала дифференциацию (в своей основе конфуцианскую) общества по параметру статусности, гендерным и возрастным признакам. Именно верность церемониальное™ обеспечивала общественный порядок, иерархию и, в конечном итоге, управляемость государственным организмом. В этом внутрияпонском отношении поставленные цели оказались достигнуты, «внутренних врагов» и «подрывных элементов» в стране практически не находилось.
В то же самое время ни по каким другим «материальным» параметрам (физическая сила, рост, уровень, качество и продолжительность жизни, развитость промышленности, сельского хозяйства и науки) равенство с Западом обеспечено не было. И хотя по этим направлениям были достигнуты определенные успехи, длительность процесса выводила японский дух из себя. В связи с этим основной дискурс тоталитарной эпохи состоял в отмене «низкой» телесной материи и «подъеме» к духовности. Как это ни парадоксально, условием бытия такой духовности выступает размножение, увеличение количества молодых тел, которые и образуют «тело нации». В связи с этим государство приступило к проведению активной демографической политики, нацеленной на увеличение рождаемости. При приоритете количественных критериев забота о «качестве» тела японца оставалась на втором плане.
Из всех телесных параметров в тоталитарной Японии лишь цвет кожи по-настоящему продолжал сохранять актуальность. Японцы практически никогда не определяли свой цвет кожи как «желтый», но европейцы по-прежнему оставались «белыми». В данном случае это определение имело (приобрело) сугубо отрицательный смысл, сочетавшийся с такими «оскорбительными» характеристиками, как индивидуализм, стяжательство и отсутствие морали. Поразительным образом белый цвет перерастал в свою противоположность и трансформировался в черный – сияние, исходящее от японцев, должно было разогнать эту тьму.
Японцы воевали за освобождение народов Азии. На рисунках японских художников они представали как люди с цветом кожи намного более темным, чем у самих японцев. Сами японские солдаты отказывались признавать свою относительную природную темнокожесть и обычно заявляли, что загорели на солнце. В то же самое время можно встретить определение японцев как обладающих «красным сердцем», что являлось традиционным обозначением верности и честности125. Цвет, таким образом, «загонялся» под кожу – туда, где увидеть его не представлялось возможным.
«Отрицание белого», которое можно видеть еще в эстетских произведениях Танидзаки Дзюнъитиро, было воспринято и военной пропагандой. Синтоистская церемония очищения (мисогй) всегда воспринималась как «приближение к белому», но теперь ненависть к нему достигла такого накала, что популярный журнал говорил в 1942 г., что это – ошибочное восприятие, а на самом деле цвет мисоги – красноватый, окрашенный кровью жизни126. Японцы того времени воспринимали войну как очистительное средство. Война была призвана очистить Азию от колониализма, она должна была очистить и самих японцев.
Отлет духа от тела привел к игнорированию материальной стороны жизни и военным авантюрам. А это, в свою очередь, привело к бесчисленным жертвам (как среди самих японцев, так и среди их противников), то есть уже не к мыслительному, а к реальному «элиминированию» миллионов тел. Развязывание серии войн против Китая, Англии и США (и их союзников) имело в значительной степени не только (а может быть, и не столько) геополитическую подоплеку, которая представляется чрезвычайно шаткой (ввиду недостижимости поставленных целей, в чем отдавали себя отчет многие представители элиты), сколько желание изжить телесный комплекс неполноценности по отношению к западному человеку. Не сумев достичь с ним телесного равенства и будучи открыто дискриминируем (главным образом по цвету кожи, но и не только), японец того времени в значительной степени отказывается от телесного параметра сравнения и предпочитает говорить о «непревзойденном» японском духе, одним из главных параметров которого является готовность к смерти, т. е. к уничтожению (самоуничтожению) своего тела ради более «высоких» целей, переход в тот мир, где тёла и телесности больше не существует. Общепризнанным в мире символом этой войны стали камикадзе, но не будем забывать, что главным внутренним лозунгом последнего года войны стал призыв: «сто миллионов японцев – станем камикадзе» («итиоку токко»). Из сегодняшнего дня самоубийства камикадзе кажутся не только актом «героизма», но и актом отчаяния перед невозможностью победы и – в конечном итоге – невозможностью достижения равенства с Западом. Поставив поначалу цель достичь материально-телесного паритета с Западом, мэй-дзийская Япония превратилась в конце концов в Японию тоталитарную, которая содрала с души телесную оболочку, выдавая получившееся за «настоящего» японца.
Только в нынешнее время, «начавшееся» после окончания Второй мировой войны, когда индивидуалистическо-потребительские ценности в их американизированном варианте получают все более широкое распространение, – получает всеобщее признание и мнение, что тело принадлежит самому индивиду. Конечно, степень лояльности японского работника по отношению к своей фирме существенно выше, чем в странах Запада, освобождение от сверхурочных часов зачастую переживается как мера недоверия, но все-таки никто не требует жертвовать своей жизнью ради фирмы, с которой у работника складываются клиентские отношения, когда он обменивает свои усилия на материальное вознаграждение. В случае с «патернализированным» или же «национализированным» телом такого вознаграждения не предусматривается. Человек не принадлежит фирме с рождения и после выхода на пенсию. К тому же система «пожизненного» (на самом деле «допенсионного») найма, почти повсеместно практиковавшаяся в Японии до 90-х годов XX в., в последнее время подвергается значительной эрозии.
Идея личной принадлежности тела («приватизированное тело») доводится в нынешнее время до крайней и даже абсурдной точки, и теперь получает широчайшее распространение мнение о том, что человек волен поступать с телом по своему хотению и без всякой оглядки на других: потакать телу, ублажать его, доставлять ем$ удовольствие, лишать жизни (потому что так «хочется» – весьма частый в нынешней Японии случай «самоубийства от скуки»), украшать тело и уродовать его (что до определенной степени является синонимами) – татуировать, делать пирсинг, пластические операции, наносить шрамы, менять цвет волос, половую принадлежность и т. д. Данные проявления, свойственные для перешедшего в частную собственность тела, характерны, безусловно, не только для Японии, они широко распространены и в той части света, которая столь эмоционально продвигает идеи усиленного потребления и его «глобализации».
В условиях «автономного» существования тела забота о теле «другого» воспринимается как обуза и помеха для бытия собственного тела, о чем, в частности, свидетельствуют и рост количества домов для престарелых, и драматическое падение рождаемости среди населения наиболее богатых и больше всего потребляющих (производящих) стран. В нынешней Японии показатель рождаемости составляет приблизительно 1,3 ребенка на одну женщину (один из самых низких показателей в мире). В силу своей малочисленности дети окружаются такой теплой (тепличной) заботой и такой плотной опекой, которая может быть сравнена только с заботой о стариках в традиционной Японии. Только естественно, что эта опека «не по возрасту» сопровождается утратой самостоятельности и витальности. Так, физические кондиции японских детей и подростков падают год от года, о чем говорят ежегодные обследования, проводимые Министерством просвещения. Японские дети получают все больше «фирменных» калорий от «Макдональса» и «Кока-колы», они становятся полнее и выше ростом, болезненнее, ведут все более инертный образ жизни.
Драматическое падение рождаемости произошло за короткое по историческим меркам время и явилось следствием решительной смены ориентиров – с количества на качество. Оно произошло одновременно с таким же драматическим и стремительным повышением уровня жизни, и японцы не успели (не сумели) выработать механизмов по психологической самозащите от достатка, которого они, по большому счету, были лишены на протяжении большей части своей истории.
При этом брачный возраст имеет тенденцию к увеличению – в первоочередной расчет принимается вовсе не самый благоприятный возраст для производства здорового (не отягощенного генетическими ошибками) потомства, а потребительские нужды своего собственного тела, которому следует обеспечить наиболее благоприятные условия не для размножения, а для потребления. Генеральной линией поведения при таких ценностях является не размножение, а максимальное продление собственной телесной жизни, обеспечиваемое материальным достатком, а также заботой врачей и фармацевтов, число которых все время растет и которые являются системообразующим фактором современного строя жизни. Поскольку в условиях демократии многочисленные старики, число которых все время растет, являются выборщиками, государство вынуждено включать здравоохранение в список своих самых приоритетных задач и тратиться на него все больше. Во времена Токугава, как мы помним, обществом также ставилась задача (вменялась обязанность) по продлению жизни здорового тела, но с целью обеспечения возможности заботы о других.
Средняя продолжительность жизни в сегодняшней Японии является самой высокой в мире. Но нынешние долгожители родились восемьдесят лет назад, а что произойдет с нынешним молодым поколением, не знает никто. Все меньшее число молодых людей должны кормить все большее количество стариков. Задача ставится вполне конфуцианская, но нынешние молодые японцы не являются конфуцианцами. Справятся ли они с этой задачей? И не приведет ли нынешняя демографическая ситуация к социальным конфликтам, окрашенным в возрастные тона?
Маятник качается. Достигнув крайней точки, он идет на попятную. Золотая середина является идеалом, но он вряд ли достижим. Однако от этого он не перестает быть идеалом. Рискну предположить, что ввиду начавшейся депопуляции страны маятник через какое-то время качнется в обратную сторону и, в отличие от сегодняшнего дня, когда самым устойчивым бизнесом в Японии является похоронный, родильные дома вновь станут более посещаемым местом.