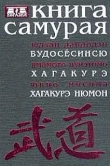Текст книги "Стать японцем"
Автор книги: Александр Мещеряков
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
Презрительный и одновременно пугающий эпитет «желтый», употребляемый по отношению к японцам, с легкостью укоренился и в России, чему, безусловно, сильно способствовал исторический опыт нашей страны. Современные японские геополитические амбиции воспринимались в контексте татаро-монгольского нашествия. Владимир Соловьев, проницательный мыслитель и посредственный поэт, видел в японском воинстве Антихриста. За победами японцев в войне с Китаем он предвидел угрозу будущему России. В 1894 г. он с нескрываемым ужасом писал:
О Русь! забудь былую славу: Орел двуглавый сокрушен, И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен...
Во время японско-русской войны получила широкую известность песня «Варяг», в которой, в частности, пелось:
Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг», Пощады никто не желает!

Бесчисленные «народные картинки» (аналог лубка) на разные лады производили операцию по дегуманизации японцев, представляя их то в виде отвратительных монстров, то в виде слабых, хилых и истеричных созданий12. В идеологическом дискурсе того времени за японцами твердо закрепляются определения «желтые, раскосые, коварные»13. Расовые предрассудки распространялись даже на японскую одежду. Д. Абрикосов свидетельствует, что, когда он облачился в кимоно, его соотечественник стал осуждать его за то, что тот носит «постыдную одежду желтой расы»14.
Ни с окрасом кожи, ни с разрезом глаз поделать было ничего нельзя. Но японские средства массовой информации того времени предпочитали этого не замечать: на цветных гравюрах, изображавших (воображавших) сцены японско-русской войны, японские солдаты и офицеры обладали белокожими лицами с европейскими чертами. Пропорции их тела были также подогнаны под европейцев, ростом японцы не уступали русским. Они отличались от европейцев лишь униформой. Русские же предстают в обличье космато-волосатых и страшных казаков. Японцы примысливали себе белокожесть, но в то же самое время представителей других азиатских народов (например, китайцев) они изображали желтокожими.
Японское правительство неоднократно и решительно заявляло, что война с Россией не имеет ничего общего со столкновением рас или же религий – она имеет целью «всего лишь» обеспечение справедливых интересов страны и защиту несчастной Кореи. Тем не менее японское общественное мнение в значительной степени воспринимало эту войну именно как расовую, она имела отчетливую «цветовую» окрашенность. При этом был как бы совершен возврат в то недавнее, но, казалось, избытое прошлое, когда европейцы (русские) представлялись исчадиями ада.
В романе известного писателя Сэридзава Кодзиро (1897– 1993) «Мужская жизнь» главный герой повествует об атмосфере в рыбацкой деревне во время японско-русской войны. Будучи ребенком, он наблюдал, как на железнодорожную станцию прибыли русские военнопленные, которые «вполне соответствовали тому, что я раньше видел на картинках и фотографиях: заросшие рыжими волосами лица, как у обезьян, одеты, точно в шкуры, в толстые пестрые пальто, даже шапки у них были не как у людей. То, что они из породы демонов, было видно по их высоченному росту – сошедшие вместе с ними японские солдаты едва ли доставали им до плеча. Я с удивлением узнал, что на одной с нами планете живут люди, столь не похожие на японцев. Тридцать-сорок пленных, неся в руках маленькие тюки с поклажей, сойдя на платформу, переговаривались между собой. То, что русские умеют говорить, также стало для меня откровением»15.
Япония напала на Россию не только с целью «защитить» Корею. Начав эту войну, японцы рассчитывали избыть свой комплекс неполноценности и доказать миру, что они достойны встать вровень с европейскими народами. Подъем по этой лестнице обеспечивала победоносная война. Японцы прилагали титанические усилия, чтобы вообразить себя «настоящими» европейцами. Экономист, публицист и член парламента Тагути Укити (1855—1905) в статье «Уничтожая теорию желтой опасности», написанной им во время войны, открыто утверждал, что японцы принадлежат не к желтой, а к белой расе. Он находил, что с расовой точки зрения японцы не имеют отношения к китайцам (которые-то и являются олицетворением желтой расы) – японцы «схожи» с обитателями Индии, Персии, древней Греции и Рима. Признавая, что в «народе Ямато» все-таки можно обнаружить следы «желтой крови», он утверждал, что японская аристократия (которая по умолчанию и являлась для автора «солью» японской земли) произошла напрямую от богов, у которых этой желтой крови не было и в помине. Спустившись на землю (т. е. в Японию), они покорили местное желтокожее население16.
Цветовой код был широко задействован в дискурсе того времени. Зазвучали заявления, что у японцев белое сердце под желтой кожей, а вот у русских – желтое сердце под белой кожей17. Что до Европы, то здесь заговорили о новом противостоянии Запада и Востока, которое имеет точкой отсчета войны древней «европейской» Греции против «азиатской» Персии18.
В Японии военные победы считались свидетельством того, что страна окончательно «покинула» Азию. Японцы стали считать свою страну «державой», сопоставимой с державами мировыми – США, Англией, Францией, Германией, Россией. Казалось, что с дискриминацией со стороны Запада, который считал Японию страной «нецивилизованной», было покончено. Однако это оказалось не так, дискриминация приобрела качественно другое измерение: презрительное определение японцев как «желтых» лишало их шанса сравняться с европейцами по этому параметру, ибо он является неизменяемым. В Японии полагали, что страна покинула Азию, но на Западе никто не считал, что Япония «пришвартовалась» к Европе.
Да, после войны Япония участвовала во всех важнейших мировых конференциях, но каждый раз ей и ее обитателям указывали на место. На Парижской мирной конференции 1919 г. японская делегация попыталась внести в устав формировавшейся Лиги Наций пункт о расовом равноправии иностранцев в странах-участницах Лиги, но встретила жесткий отпор со стороны США и Великобритании, и данный пункт в устав не вошел. Это был чрезвычайно болезненный удар по расовому и национальному самолюбию. Западные политики охотно твердили о равенстве, но это были скорее упражнения в риторике, реалии жизни оставались другими. К 1924 г. в США проживало 127 тысяч японцев, они в основном занимались сельским хозяйством и составляли известную конкуренцию местным фермерам. Поскольку японцы предпочитали проживать компактными общинами, общественное мнение считало их, наряду с китайцами, «неспособными к натурализации», а для американцев это был сильный аргумент в деле обоснования «неполноценности» и «зловредности» японцев. 16 апреля 1924 г. был принят Иммиграционный Акт, согласно которому ежегодная квота на въезд японцев в США стала составлять «оскорбительные» 186 человек. В Японии этот закон вызвал бурю протестов. Посол в Вашингтоне Ханихара Масао писал: «Для Японии это [Иммиграционный Акт. – А. М.] является вопросом не выгоды, а принципа... Важно то, уважают Японию как нацию, считаются или не считаются с ней...»19 Всего несколько десятилетий назад именно США проявили особое рвение в деле «открытия» Японии, теперь же уже Япония требовала большей открытости от США. Но силовых возможностей для достижения этой цели у Японии тогда не было.
Пренебрежительное отношение стран Запада к Японии и японцам переживалось с исключительной остротой. Японцы исходили из теории социально-культурной эволюции и вроде бы поднимались вверх по культурно-эволюционной шкале Спенсера, но общественное мнение на Западе совершило кульбит и поверило в критическую важность «изначальных» расовых признаков, из которых наиболее зримым является цвет кожи. В ход шли и другие «научные» соображения, которые третировали японцев по телесному признаку. Так, совершенно серьезно утверждалось, что вестибулярный аппарат японцев имеет ряд дефектов, обусловленных излишней тряской в младенческом возрасте (обычаем носить младенцев за спиной); что они предрасположены к близорукости, а потому не способны к точной стрельбе; мозг японцев устроен таким образом, что они – подобно женщинам – непредсказуемы, истеричны, не способны к логическому мышлению и действуют прежде всего из эмоциональных побуждений20. К этим характеристикам «пристегивался» и пакетный набор моральных (аморальных) качеств: двуличие, склонность к предательству, кровожадность, презрение к жизни (как к своей, так и к чужой) и т. д. Словом, несколько модифицированный, но в целом столь обычный для Запада того времени набор расистских стереотипов, употреблявшихся по отношению к любым «цветным», в полной мере относился и к японцам. А французский физиолог Шарль Рише (1850—1935) пошел еще дальше: он выдвинул теорию, согласно которой японцы являются в антропологическом отношении народом, который ближе всего стоит к приматам. В 1913 г. он получил Нобелевскую премию.
При этом в самой Японии использовался тот же самый расистско-антропологический понятийный аппарат, который был разработан за ее пределами. Там весьма пренебрежительно относились к обладателям кожи «красной» и «черной». Не отказывались японцы и от расистски понятой теории эволюции. На «Этнографическо-гигиенической выставке», устроенной в Токио в 1928 г., проводились публичные лекции, на которых утверждалось, что, наряду с айнами, к низшим расам относятся красная и черная, которые обречены на «естественную» деградацию и даже исчезновение.
Введение в широкий оборот такого не подверженного реформированию показателя, как цвет кожи, как бы отсылало к древней китайской геокультурной модели, когда «культурный» Центр и «варварская» периферия обречены на вечное сосуществование. Японцы, которые так стремились избавиться от своей азиатской идентичности, вновь – и теперь уже навсегда – были отброшены в «желтую» Азию. Этот телесный поворот имел колоссальные исторические последствия, ибо в условиях непреодолимой азиатской кожно-телесной идентичности Япония покидала теперь не Азию (о чем мечтал Фукудзава Юкити), она покидала Запад. В этой накаленной цветовой атмосфере стремительно актуализировались идеи паназиатизма, понимаемого как семья «братьев-азиатов», где роль «старшего брата» принадлежит, естественно, японцу. «Возврат в Азию» был обусловлен для Японии не только и не столько геополитическими соображениями, сколько комплексом телесной обиды на белого человека.
Глава 2
Стать европейцем
Дискурс военного времени предполагал телесную жертвенность. В этих условиях проблема индивидуальной «внешности» (красоты и безобразности) вообще снималась – тело готовили для смерти, а не для жизни. Однако с наступлением мирного времени уже «человек-пуля» отходит на второй план. Война возвращала к архаике и самурайским идеалам, мир приносил «современные» проблемы. Мирные условия снова и снова приносили вестернизацию, то есть дальнейшее разрушение традиционной картины мира и среды обитания. Диалога культур не происходило, информационный поток исходил с Запада и был однонаправлен. Одним из главных проявлений этого было нарастание индивидуализации, то есть более острое осознание своих лично-телесных интересов, пристрастий и вкусов.
В условиях традиционной Японии, когда брак заключался, как правило, только по сговору родителей, проблемы личного выбора партнера, внешности, привлекательности, свободной любви были оттеснены на культурную периферию, ибо брак мыслился не как место для половой любви, а как сфера для проявления долга, что снимало проблему «красоты» и «безобразности». Правильно (церемониально) вести себя, правильно одеваться – именно за счет этих параметров обеспечивается адекватная статусу внешность. Однако теперь, в условиях стремительной трансформации всей среды обитания, прежние представления о внешности тоже подвергались эрозии.
Модернизация Японии вызвала оживленную дискуссию по поводу брачных отношений. «Передовые» западники с самого начала ратовали, разумеется, за брак по любви. В связи с возникшей возможностью выбора брачного партнера к 10-м годам XX в. общество созрело для того, чтобы приступить к широкому обсуждению проблемы личной красоты и безобразности. Если раньше она обсуждалась по преимуществу в рамках оппозиции красивый европеец / некрасивый японец, то теперь она приобрела и сугубо личностный аспект. Прежние и теперешние морализаторские сочинения конфуцианского толка настойчиво подчеркивали, что душевные качества намного важнее внешних данных. Однако нынешние жалобы юношей и девушек на собственную неприглядность, низкий рост, излишнюю полноту или худобу, прыщавость и физические недостатки сделались теперь общим местом, что свидетельствовало о появлении йового источника комплексов и стрессов. Газеты того времени полны читательских писем по этому поводу.
Наряду с сетованиями читателей по поводу своей непри-гожести другие источники фиксируют новый для Японии тип нарциссирующего «щеголя», который любуется свой внешностью и телом. В повести (романе) «Затем» Нацумэ Сосэки так живописал своего героя: «Тщательно вычистив зубы и радуясь, как всегда, что они у него такие крепкие и здоровые, Дайскэ снял рубашку и так же тщательно обтер грудь и спину. При каждом движении руками или плечами кожа его слегка поблескивала, словно натертая ароматным маслом и досуха вытертая. Этим Дайскэ тоже гордился. Затем он расчесал на пробор черные волосы, которые ложились послушно, словно напомаженные. Усы, такие же тонкие и мягкие, как волосы, с удивительным изяществом обрамляли губу. Глядясь в зеркало, Дайскэ обеими руками любовно погладил свои полные щеки, точь-в-точь как женщина, когда она пудрится. Он бы и напудрился, появись в том необходимость, настолько он заботился о своей внешности. Иссохшие, как у благочестивых буддистов, тела, изможденные лица вызывали у Дайскэ отвращение, и, глядя на себя в зеркало, он радовался, что не похож на них ни лицом, ни телом. Он ни капельки не огорчался, когда его называли щеголем, ибо старые понятия были давно ему чужды».
В то же самое время «на редкость цветущий вид сочетался у Дайскэ с вялыми мышцами», а «энергетическую подпитку» он обретает, любуясь изображениями тел на картине вовсе не японского, а английского художника: «Суда, мачты, паруса, яркое небо с легкими облаками, темная вода – все это было выписано удивительно четко, а на переднем плане стояло несколько полуобнаженных рабочих. Некоторое время Дайскэ созерцал их спины и плечи с упругими сплетениями мышц и ложбинками между ними, буквально ощущая исходившую от них физическую силу и испытывая при этом радость»21.
Победа в войне подняла статус Японии как страны, но вот проблему телесной «ущербности» японца она решить не смогла. Европеец по-прежнему смотрел на японца сверху вниз. Эйфория сменилась «похмельем». Страна понесла большие жертвы, но главная задача – стать вровень с европейцем – так и не была достигнута. Один из героев другой повести Нацумэ Сосэки – «Сансиро» – говорит молодому человеку, своему железнодорожному попутчику в ответ на его замечание, что европейцы – красивы: «Нам остается только пожалеть друг друга. С таким-то лицом, с таким-то слабым телом – сколько ни побеждай Япония Россию, какой бы перворазрядной державой ни стала Япония – ничто нам не поможет. Впрочем, под стать нам и дома, и сады. Вы вот не бывали еще в Токио и не видели Фудзисан [Фудзияму]. Она скоро покажется. Это единственная достопримечательность Японии. Больше похвалиться нечем. Но ведь Фудзисан существует сама по себе. Не мы ее создали»22. Относительно светского раута, устроенного уже после войны, рассказчик («Затем») мимоходом замечает: «Среди множества гостей самыми почетными были англичане: очень высокий мужчина, не то член парламента, не то коммерсант, и его жена в пенсне, настоящая красавица. Просто грешно было с ее внешностью появляться среди японцев»23.
Нацумэ Сосэки был не одинок в таких оценках японского тела. Ученые мужи вторили ему. Анатом и физический антрополог Адати Бунтаро с горечью писал в 1914 г., что по развитости мускулатуры японцы уступают не только европейцам, но и неграм.
Мода на все европейское с особой отчетливостью стала проявляться после ужасного землетрясения 1923 г., в результате которого пожары практически полностью уничтожили Токио и Иокогаму. Это землетрясение не только унесло сто


тысяч жизней, оно стало рубежным и в другом отношении – оно как бы порвало связь времен. Каждому стало еще яснее, насколько хрупка граница между жизнью и смертью. Многим стало казаться, что надо поскорее взять от жизни все. На месте старого деревянного Токио возводились многоэтажные дома из бетона, стремительно вошли в моду кафе европейского типа, куда были рекрутированы тысячи молоденьких девушек – вещь ранее немыслимая, ибо «порядочной» девице полагалось сидеть безвылазно дома. Изменение облика города на западный лад создавало ощущение, что и сами японцы стали похожи на европейцев.
1 (аходясь в модерновом архитектурном окружении, столичная молодежь с легкостью воспринимала западный стиль поведения. Атмосферу того времени хорошо передает Д. Абрикосов: «Отношения между мужчинами и женщинами стали свободнее. Бесчисленные девушки, работавшие в кафе и дансингах, стали предметом флирта. Романы, из которых делали тайну в старой Японии, приобрели открытость. Молодые мужчины и женщины стали подражать героям американского кино. Любовь, поцелуи, слова любви, которые двадцать лет назад редко можно было слышать в Японии, стали главными интересами японской молодежи. И поскольку развитому обществу “положено” иметь гангстеров и преступления на сексуальной почве, то не замедлили появиться и они, а газеты пестрели описаниями наиболее грязных историй. Полицейские, которые играли роль главных блюстителей нравственности, привыкли отводить пороку строго определенные кварталы, теперь же они не представляли, какие следует принять меры против этой новоявленной свободы»24.
Многие молодые японцы хотели во всем походить на европейцев. Разумеется, это нравилось далеко не всем. Тани-дзаки Дзюнъитиро с нескрываемой иронией писал о тех молодых людях, для которых за телесный идеал признавался европеец. И чем ближе удавалось подойти к этому идеалу – тем более «стильным» тебя считали. О девушке, которой это не удавалось, герой повести «Любовь глупца» (1926 г.) отзывался так: «По-видимому, она считала себя очень несчастной оттого, что была слишком похожа на японку, и изо всех сил старалась походить на европейскую женщину. Внимательно взглянув на нее, я увидел толстый слой белил на ее коже и краску вокруг глаз. Щеки были тоже, без сомнения, накрашены. Да еще эта лента на голове... Увы, как ни жаль, но она выглядела чудовищем». Один из персонажей отзывается об этой несчастной девушке так: «Таких [японских] лиц вокруг сотни. Хоть она и прибегает ко всяким ухищрениям, чтобы стать похожей на иностранку, это ей не удается. Получается только смешно. Настоящая обезьяна!»25
Другой знаменитый писатель, Дадзай Осаму, смеялся над ухищрениями японок стать белокожими. «Говорят, одна киноактриса, желая, чтобы у нее была более белая кожа, с превеликим усердием поглощает сасими из кальмара. Эта глупая женщина слепо верит в то, что, если будет питаться одними кальмарами, клетки кальмара ассимилируют клетки ее кожи, обеспечив ей нежность и прозрачную белизну»26.
Городская молодежь демонстрировала страстное желание походить на европейцев. В стране издавалось множество модных журналов, и они писали, естественно, о западной моде. Что можно писать каждый день о японской одежде, если ее главным признаком является неизменность? Огромную роль в трансляции западных моделей внешности и поведения играл кинематограф – прежде всего, Голливуд.
С нескрываемым раздражением Дадзай Осаму писал: «Мое внимание привлекает один юноша. Он жеманно курит – наверное, так курил какой-то актер в модном фильме. Да и всей манерой поведения он явно подражает какому-то актеру. В руке у него – чемоданчик, выйдя на перрон, он самодовольно оглядывается, приподняв одну бровь. Опять же – подражая кому-то. На нем немыслимо яркий клетчатый европейский костюм с широкими отворотами. Брюки невероятной длины, кажется, они начинаются прямо от шеи. Белая охотничья шапка из парусины, алые полуботинки. Идет вперед, гордо выпятив грудь и презрительно скривив губы. Видали ли вы такого самодовольного болвана?»27
Русскому эмигранту и литератору М. П. Григорьеву тоже была не по вкусу новомодная японская молодежь: «Скромный европейский костюм, завоевавший себе место в жизни, воспринимается наряду с национальными кимоно и хаори [род накидки. – А. М.] как законный атрибут повседневного оби-


напитки, одежду, лекарства, косметику, средства гигиены, наручные часы, электрические кастрюли, радиоприемники ит. д. Свойственное для традиционного общества осмысление женщины как существа, угождающего мужчине и заботящегося о нем, в полной мере проявилось и сейчас – именно женщина подносила бокал пива, предлагала выпить сакэ, послушать радио, купить лекарство, приглашала в путешествие. Некоторые модели были одеты в европейское платье, но многие щеголяли и в кимоно.
Для значительной части населения женское кимоно продолжало по-прежнему выступать в качестве символа традиционной. «милой» Японии. Апрельский номер женского журнала «Фудзии корон» писал в 1933 г.: «Когда путешествуешь по разным странам, прежде всего отмечаешь различия в одежде, кухне и архитектуре той или иной страны и ее народа. Однако Япония восприняла и полностью впитала в себя стиль жизни всех стран мира. <...> Я считаю, что больше всего японцы преуспели в кимоно. Но если говорить о японской одежде, то мужское кимоно является не самым хорошим примером. Женское же кимоно стоит высоко над одеждой всех народов мира и превосходит ее во всем. Однако если говорить о летней одежде, все же, пожалуй, приятней носить европейское платье. Что ни говори, а одежда западных женщин приспособлена для лета. И наоборот, о европейском мужском платье нельзя сказать, что оно плохо. Оно прекрасно держит живот, шею, ноги. А удобнее карманов, куда можно что-то положить, вообще ничего нельзя придумать» (неопубликованный перевод Е. Тутатчиковой).
Несмотря на распространение европейского платья, в особенно ответственных и торжественных случаях почти любая японка все равно предпочитала кимоно. Вполне вестернизированная японка, которая живет в Париже и одевается исключительно по-европейски, перед родами все-таки просит, «чтобы из сумки вынули кимоно, специально приготовленное мной к этому дню». Когда же она переоделась в него, то почувствовала себя «новобранцем, которого отправляют на фронт». Героиня романа Сэридзава Кодзиро поступает так, в частности, и потому, что ощущает ответственность за то, как выглядят японцы в глазах иностранцев: «Я опасалась, как бы, глядя

ной лия образа традиционной японки, которой при улыбке следовало прикрывать рот рукой. Улыбка обнажала зубы, что считаюсь прежде совершенно неприличным. Пальцы моделей украшали кольца, отсутствовавшие в списке традиционных женских аксессуаров.
В 1900 I. в Киото прошел один из первых в Японии конкурс красавиц». В зале были вывешены фотографии 1СПШ. Посетители должны были определить самых красивых. Доктор Вельц с удивлением отмечал, что выбор японцев ока-пися для него странным: европейцы ни за что бы не выбрали тех красавиц, на ком остановился взгляд японца31. Однако ieiiepi> стандарты красоты резко сблизились – прежде всего ia счс! того, что за это время расхожие представления о женской красоте совершили дрейф в сторону европейских идеалов.
(’ловом, единственно аутентичным в новом образе японской красавицы оставалось только кимоно. Но и оно сверкало такими расцветками, которые не были представлены в традиционной культуре. Они отличались небывалой яркостью и эклектичностью. Одним из главных требований, предъявлявшихся прежде к женскому кимоно, была «скромность» и «сезонность» узора. Теперь же на одном и том же кимоно изображение сакуры или сливы (символов весны) могло соседствовать с кленом (момидзи) – символом осени. Можно было приметить и красавицу с розами, которые раньше позиционировались поборниками чисто японского в качестве растения, характерного для «коварного» Запада, доказательством чего служили спрятавшиеся под ярким цветком шипы.
Только естественно, что такое уничтожение «истинно японского» раздражало многих ревнителей старины и просто вменяемых людей. Нацумэ Сосэки описывал, как к нему обратился некий журнал с просьбой предоставить фотографию для публикации. Поскольку этот журнал помещал на своих страницах только улыбающиеся лица, серьезный писатель ответил отказом. Тогда ему пообещали, что опубликуют его «естественное» лицо, и он согласился. Затем ему прислали уже готовый для публикации фотопортрет, где – за счет ретуши – писателя ■заставили» улыбаться. При этом самого журнала ему так и не прислали32. Таким образом, в понимании Нацумэ Сосэки улыбка (смех) и невоспитанность занимали место на одном смысловом поле, но «широкая публика» видела мир по-иному.
Многие японцы, в особенности молодые, хотели быть похожи на европейцев, но те, которые чересчур открыто и последовательно подражали им, вызывали в обществе чувство отторжения. Ведь они желали походить на людей Запада не только одеждой, но и манерами, которые казались вызывающими и не соответствующими национальным устоям.
Литератор Исидзака Ёдзиро (1900—1986) свидетельствует: «Когда мы смотрим иностранные кинофильмы, мы зачастую не можем удержаться от улыбки восхищения при виде того, как живо и откровенно выражаются у европейцев чувства любви между родителями и детьми, между супругами или же между друзьями, – выражаются мимикой, жестикуляцией и словами. Мы чувствуем себя совершенно неспособными подражать этому. Если взять обычные у нас отношения между родителями и детьми, то было бы, например, странно видеть, чтобы взрослые дочери или сыновья бросались отцам на шею и осыпали их поцелуями. Это прежде всего вызвало бы у отцов чувство, похожее на ужас. У нас этого никто не делает и не позволяет делать». Обратной стороной этого становится «невыразительность» поведения японца. «Европейцы обладают способностью выражать чувства свободно и ярко, совершенно не стесняясь формами. Японцы же с малых лет приучаются к правилу, что признаком хорошего вкуса и тона человека является не выражать внешним образом своих чувств без нужды. Поэтому японец отличается от европейца прежде всего тем, что внешность его маловыразительна, жестикуляция его неискусна, а лицо хранит такой вид, словно он вечно чем-то недоволен»33.
Ту же мысль выражает и Танидзаки Дзюнъитиро. Рассуждая о японском кукольном театре Бунраку, где одна и та же кукла изображает разных персонажей, он говорит: «Возможно, на лицах японских женщин былых времен и в минуты переживаний выражалось не больше искренних чувств, чем на лицах этих кукол. И в самом деле, если в драмах изображать по-восточному смиренно мягких японских женщин, то, подобно красавицам Утамаро, которые все на одно лицо,

«Пресность» внешности, эмоционального и телесного поведения соответствовала культурным установкам японского общества, его картины мира. Многим стало казаться, что «восхищение» западными манерами – это другое наименование для вызывающей чувство отторжения «безвкусицы». И среди этих людей были не только твердолобые ксенофобы, но и весьма тонкие люди. Все они боялись одного – утраты японской идентичности. И их можно понять: западная культура обладала (и обладает) колоссальным запасом вмонтированной в нее агрессивности, которая безжалостно разрушает любые отклонения от пестуемой ею «нормы».