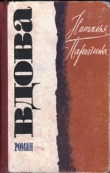Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
– Ну, вот и все, – сказал он, закончив работу. – А теперь давай помянем. Садись, тетя Даша.
Михаил вынул из сумки бутылку вина, яблок и налил ей в кружку.
– А себе?
– Я из горлышка. Всю жизнь из фляжки пью. Даже вкусней вода кажется – из горлышка. Ну, светлая память и во веки веков!
Он сделал большой глоток, Дарья тоже отпила, а остальное вылила на могилу.
– Вот, – сказал, опускаясь на место, – память о Василии Корнеевиче Веткине еще увеличилась: теперь я буду знать о нем.
Они сидели, осененные текучей черемуховой кроной, и долго молчали. И предвечерний теплый солнечный октябрь молчал – такой октябрь, какого не бывает ни в одном краю России. Клены – от темно-свекольного цвета до карминности высочайшей, от темно-бордового до амарантового пожара, и чистой промытой желтизны березы и осины, и темные ели, таящие в себе синеватый туманец, а по всему этому сумасшествию красок – багряные чепраки виноградника и лимонника. И тишина такая, какая только в этом краю может быть в октябре, когда нет никакого течения воздуха день, два, неделю, а только солнце, солнце, солнце...
А со впаянной в памятник фотографии безмятежно глядел молодой волноволосый парень – Василий Веткин, такой молодой, что и сам Михаил был в сравнении с ним стариком, а уж Дарья...
Михаил искоса поглядел на Дарью и вдруг поразился: не может быть, чтоб этот парень был мужем ей, этой, ведьмастого размужичьего вида, старухи! «Васенька мой, цветочек...» И знал, что не сын он ей, а муж, но сердцем не мог признать такой нелепости. Понимал, что жизнь увела Дарью от молодого Василия в старость и, может быть, оттого она так выстарела в свои не так уж и большие годы, что не вела ее жизнь, а волоком тянула от той черты, за которой остался ее муж, ее счастье.
«Вот поставил памятник, а что в нем толку?» – повлекло Михайловы мысли в сторону.
Дарья наломала разноцветных веток и сидела, раскинув худые ноги, плела венок. Лицо ее было печальным и просветленным. «Зачем она? – Михаил представил венок дня через три в виде голого хвороста и грустно усмехнулся. – Разошелся елки-палки, в думах-то. Вечность мне подавай! А Дарья думает ли о вечности? Новый отливающий небесной краской памятник, венок-однодневок – вот и умиротворилось ее сердце, полно горестной благости.
Солнце зависло над западной клешней залива, осветив и без того озаренную неземными октябрьскими красками землю. Тени вытемнились, и Дарьина склоненная над могилой фигура, подсвеченная с невидимой Михаилу стороны, была контурна и темна. Кладбище опускалось окатистым полукружьем вниз, и потому казалось, будто Дарья осеняет своим наклоном весь покойный городок. «При чем тут эти сварные железяки? – подумал Михаил. – Вот она жива, и память жива. Это мы, мудрецы, додумались помнить кого надо… А мать-природа всех помнит: и великих и малых...»
Уже слабая заря таяла, когда Михаил позвал Дарью домой. Она все обихаживала холмик, а потом выпрямилась на фоне зари, черная и большая – в полнеба.
...По весне Михаил с Олегом домишко Дарьи перетрясли: поменяли гнилые венцы, крохотные оконца расширили, с крыши черный рубероид содрали, шифер настелили. Завеселел домишко! То под темным охлупнем мокрой курицей сидел, а тут таким ясным соколом на некрутом склоне сопки выставился! И, считай, со Свешневым рядом: всего и отдаляла сопочная хребтина, поднимешься на нее – и вот тебе Дарьин дом.
Дарья не знала, чем угостить работников. Кручинилась: чем расчет держать, денег не наработала.
– Как проживешь сто годов да еще десять, тогда и начнем взыскивать, – шутил Михаил. – Больше ста десяти не живи, – предупреждал. – Обдерем как липку!
Все думал о случайности: не задержись он тогда в раздевалке, не подойди к нему Дарья – так бы остались разделенные не только хребтиной сопки. Чувствовал, что с заботами о Дарье жизнь его вроде бы вздорожала. Да и Дарья, видел, отмякла, ожила – материнское-то, должно, никаким пеклом одиночества не засушить, никакому времени не выветрить.
7
Василий Головкин втайне мечтал о славе композитора. Но отец властной рукой указал дорогу в горный институт: иди и не оглядывайся! Решение отца, управляющего трестом шахт «Горскуголь», было не только властным, но и неожиданным, и этим Василий, человек по натуре слабый, не в мать и не в отца, был как бы лишен самого себя. Мать, преподавательница музыкальной школы, долго не могла смириться с «банальностью» ожидавшей сына жизни и трагическим голосом выговаривала мужу, но тот только раз выразительно посмотрел на нее: «Чушь все это!»
Родители не открывали детям свою прошлую жизнь, но всякая тайна все равно когда-нибудь да становится явью. Бывало, в своей комнате схватятся в ссоре, а маленький Вася под дверью обмирает от любопытства и страха. «Трактирный лакей!» – кричала мать. «О-о-о, госпожа горничная», – язвил отец.
Мало-помалу он узнал, что отец был сыном приказчика, но умудрился закончить рабфак и горный институт, а мать прежде «служила в лучших домах», а теперь, как она любила говорить, «состоит у отца в услужении».
В горном институте Василий выглядел степенней своих ровесников: одевался по сезону, тогда как другие и одного-то доброго костюма не имели, все больше в гимнастерках отцовских или своих, на войне нажитых; в студенческих компаниях не участвовал, тяготясь панибратством и втайне гордясь своим превосходством: знания у него в самом деле были и шире и основательнее, чем у многих других. Да и сокурсники его сторонились: вроде бы ясен парень, но чем-то и загадочен, не такой, как все, – личность. И лишь Александр Комаров этой личности не почитал. Сам длинный, худой, кость да жилы, в ватнике, в одних несменных штанах, в шапчонке из кошки, на ногах кирзачи, он поначалу Головкина вроде бы не замечал.
К Комарову раза два за зиму приезжал с какого-то разъезда отец, маленький и быстрый человек, с остроносым лицом, заросшим светлой щетиной до самых глаз, которые посверкивали весело и остро. Он привозил в мешке круг-два мороженого молока, сухой и свежей картошки, а бывало, и туесок капусты. Садился на полу поближе к дверям, ловко скручивал черными, плохо гнущимися пальцами цигарку. Намороженный его полушубок оттаивал в тепле, наполняя студенческую комнату запахом керосина и навоза.
– Ешь, Лександр, наводи тело, – обласкивал гордым взглядом сына. – Таку науку одолеть! Ой-е-ей! Это тебе не кнутом коров охлестывать... Мы ведь, Комаровы, – обращался он к Василию Головкину, – сколь помним себя, все скотники. А тут вот, – он протягивал в сторону сына скрюченную ладонь, похожую на дубовый ковш, – бог создал головушку золоту на всю родову. Он, бог-то, не Тимоха, знает, кому плохо!
А «головушка золота», чему-то радуясь, менял истлевшие портянки на новые из какой-то серой, гремучей, как жесть, ткани, привезенной отцом.
– Добро онучки-то, – удовлетворенно говорил отец. – Нога в тепле, и телу баско! А молочко снятое, сынок. Не забидься. Маслица все с матерью колобобим на продажу. Огольцов-то одевать-обувать надо. Мда... И дай-ка я тебе сапоги починю.
Доставал из мешка дратву, шило, свиную щетину, лоскутки кожи от старой обуви и латал сапоги сына в каждый приезд все пять лет.
Головкину было жалко Комаровых в их бедности, жалкими они казались ему и в своей радости – от новых портянок или ситцевой рубашки, которую потом носил Александр, не меняя, пока не сползала с плеча от долгих стирок и износа, и в своей гордости: столько поколений скотников одного в горный институт выдвинуло! Удивляло и то, что Комаров не стеснялся бедности, более того, не замечал ее, вроде бы даже нарочно, как в укор всем, показывал себя, и тогда мимолетная жалость к нему сменялась неприязнью.
– Комаров, – сказал как-то, – ты необдуманно землю бросил. Но уж коль так случилось, то нужно было идти на шахту рабочим, и только детям твоим – дорога в горный институт! Понимаешь? Нужна переходная социальная база.
Комаров долго и пронзительно глядел в глаза Головкину.
– Это для моего отца ты сокол, а для меня – сова. Отец по жилетке да по холеной роже привык людей ценить, а я-то уже не-ет!.. Не признаю неравенства по штанам. – И подергал Василия за полу – Хотя, что скрывать, вот такой костюмчик поносить не отказался бы!..
– Да я же тебе добра желаю, – сникал отчего-то Головкин.
– Ты – добра?! Не-ет. Ты стыдишься и, по-моему, боишься меня. Ты думаешь, мы в деревне из-за лени ремни потуже затягиваем... Не понимаешь? Или не хочешь понять? Ты в туфлях-габардинах, а я – вот... – тряхнул перед Василием своей одежонкой. – Но ты не за меня – за себя стыдись, Василий, если совесть есть. А бояться можешь, это я тебе разрешаю!..
Почти ничего не понял Головкин: почему он должен за себя стыдиться? Но после того разговора стал как-то больше задумываться и о себе, и о Комарове, о многом.
«Ведь, кроме моей жизни, есть еще какая-то другая, непонятная мне, из которой пришли Комаров и другие, похожие на Комарова. Какая она?»
Решение поехать в деревню после весенней сессии принял тайно от всех. В душе он был горд за себя, потому что из-за этого надо было идти на кое-какие жертвы... Написал родителям, что задержится на недельку-другую, а пока чтобы Кузьма, личный шофер отца, отремонтировал мотоцикл и наладил удочки. На карте выбрал наугад станцию с длинным названием: «До нее доеду, а потом – до ближайшей деревни». Но «в народ» Головкин попал сразу на вокзале, намяв бока и взмокнув, удостоверился, что купейных мест нет и не предвидится.
В духоте и грязи общего вагона ехал день да еще ночь; ему почему-то обязательно нужно было проехать до намеченной станции. Всю ночь до восхода простоял в тамбуре, так как вагон был плотно забит табачным дымом, сдобренным запахом пота от разомлевших тел и портяночной тухлости.
На восходе Василий в станционном буфете попил чаю и по пыльной улочке районного села вышел на дорогу, ощущая давящую тошноту и угарный шум в голове. Миновав кладбище, по-степному голое и неогороженное, сошел на обочину и присел, еще бодрясь и в душе гордясь собой, однако уже догадываясь о всей нелепости своего положения: «Зачем это я? Какой народ? Какие песни? Выспаться бы...»
Он и вправду стал клевать носом, а когда вскинул голову, увидел стоявшего рядом парня, босого, с мешочком в руке, скуластого, с заметно удлиненными глазами, похожего на монгола.
– А я гляжу: не захворал ли человек...
Голос у парня был глухой, мягкий, толстоватые губы расползались в той улыбке, в которой и простота и смущение, но Василий увидел в ней глупость: «Вот он в чистом виде, Иванушка-дурачок...»
– До деревни далеко?
– А вам куда? До Чумаковки или Чистоозерной?
– Куда ближе, – ответил, поднимаясь.
– А-а, тогда к нам. – Парень поглядывал на Головкина искоса, с интересом. – Случаем не по налогам?
– Нет, не по налогам, я... – Василий чуть поднажал, выдохнул: – Я композитор.
Парень весь как-то вскинулся.
– Да ну-у!
«Понимает!..» – поразился Головкин, и тут же душа его погрузилась во что-то стыдливое и сладостное: самому себе еще так открыто не признавался, а тут вот испробовал ее, будущую свою славу, хоть и в глухомани степной и на каком-то оборвыше, а все равно...
– Мелодии народные у вас буду записывать, песни… Как у вас поют?
– Пою-ют, – ответил парень неопределенно. – Говорят, за песнями-то в Москву ездят?
– Бывает и наоборот, – ответил Головкин не без вызова и ловко переменил разговор: – В район зачем ходил?
– На комиссию. Осенью в армию берут.
Головкину захотелось узнать имя парнишки – узнать и запомнить как некий рубеж в своей жизни.
– Я-то? Свешнев. Мишка я. А вас как? Нам радио провести сулили. А то это… слушать будем, а кого?.. – сбивчиво говорил Михаил,
– Василием Матвеевичем меня зовут. – Фамилию не назвал, будто не понял вопроса.
Они прошли небольшой, знобящий утренней свежестью лесок, и сразу открылась глазам увалистая даль с островками березняков, и все поля, поля да степи. Дорога перепоясывала увалы, скрывалась в лощинах и темной волосинкой вилась у слияния неба с землей.
– Вон и наш транспорт, – показал Михаил: там, впереди, мухой ползла подвода. – Поднажать надо! – И пошел отмерять емким шагом, а Василий глядел на его шишкастые щиколотки, задубелые пятки и снова ругнул себя: «Какого черта»!
Через полчаса они настигли большой фургон, который тянула пара мосластых быков. На передке виделась спина возницы, обтянутая гимнастеркой, до того пропитанной потом и грязью, что она лоснилась и казалась мокрой; на голове у возницы то ли шапка, то ли кусок рукава от ватника – что-то плоское и изодранное.
– Здравствуй, дядя Трофим, – поздоровался Михаил. – Я так и думал, что ты.
– Я-я... – протянул тот и кивнул на ящик-кузов: дескать, садитесь, и отвернулся.
Они влезли, Головкин не знал, как сесть, чтобы не зазеленить костюм о жмых, но Михаил подстелил ему свою телогрейку.
– Композитор, дядя Троша. Композитор к нам... Вот! А ты его везешь! – Михаил как бы приглашал Трофима разделить с ним удивление.
Мужик вяловато обернулся, показал заросшее черной щетиной лицо, водянистыми глазами из-под опухших век поглядел на Головкина, перестал обсасывать обмылок подсолнечного жмыха.
– Этот, – наконец сказал Трофим, ткнув в сторону Головкина кнутовищем. – На войне видал. Такой же вылупасный на железной дудке дудел... – И отвернулся.
Скрипел фургон, быки шагали так, что колеса поворачивались, наверное, медленнее, чем секундная стрелка. Головкин глядел вдаль, и ему казалось, что и жизнь и время остановились.
– Ешьте жмых, – наконец сказал Трофим.
Но Михаил уже давно точил крепкими широкими зубами кусок жмыха.
– Два ордена Славы, – пережевывая, кивал Михаил на Трофима, – медалей штук пять... Здорово парень воевал!..
– Какой же он парень? – машинально возразил Головкин.
– Хо! Да ему сорока нету!.. Это зарос да оголодал.
Ручей в лощинке блеснул, к дороге выбежал, и возница остановил быков, припал к ручью и пил, пил жадно и долго.
– От жмыха, – пояснил Михаил. – Сухой жмых жажду дает.
Монотонно скрипел фургон, глухо стукали ступицы, и Головкин задремал.
В деревню въехали далеко за полдень. Солнце уже скосилось, отчего небольшие бревенчатые дома с запада зарозовели, а гусиная трава, которой густо поросла улица, была зеленой до темноты. И пусто было в деревне: ни людей, ни кур, никакой живности, даже ребятишек не было видно.
– Правление там, – спрыгнув с фургона, махнул рукой Михаил.
– Нет, нет, ты уж меня не бросай!.. – Головкин заспешил, перевалился через край с телеги.
Михаил завел Головкина в ограду, пустую и чистую, только в дальнем углу, у плетня, была поленница дров, на кольях висели четыре щербатые кринки да чуть правее – веревка с петлей и трава, перетоптанная с навозом, – место привязи коровы. Дверь в сенцы была закрыта на щеколду, а вместо замка – хворостинка.
– Трудятся, – улыбнулся Михаил и крикнул через плетень в огород: – Петька! Нюрка!
И только тут Головкин увидел две белые макушки, уткнувшиеся в грядки. Ребятишки выпрямились, из-под ладоней поглядели на пришедших, а потом друг за другом двинулись к дому. Подошли босые, с оттопыренными на больших животах рубашонками, опасливо покосились на Головкина.
– Не бойтесь, – ободрил их Михаил. – Пололи?
Дети дружно кивнули и уставились на руки брата, которые развязывали мешок. Михаил, засунув руку в мешок, отломил корку хлеба, подал старшей девочке.
– На двоих.
Головкин наблюдал за детьми, но как-то не заметил, когда они разделили и съели хлеб и опять уставились на мешок.
– Хватит, – строго сказал Михаил и стал оглядываться. – Где все?
– Тятя с Гришкой и Ванькой на силосной яме, а мама на дойке.
Михаил провел Головкина в дом. Большая русская печь зевасто открыла на него черный рот. От печи под потолком – полати, рядом две длинные лавки, стол из толстых, выструганных до белизны досок с ножками-крестовинами да шкаф с тремя полками, на которых лежали вперемешку глиняные и оловянные миски, ложки деревянные, пара стаканов и еще какая-то немудреная утварь. Михаил провел гостя за дощатую перегородку в горницу.
– Вот тут побудьте. А я сейчас.
Горница и вовсе была пуста. Окна без занавесок, в углу рыжеватый в полоску сундук, голый стол, две табуретки, лавка вдоль стены и полка-угольник, на которой лежали стопки истрепанных учебников, самодельные тетради и, что поразило Головкина, «Хаджи-Мурат» Толстого. Василий взял книгу, не раскрывая, держал ее, чувствуя с ней какое-то родство, и, глядя в окно на закатное солнце, в который раз подумал: «Зачем я здесь?» За огородом начиналось поле, то ли пшеничное, то ли ржаное. Василий не только издали, но и вплотную не узнал бы, что там росло, одно знал – хлеб. Он с щемящей тоской подумал о том, что уже сегодня был бы в Горске, в уютном доме, в своей комнате, где широкий диван, ковер над ним, кресло, библиотека, настольная лампа... Представлял приход матери с работы и то, как она, наскоро поцеловав его, первым делом стала бы совать ему в руки скрипку с неизменными словами: «На-ка, нужен постоянный тренаж! Иначе все на ветер! Все в прах!» Затем перешли бы в гостиную, и сестра Таня села бы за пианино, а позже приехал бы с работы отец и за ужином стал бы расспрашивать его о делах. Почти всегда было так в приезды домой.
«Ду-урак!» – уже рассердился на себя Головкин, он почувствовал, что проголодался.
А в передней комнате тем временем накапливались приглушенные голоса.
– Что же ты, Миша, а?.. – спрашивал мужской голос.
– А я что? Сам он...
– Гм... Мать, ты к Чурсиным сходи: может, ведерко картошки дадут под новину.
– Уже ходила. – И долгий вздох.
– Вот незадача! Не супом же из ботвы кормить такого... Чтоб на недельку-две попозже: и картошка и брюква бы подоспели, а теперь... Может, подкопать картошки-то?..
– Пробовала, мельче бобов...
Руки Василия забегали по карманам, в левом нагрудном он нащупал деньги. «Что же делать? Ну, залетел!»
А солнце между тем сплющилось, горящая кровинка-капля растеклась на далеком краю поля и стала быстро впитываться землей, оставшаяся горбушка задержалась было на мгновение, но тут же провалилась, сразу по комнате расплылись легкие сумерки.
– Пойдемте ужинать, – позвал Михаил, и Головкин вздрогнул от неожиданности. – Пока светло...
В передней комнате ударило в нос крепким и неприятным запахом варева, и Головкин едва сдержался, чтобы не потянуться ладонью ко рту.
– Ну, здравствуйте вам! – Хозяин, Семен Егорыч, черный со всклокоченными волосами, показывал ковшами рук на лавку. – Пожалуйте к столу. Чем бог послал...
Но Головкин мялся, звал глазами Михаила.
– Миша, выйдем...
Остро выгнув спину, подхватив тряпкой огромный чугун, мать Михаила несла его длинными руками к столу, и пар окутывал ее склоненную над чугуном голову. Поставила чугун, обернулась к Головкину, а глаза такие большие, ласковые, и лицо все – в каждой морщинке доброта и нежность.
– Здравствуйте, – сказал Василий и покосился на чугун.
– Ну, чего же вы? Садитесь, – проворно обмела тряпкой край скамьи и место для гостя. – Отец, не топчись ты, садись уж!
– Миша, – позвал опять Головкин.
Михаил вылез из-за стола, пошел во двор, следом гость.
– Магазин у вас есть?.. – спросил Головкин.
– Сельпо-то? А как же! Есть.
– Сходить бы надо. Гостинцев ребятишкам. Неудобно так-то. Из головы выскочило...
– А-а, – протянул Михаил, – чего их баловать. И сельпо закрыто. Продавщица не откроет.
– Попросим, – настаивал Василий.
– Не надо. Если чего, завтра сходите. Пойдемте в дом.
Над столом висела лампа, узкая часть у стекла-пузыря была отколота, а вместо нее – почерневшая от жара бумажная трубка.
Семья усаживалась за стол. Перед каждым исходила паром миска, хлеба лежало на один добрый откус, и Василий догадался, что этот хлеб привезен Михаилом.
Семья как-то враз, дружно взялась за ложки, словно кто подал команду, дети шумно дули в ложки, шмыгали носами, а Василий сидел столбом, не зная, что делать.
– Хлебайте, Василий Матвеевич, – подсказал Семен Егорыч. – Шти постные да из травки свежей, пользительные. Тут и шшавель, и крапива, и листки-обломыши от капустки... Июль не апрель – хошь чем барабан набить можно. – Семен Егорыч подмигнул Головкину, сводя все к шутке.
– Будет буровить-то! – в сердцах прервала его хозяйка. – Язык – чисто помело, истинный бог!
– Вот те! Гостя ведь потчую...
Василий сунул ложку в рот, ощутил пресноту, но странно: запаха он уже не чувствовал. Тут, мигнув, погас огонь в лампе, и, как ни слаб был свет, тьма после него наступила полная.
– Ну вот, кончилось электричество. Теперь целуй кто кого не любит, – не унимался, балагурил Семен Егорыч. – Лучину нешто запалить?..
– Не надо, что вы! Спасибо, – спешно благодарил Головкин, поднимаясь из-за стола.
Михаил провел его в горницу, где от поздней зари еще не было так темно, как в передней, потом принес подушку и лоскутное одеяло, бросил на койку, раскинул на полу полушубок, лег сам.
– Ложитесь, – сказал торчащему у окна Головкину, – отсыпайтесь, а завтра за песни приметесь. У нас тут две сестры, вдовы, песен всяких дополна знают. Правда, слезливые песни-то...
Михаил повозился на шубе, притих и засопел, видно, засыпая.
«Хлебайте шти...» Ну вот и хлебнул... Вот, вот же он, этот другой мир, на который ему так упорно указывал Комаров самим своим видом. Но действительность превзошла, пожалуй, все ожидания.
Из передней доносился храп Семена Егорыча, где-то, словно плача, тонко взлаивала собака, а потом издалека стал нарастать рокот трактора, затем пошел на спад до шороха и исчез в полях.
«Как же они тут могут?»
Одна картина сменялась другою, и одни были неясные, серые, как эта сумеречная горница, где, разметав руки, спал Михаил, так напоминающий чем-то Александра Комарова, а другие – четкие, как та вот звезда, что воткнулась кончиком лучей в стекло и теперь висела, подрагивая и тонко звеня. Головкин возился на жесткой постели. В передней храп Семена Егорыча перехлестывала заливистая фистула, он ненадолго затихал, чтобы набрать силу, и в этих паузах протяжно вздыхала мать Михаила.
Как-то в пригородном совхозе садили картошку. Ребят понабралось с избытком, и добровольцы вызвались чистить навоз на скотной базе. Василий Головкин, будто сейчас, видит, как Комаров, жалея сапоги и одежду, голый по пояс, в завернутых выше колен штанах, с кряхтеньем отрывает навоз вилами, взбугряя мышцы на руках и спине, делает взмах – и пласт навоза летит метров за пять. Заляпанные босые ноги с крепкими икрами чавкают в зеленой жиже... Вот он оборачивается и хохочет, и подрагивает его тощий живот.
Конечно, приезд отца Комарова да и сам Комаров что-то такое и раньше подсказывали Головкину, чего он не принимал в расчет. А сейчас, отсюда, Комаров виделся Василию совсем другим. «Мне хотелось видеть Комарова примитивным – я его таким и видел, но тут что-то не так». И тогда не придал значения, когда заговорили о курсовом проекте Комарова – о методах вскрытия угольного поля. «Вася, – сказала тогда Ксения, – а Комаров-то наш!.. Мы копируем старое, а он... Свежий какой-то, светлый весь».
«Подожди!.. Что же это?» – Головкин даже приподнялся на локоть, пытаясь разглядеть тьму. Тогда мимо ушей пропустил слова Ксении, а теперь ударили они его больно под сердце. И это говорила Ксения, единственный человек на свете, ради которого он готов был на все.
Откуда же эта свежесть, светлота? Жизнь груба и тяжела в своих истоках. Комаров вышел из тех истоков, до устья ему еще далеко, но уже теперь половодье набирает мощь. Откуда, откуда у него столько сил? «Но ведь в конце концов они к нам идут, а не мы к ним. К кому, к нам?» – спотыкался в мыслях Головкин.
Задыхаясь, Головкин уткнулся в подушку. «Ксению знать не хочу! И вообще всех!.. Душу на замок, сам себе судья и бог!»
Он уснул, когда заря стала набирать новую силу. Спал он крепко, но недолго: солнце еще розовости не потеряло, когда он вскинулся. Михаила уже не было. Головкин выглянул в переднюю комнату. Справа от двери на деревянной распорке висел умывальный чугун, а на гвозде – чистое льняное полотенце. Сполоснулся над лоханью, отер лицо залежавшимся в сундуке полотном, совсем не думая о том, что самое лучшее в этой бедности полотенце, вытканное цветами и петухами, может быть, десятилетие хранилось, а теперь вывешено для него, незваного гостя. Надевая пиджак, он вспомнил слова Михаила: «Отсыпайтесь, а завтра за песни приметесь», – и подобие улыбки скривило его припухлые губы. «Песни... Петухи и те не поют...»
На столе стояла кружка молока, а рядом – кусочек хлеба. Хлеб он не тронул, но молока отпил полкружки, с трудом сдерживаясь, чтоб не проглотить все.
Вышел во двор, а солнце, такое радостное, брызнуло в лицо! В огороде так тучна и темно-зелена была растительность, что казалось, ветхие плетни расперло, выгнуло наружу. В этой зелени, как и вчера, белели две головенки – дети трудились. И ни души вокруг: «Вот и хорошо, без разговоров уйду».
Он вышел из деревни на длинную и пустынную дорогу, чувствуя острый стыд за себя: «Дурак, дурак, на всю жизнь дурак! Посмотрел, изучил, понял... Хорошо, что о таком позоре никто никогда не узнает – ни Ксения, ни кто другой, а здешние – так их не было для меня и не будет!..» Нет, не прикоснется он больше к чужой жизни, не заглянет в чужую душу и в свою заглянуть не позволит. Комаров с его жизнью теперь был ему безразличен, как была безразлична только что оставленная им деревня.
Ноги в тесных туфлях горели, пальцы занемели. Головкин разулся, попробовал идти босым, но заковылял, заприседал от каждой крупинки земли и опять обулся.
Он не знал босоты. Кажется, и по полу босыми ногами не ступал, не то что по земле. Мать воспитала ко всякой пылинке с младенчества отвращение. «Грязь убивает нас, – говорила. – Да, да! Именно грязь! – и ничто иное...» – И ее лицо брезгливо морщилось.
Мать всегда была какой-то сахарно-белой, с руками бледно-розоватыми и нежными, словно вылепленными из мякоти недозрелого арбуза. Носила она большей частью темный строгий костюм с белой блузкой. Ее лаковые туфли и шелковые чулки были постоянно чисты, словно ходила она по асфальту большого города, а не по улицам черного от копоти терриконов Горска, где в сушь меж досок тротуара при каждом шаге выпархивала пыль, а в непогоду вязким тестом выползала грязь.
Василий остановился у хлебного поля, тяжелого от густой зелени, оглянулся: «Где дома?» Деревня словно утонула, едва разглядел коньки крыш и трубы – скрыло ее хлебами и травами. Куда ни глянь – лишь и безлюдье. Он даже физически, до зябкой дрожи ощутил одиночество и с суеверным страхом подумал: «Где же станция, найду ли я ее?» И тут же успокоился: вот же она, дорога, шагай, и она выведет в твою привычную жизнь.