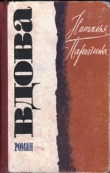Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
– Жить да жить, говоришь? А что, вот возьму и поживу, а? – Караваев будто в шутку просил у Михаила разрешения пожить и даже усмехнулся с какой-то просящей надеждой.
– А чего не жить? – подхватил Михаил. – Только к сердцу так близко не надо... вон, как на митинге.
– А ты – не близко? Горе-то всенародное.
Михаил молчал. Глядел, как перед большим окном еще голый, корявый ясень тихо покоил в своей редкой вершине высокий сиреневатый день – глядел и думал, как ответить Караваеву. Ни правду сказать, ни соврать. А какая она, правда? Как вот эти ветки, четкие и узловатые, или как сквозящее через них бездонное сиреневатое небо?
– Я не знаю, – сказал и вздохнул с подрагиванием в груди. – Горе всенародное, когда война или урожай сгорит – голод. И, все равно, все сразу не заплачут. Счастье-то, оно времени не выбирает.
– Так ведь всенародное горе, всенародное и счастье. – Караваев закурил снова, отмахнул дым, с костлявым звуком уронил руку на стол. – Всему свое время, Свешнев.
– Нет, – покачал головой Михаил. – Общей может быть правда, а горе со счастьем времени не выбирают – они всегда в одной упряжке.
– По-твоему, я на митинге мог быть счастливым?
– Не-ет! – поспешно и приглушенно выдавил Михаил. – Это ваше горе.
– Раздели-ил, – прохрипел Караваев. – А меня жалеешь. Вижу – жалеешь, – сказал, утверждая. – Да чужой век не проживешь. Ой, сколько мы теряли, Свешнев! Как сказал добрый поэт: «Доколе ворону кружить, доколе матери тужить?..» Беречь бы нам друг друга. Вот так! – Караваев сжал кулак. – Жалеть. Да не научились.
– Этому не учат.
– Учат.
И помолчали. Может быть, и не в согласии помолчали, но как люди, имеющие общую большую-большую заботу.
– Зачем звали, Петр Васильевич?
– А-а, да затем и звал, – сказал старик неопределенно. – Иди, не держу.
Михаил – к двери, но Караваев остановил.
– Ты что ж, и руку мне пожать не хочешь?
Рука у Караваева была тяжелая, рабочая, но холодная – не прогретая кровью, и Михаилу захотелось поскорее отнять свою из его.
– Ну, давай... Вы будете счастливей нас.
И больше его Михаил не увидел никогда.
Караваев умер в пятьдесят третьем году, перед майским праздником. Михаил на похороны не попал – был в шахте, но перед спуском заходил на второй этаж быткомбината, в клуб, попрощаться с ним. Близко к гробу не пробился – столько вокруг него было начальства шахтового и городского. Михаил видел только желтый мысок лба и кончик носа. Обернувшийся при жизни такой нечаянной простотой и близостью, при смерти он стал далеким-далеким, что даже придвинуться, запомнить его лицо в последний раз и навек не было возможности – и не только потому, что плотной стеной разделяли их люди, но потому, что эти люди знали, сколько в каждом из них занимал места Караваев, и совсем никто не знал, было ли место для них в живом сердце Караваева, и было ли оно и для этого светловолосого с монгольским овалом лица парня.
Перед Михаилом предстал стволовой Загребин с черной повязкой на рукаве. Лицо Загребина было горестно-озабоченным, с печатью большой его необходимости и в этой обстановке. Михаил, вытянув шею, стал глядеть через плечо Загребина, но уже лица покойного не видел, а только одну руку, вытянутую вдоль туловища. Пригнув голову, он стал выбираться из толпы и все прятал лицо от людей, а сердце жгло – оно не в крови, а в сухом жару купалось и просило слез, которых у Михаила не было...
Загребин легонько толкнул Михаила под бок. Михаил медленно открыл глаза.
– Чего тебе?
Загребин зевнул, прикрывая рот рукавицей.
– Ты всего лет двадцать на шахте-то? А я, Михаил Семенович, сорок лет в родном коллективе. Сорок лет – это тебе не двадцать.
– Я шахтер, а ты от этого дела всегда держался подальше, – нехотя отозвался Михаил.
– Вот тут ты ошибаешься и заблуждаешься конкретно, – подхватил Загребин. – Вроде бы все и по-твоему, а на деле не так. Я всегда дух шахты держал, а это потяжелее рудстойки. В клубе чего сделать, на собрании выступить – кому-то надо. Его, слово-то, бывало, ищешь – мозги выворачиваются. Тут тебе не кайлом уголь ломить.
– Правда, что дух... – буркнул Михаил. – Ну а зачем мне-то ты это говоришь? Чего добиваешься?
– Уважения!.. Уважения я хочу.
– Хочешь... А сам-то ты уважал когда людей? – без интереса спросил Михаил, думая о том, что Валентина теперь, вскинувшись после первого сна, наверное, с тревогой вглядывается из темной веранды в кипящую от ливня и листвы улицу. И нетерпение охватило в эту же минуту оказаться дома, но просто сказать – оказаться: на-гора еще подняться, да аккумулятор-спецовку сдать, да баня, да два километра поперек города шлепать...
Михаил с какой-то особенной чуткостью прислушался к своему дыханию, к жизни своего тела: «Уж не случилось ли со мной какой-нибудь темной, непонятной болезни? Теперь они, болезни, какие-то все новые появляются. Может, притаилась она, болезнь, как тигрица». И вроде бы со стороны, чужими глазами поглядел на себя и как-то внезапно и четко увидел себя, почувствовал в неприятном, мерзком, нелепом состоянии и теперь спешно стремился вернуться к обычному себе, и тяжело ему было это сделать, как будто вынырнуть из-под неизвестной тебе толщи воды: рывок, а воздуха – жизни все нет, и сердце вот-вот разорвет изнутри тело.
«Ишь ты, мне и совсем тепло стало. Даже жарко что-то… И хорошо, что водой пылит в лицо...»
Он откинул голову на бетонную крепь, руки разметал,
– Слышь, ты! Ты чего это, а?
Загребин осторожно тряс Михаила за плечо. Михаил приоткрыл веки, а над ним глаза испуганные и вопрошающие.
– Ну, что? Что с тобой, парень?
– Ничего, так. – Михаил выпрямился. – Так.
– Вижу – так. Э-эх!
Загребин, шурша плащом, заспешил к телефону.
– Дежурный! Диспетчер! – кричал он, и эхо разносилось под бетонным сводом крепи. – Да! Стволовой! Больного срочно поднять!.. Нет, не травмированный. Захворал. Свешнев, Свешнев! – Загребин бросил трубку, стал поднимать Михаила под мышки, как ребенка.
– Да ты что? – Михаил твердо поднялся сам. – Чего ты панику?..
– Ладно. – Загребин не отпустил его, вел к клети. – Сам он! Сердце... Ну, вижу... Эх вы, молодежь! – быстро говорил мягким, совсем не загребинским голосом и заглядывал в лицо. – Лытков! – рявкнул неожиданно властно. – Открывай клеть!
Лытков заспешил, но не получалось у него с замком.
– Ты это, Миша?! – удивился он. – Застудил парня, а теперь орешь – открывай! – зашумел на Загребина.
– Ну ты, потише, восемь сигналов дашь, понял? Сопровождать буду. Без грохота чтоб, тихо!
– Да знаю, – отмахнулся Лытков и, задирая голову вослед тихо уходящей клети, кричал Загребину: – Придерживай Мишку! – И исчезла в глубине его по-жучиному черная фигурка, а голос тонким эхом подрожал и замер.
«Пушкина он видел живого...» – улыбнулся Михаил.
Он высвободился от опеки Загребина, и тот стоял напротив, привалившись к стенке клети, осторожно следил за Михаилом, а Михаил чувствовал себя вполне здоровым, только сердце что-то мешало слегка, будто кто осторожно прикоснулся пальцем и не отнимал.
– Ну, отошел? – поймав улыбку Михаила, обрадовался Загребин. – А то побелел как молоко. Смены ночные твоему сердцу не положены, бросай шахту, знаю, что говорю...
Непривычно медленно поднималась клеть: подъем больного – самая тихая скорость. Взрывников со взрывчаткой побыстрей поднимают – на шесть сигналов, а уж шахтеров – на четыре; с грохотом клеть мчится, будто не машина ее тянет вверх, а снизу какая-то сила выталкивает, как снаряд из пушки. Михаил за свою жизнь третий раз поднимался так медленно: на втором году работы ему сломало ногу, потом лет через пять породой чиркнуло по плечу, прорубило до костей мышцы, и тогда в клети он лежал на носилках и видел только сводчатое ее покрытие да дно. А теперь, направив луч аккумулятора на сверкающий от воды бетон ствола, с каким-то жадным любопытством всматривался в серый монолит, проточенный до змеистых руслин и раковин водой, ветром и временем, в следы опалубки, в проступавшие кое-где какие-то знаки, похожие на римские цифры, и вдруг четко – дата: «1928 год» и оттиск крупной руки с запястьем. Михаила будто ожгло. «Стой!» – хотелось крикнуть. Казалось, не отпечаток, а сама живая рука уплывала в темь, шевелилась, пытаясь взмахнуть на прощание. Михаил было сдернул с каски светильник, чтоб просветить ловчей, но Загребин резко потянул за рукав.
– Срежет же, как бритвой! – показал на шею. – Чего там интересного?
Правда, чего? «Как же вот так-то всю жизнь?» – вычеканился вопрос, будто тот оттиск на бетоне. Почему-то вопрос и след руки увязывались в одно целое. Что они за люди, шахтеры, кто он сам, Михаил? Неужто особенного устройства тела и души, коль не чувствуют себя обделенными, раз их жизнь, если отбросить сон, большей частью проходит там, где никогда не ударит в глаза свет, пусть хоть пасмурного дня, свет, с которым в глазах родился человек и только со смертью его должен утратить? Кто первым додумался проторить дорогу в тартарары? Может, тому человеку жить наравне со всеми на земле было тошно? В небо, должно быть, взлететь был не в силах и в чрево земли полез. Зло ли несусветное вгоняло его в землю, силушка ли добрая, смекалистая ли забота на века вперед? А может, взял кто-то и пошутил нехорошо: создам, дескать, ад, вынесу оттуда черный горючий осколок солнца, а люди, глупышки, века во тьме тесной будут лазить, эти жаркие осколки выискивать! Вон тот, что рукой бетон продавил: из-за молодого озорства ли это или из-за того, чтобы оставить хоть эдак память о себе? Где он теперь? Может, еще живет, здравствует и, утомившись от дел, в саду-огороде посиживает на завитой хмелем веранде, задумавшись, ловит закатные лучи загрубелым лицом, и слышится ему далекий-далекий подземный гул машин, хрусткий треск угля, вспоминается рискованный азарт молодости, когда душа и тело были налиты безумной отвагой: я тебя или ты меня! Накось, выкуси, давильня гремучая-сыпучая! Уголь мой! Взял я его, вырвал у тебя, а ты не сердись, что пустую тебя оставил, обрушивайся, ложись на мои следы, хорони их на сколько хочешь миллионов лет. Следы хорони, да не меня... А может, он лежит, тот, оставивший след руки на бетоне, на старом кладбище, на глубине двух метров?.. Ну что ж, кто бы ни выпечатал, а судьба одна: вся жизнь в земле, а смерть настигнет – как же землю минуешь?..
Клеть плавно поднималась и время от времени мелко подрагивала, будто не канат дрожал, а очень уставшая рука.
Михаил вышел из клети, навалившись на вагонетку спиной, запрокинув голову вверх, глядел в темный проем копра, куда уходили канаты, слушал, как гудит в толстых спицах колес ветер. «Ну вот, точно, – тайфун». Почувствовал опять, как слабость окатывает тело, разымает грудь «Да, в непогоду... Верно, что сердчишко...»
Белый халат влетел в околоствольное помещение, заметался меж людей. Это медсестра Таня.
– Где больной? Кто?
Глаза припухшие, заполошные. Видно, приняла сигнал сонная да сразу молодого сна не одолела. Сумка расстегнута, и халат без опояски тоже расстегнут, воздушной струей его распахивает, ноги крепкие, белые оголяет по короткую рубашонку.
«Ну, курица», – качнул головой Михаил.
– Нету больных, иди досыпай, – сказал, и тут-то Таня остановилась, нацелилась тревожными глазами в его лицо,
– Нету, говоришь? А это мы сейчас выясним... – Вцепилась в запястье – пульс щупать. – А! – как-то по-птичьи гортанно воскликнула. – Ну, мужичье! Пошли-ка на лавку. Пойдем, пойдем, – тянула за руку настойчиво. Рукав задирать начала, шприц готовить.
– Да брось ты! Выдумала, – нерешительно сопротивлялся Михаил.
– Я выдумаю, я выдумаю, – грозила Таня, натирая ватой руку. – Ишь!
– Ну, что с ним? – появился дежурный по шахте Соловков, худой, тонконогий, того и гляди рассыплется: на жилистой шее – граненый кадык, думалось, что вот-вот тонкую кожу прорежет.
– «Скорую» надо?
– Нет, ему спать надо. – Таня застегнула сумку. – Ночные же... Переутомление. – И застрожилась: – В больницу сходи. Обследуйся. Не сходишь – проверю!
Соловков пошарил взглядом по приствольному помещению, отыскивая Загребина.
– А ты чего два часа больного под стволом держал?
– А кто его держал? Вот же он, пусть сам скажет, у него спроси.
– Опоздал почему?
– Так. Притомился что-то.
– Позвонить надо было. А то табельщица тарабанит: Свешнев не выехал. А мне что думать? Людей хотел посылать – мало ли что?
– Комбайн заваливает, отогнал пока...
– В пятой лаве?
– Да, там. Кровлю пора «садить»...
– Ну ладно, сверху, говорят, виднее... – Поднялся и переключил неприятный для себя разговор: – Тебя, может, на автобусе домой?
– Да ну! – запротестовал Михаил. – Помоюсь и потопаю…
3
Кранов-смесителей в бане прежде не было – какую воду пустит слесарь-банщик, той и полощись. Бывало, пустит кипяток или вовсе ледяную воду, и тогда пляшут голые грешники вокруг «дырчатой тучки», крякают морковно-красные или посиневшие, как куриные пупки. По трубам лупят железками, припасенными на такой случай, рук в сорок – ад, содом! А слесарек в бойлерной за десятью стенами слышит, да не торопится. Крутанет вентиль, душа щедрая, а звон не унимается, тогда он вентиль в другую сторону: баньтесь! И поковыляет, благодушный, поглядеть на подопечных. Тут его – цап! И давай в одежде той водой, которую сам на свою разнесчастную голову пустил. Не часто такое бывало, а все же бывало.
Михаил тоже сегодня мылся перегретой водой. Видно, спит слесарь, да чего спрашивать в такой час, когда все живое на земле безответно и беспомощно. Михаил старался не подставлять левую сторону груди под струю и все равно почувствовал неприятные толчки сердца, будто от горячего оно разбухало, а ребра не давали простору. Одевшись, он вышел в общешахтовую нарядную, похожую на кинозал, и уже направился было к выходу, как кто-то его окликнул. Вскинул взгляд и в затенье угла увидел Загребина.
– Погоди. Погоди, Михаил Семенович…
– Ну, чего?
Тот подался вперед, глядел просяще.
– Тоскливо, спасу нет, как тоскливо, Миша, – промолвил и обмяк.
«Что я, его развлекать должен? Не ночь, а кошмар какой-то: застрял в ней, как муха в липучей вате».
– Чего домой-то не идешь? – спросил раздраженно.
– Домо-ой!.. Ой-ейе-й, Миша, дома-то... Сын из тюрьмы пришел. Вот, говорит, отец, я – принимай! Куда денешься, примешь – сын же. А не примешь, так... он у меня такой. А теперь – день спит, ночь болтается. Работать – ни в какую…
Загребин приумолк, ладошками потер глаза.
– А нынче денег вымогал, – продолжал плаксиво. – Нож к горлу подставлял. Вырвался – да на шахту. Куда мне еще?..
– В милицию обратись, – посоветовал без особой охоты Михаил. – Прижмут.
– Да уж писал, посадили чтоб снова. Преступление, говорят, не совершил – не можем посадить. Ну вот, совершит, придушит, сади его тогда...
– Ты бы где лег на диван. Чего на деревяшке? – сказал, чтоб не обидеть человека невниманием.
– Да ты сядь, посиди со мной... – вцепился в него Загребин.
«Нет, он меня сегодня прикончит! – вовсе изнемог Михаил. – Нашел духовника!..» – И поспешно вышел на волю. Ветер хватанул, туго толкал то в спину, то в грудь – крутил в тесноте пришахтового двора.
Шахтовый парк гудом гудел. Вершина пирамидального тополя прохлестнула забор, как топором, метрах в двух от легкого дощатого буфета. Угоди по этому балагану, набитому посудой, было бы звону! Вершину уже спилили – мешала, должно, проезду. Асфальт был засорен мелкими ветками, а листву несло в свете фонарей, но до земли ее не допускало, разносило неизвестно куда.
Михаил миновал парк, к гудению и свистящему шуму которого примешивалось «ви-и-и-и-кр-р-ры... в-и-и-кры-ры...... Два автобуса въезжали на шахту, везли ремонтную смену, и двигателей не было слышно, будто машины катило ветром. Свет от фонарей заполошно метался, добавляя беспорядок в свистопляску ветра.
Было четверть четвертого. Михаил поднялся на асфальтированную насыпь, разделявшую на две части Богатый поселок, где слева у озера Мочалы угадывался во тьме домишко Азоркина. «Ми-ш-ша, Ми-ш-ша», – шумело сверху и снизу.
– Миша!..
В хилом отсвете далекого фонаря по насыпи взметнулась легкая, быстрая тень женщины, в которой он узнал Раису Азоркину.
– Испугался?.. – Раиса подхватила под руку, искусственно смеясь и дурачась, обдав незнакомым дразнящим запахом волос.
– Испугаешься... – Михаил и сам деланно посмеялся, отстраняясь от Раисы, с опаской ожидая от нее расспросов о, муже. – Как сама-то не побоялась? А вдруг чужой?
– Не чужой. Я тебя и ночью из тыщи узнаю. С лавочки во-он где тебя увидела. Ты же что медведь ходишь. Миша-медведь. Что так поздно сегодня?
– Да так получилось. И твой скоро... – начал было и не смог выдавить из себя неправды.
– Ладно, не мучайся за всяких... – поняла его состояние Раиса. – Я, может, и не его, а тебя жду...
– Вот красота-то! – отшутился Михаил. – Везде ждут: и тут и дома! Беги домой, того гляди ливень врежет.
– Может, тебя проводить? Ты какой-то сегодня...
– Вот выдумала! Иди. А то будем провожаться: ты меня, а потом я тебя – до рассвета.
– Хорошо бы... – едва слышно промолвила Раиса.
– Иди!.. – почти приказал и, пересиливая ветер, зашагал. «Бес их разберет, семейку эту», – встревожился все же.
Окна домов темнели, но спали или нет люди? Должно быть, детям и молодежи такая буря не помеха, а подмога во сне, но пожилые люди и старики, если спят, то непрочно, тяжело, а многие и вовсе не спят. Наверное, такая погода отнимала силы и у него, Михаила.
Ветер ломился не вдоль долины, а через сопки, с моря. Где-то громыхал оторванный лист крыши, по-кошачьи, вразноголосицу орали провода; метрах в десяти впереди Михаила грохнулся об асфальт шиферный лист и рассыпался, оставив после себя два небольших куска. Вдоль улицы и из переулков несло листву, ветки, песок, замутняя редкие непотухшие фонари. Где-то в подъезде сухо, с треском бухала дверь, мелодично рассыпалось стекло. Вблизи и в дальней перспективе города то зажигались, то тухли огни в окнах. Острый вой сирены пронзил неразбериху шумов за ближними домами, и тут перед Михаилом пронеслись две машины: милицейская и «Скорая помощь».
В распадке было относительно тише: здесь ветер кружил, будто пойманный, бился о склоны сопок, гудел, слабея, в садах и постройках. Идти было хоть и на подъем, но легче. Дом Михаила метрах в трехстах от устья распадка, и он шел медленно, экономя силы, ибо в ногах была слабость и дрожь, а тело липко холодело потом. Пригнувшись, одолел взлобок дороги перед калиткой, сделал последний десяток шагов до веранды и плюхнулся на ступень крыльца. Тотчас вспыхнул на веранде свет, выказал кусты сирени, огромную тень, метнувшуюся по ним, скрипнула дверь. Жена – босая, в ночной рубашке – сбежала к нему, под руку подхватила, приятно задевая лицо распущенными волосами.
– Миша, ну что?.. Господи, ну можно разве?..
Влекла по ступеням, сильная, горячая, обдавая родным запахом, тревожно заглядывая в лицо.
«Да что они сегодня все?» Он освободился от Валентины. Та обиженно пропустила его на веранду. Михаил, чтоб не выказать слабости, сел не спеша за стол.
– Чего всполошилась-то? Спала бы...
– А время-то, погляди, четыре. И идешь шатаешься. Не вижу, что ли...
Михаил опустил лицо к столешнице:
– Задержались малость в лаве...
Валентина метнулась за тарелкой, но Михаил попросил молока, жадно напился.
– Задержались... – Она сидела, подавшись к нему через стол, сжалась как-то вся и не верила его словам. – А мне что думать? Олега подняла, к соседям пошли звонить, а там провода порвало бурей. Что неправду-то говоришь? – Ресницы Валентины набухли влагой. Капли скатились на круглые щеки, задержались малость и, наполняясь, сорвались – Тяжело тебе, одиноко? – спросила неожиданно.
– Спать надо, – глухо сказал Михаил, жалея жену. Поднялся, ладонями тронул ее щеки – тихо, чтоб не оцарапать застекленевшими шипами мозолей. Валентина прижалась.
– Порежешься. – А в руки будто текла сила, плечи наливались и сам весь. «Не одинок, – хотел сказать. – Хорошо». Но не сказал, солгать не посмел: в чем-то есть одинокость. «В чем же, в чем?» И не мог додуматься, в себе заметить ее не мог – жена разгадала.
«Гу-гу-го-ву-у, шо-овх-х, ха-ха-а» – на разные голоса изощрялся ветер на чердаке, терся о стены, продирался через корявые ветки сада. Кусты сирени метались из стороны в сторону, резко выпрямлялись и опять стлались к земле, вроде как убегали, увертывались от преследователя, старались скрыться во тьму, но так и топтались на грани света и тьмы. Где-то корабли тонут, где-то ливни хлещут, выгоняя реки из берегов, снося во тьме теплые жилища... Вот, вот, в природе кавардак, а от этого вдвойне покоя нет. Слезы-то беспричинные бывают ли? Михаил уткнул лицо в волосы Валентины, пушистые, теплые. Та руки убрала, поднялась, к его груди прижалась на минутку.
– Сколько живем вместе и все годы не расставались, а мне кажется, что я тебя все жду и жду. Вот где-то близко – подойдешь, подъедешь. Как я жду тебя, Мишенька!
– Ну, выдумываешь! – Возразил ласково, но верил ей, сам такое чувствовал. – Ночь без сна – чего в голову не придет.
– Чего там ночь? Все равно ведь тебе: что я, что Азоркин с Колыбаевым... Душу ты широко распахнул... Всех не обогреешь, сам замерзнешь...
Капли хлестнули по стеклу, будто кто крупный песок швырнул, а потом стал кидать чаще и звучней.
– Пошли, пошли спать, – спохватилась Валентина.
Михаил уснул мгновенно, потому что тело и мозг уже больше не могли без сна, и остался за пределами его жизни весь мир на какие-нибудь три часа. Он не знал и не слышал, как с небес, подсекаемая ветром, пластами падала вода, как на дне распадка завозился, упруго утолщаясь, ручей, а потом еще подпух, надулся и, подминая под себя кустарник, взъерошившись вырванными корнями ильмов и черемух, кинулся в долину, на город; как в саду разорвало вдоль ствола яблоню, посаженную дедом Андреем еще задолго до появления Михаила на свет, как за огородами, в лесу, Ель с Изгибом По-Лебяжьи лишилась вершины, выставив в небо острые отщепы...
Михаил проснулся от тишины и солнца.
– Мама, где резиновые сапоги? – услышал ломавшийся на басок голос старшего сына Олега, потом глухое потаптывание на чердаке.
«Сапоги в сарае, а он – на чердак...»
Легко подскочил с постели. Тела будто не было – так легко. «Что же вчера-то гнуло-давило?» – удивился, будто не с ним случилась внезапная морока.
Он заглянул в детскую. Младший, Сережка, спал, подложив ручонки под щеку, так что пухлый ротик чуть сместился в сторону, головку запрокинул, точно петушок перед песней, в личико сына туго бил свет, и оно, смуглое от загара, похоже было на чернослив, подернутый белесым пушком; длинные ресницы мальчика трепетали, подрагивали: видно, яркий свет разрушал его сон.
Михаил задвинул на окне штору и, склонившись, стал поправлять одеяло. Сережка выпростал руки из-под щеки, по лицу его пробежала тень, должно быть, выспавшийся мозг готовился проснуться, бровки стали подниматься и опускаться, как крылышки у бабочки: подвигались-подвигались и замерли. «Ишь ты!» – почему-то обрадовался Михаил. Хотелось, чтоб Сережка проснулся, чтобы он смог пощекотать сына легонько, подергать за ухо, вызывая на игру. Со стороны поглядеть – Михаил сам был похож в эту минуту на десятилетнего ровесника Сережки: лицо расплылось в проказливой улыбке, вот сейчас щипнет Сережку и спрячется под койку, выждет минуту и закукует или замяукает там. Да если бы такого не бывало! Схватит Сережку или Олега, когда тот был поменьше, и давай целовать-зацеловывать. Прижмет к себе, нечаянно больно сделает: руки-то дубовые! «Ну, папа», – обидятся, укорят. А Олега и теперь часто задирает: «Давай бороться!» – «Да не хочу, – отнекивается тот солидно. – Что пристаешь, как маленький?» Пятнадцать парню, самолюбия хоть отбавляй, не терпит, когда отец поддается, а сладить – жидок еще, что хворостинка ивовая. Ну, сгребутся! Сережка – в ту же кучу. Игра, говорят, не доводит до добра: или нос отцу раскорябают, или вгорячах кому бока намнут – до рева-крика! «Чего ногтями-то?» – искренне обидится Михаил. «А ты не лезь! Сам лезет, а потом...» – отстаивают сыновья свою правоту, а глазенки Виноватые, сочувствующие. С двух сторон обнимут: «Папочка наш миленький!» – «Ах вы подхалимы!» – вскинется притворно, а дети с хохотом на него. А если кто из сыновей слезу пустит, тут уж Михаил засмущается, распустит заискивающую, неловкую улыбку. «Ну, нечаянно же», – оправдывается виноватым голосом. «Ага, а если тебе так?» – помаленьку-потихоньку дойдут до примирения. Чаще, конечно, подобру заканчивается, неизменной «победой» сыновей: «Ты не поддавайся, хитрый!» На полу распластают отца. То-то радости!
Дела разные тоже вместе соображают, что да как. Дом обшивали дощечками от ящиков из-под шахтной взрывчатки, так два дня обсуждали, каким узором делать: рисовал каждый свой узор, вроде конкурса устроили, Валентина и та ввязалась, разглядывала-разглядывала картинки, махнула рукой:
– Делал бы сам-то. Чего играться!
Посудили-порядили, пришли к согласию: обшивать по Сережкиному рисунку. Сложно, правда: в центре каждой стены по солнышку нужно выводить, а от солнышек – лучи, поле в елочку. Две недели, как дятлы, обстукивали стены. И дивно получилось! Солнышки и лучи выкрасили в красный цвет, а поле в синий. С сопки ли глянешь на дом Свешневых, с улицы ли – все синеет через сад клок неба, а на нем незакатное солнце.
Михаил к детям относился как к равным себе: то сам уподобится их возрасту, то до себя, зрелого, поднять норовит. И получалось у него такое без натуги, просто: как сам жил, так и воспитывал, будто бы и не занимаясь воспитанием. Дети входили в его душу, как в родной дом, где им все известно и нет никаких загадок: известно, где что лежит необходимое для жизни, что можно трогать, что нельзя, где угол теплей, где холодней, где светлей, где скрытый в полумгле. Жена ревновала его к детям:
– Для них ты день ясный, а для меня вечно в сумерках; вижу и не вижу тебя.
– Почему не видишь-то? – спрашивал. – Что мне таиться от тебя?
– Наверное, есть причина, – сомневалась она. – Ты у меня чуткий, сердцем больше живешь, чем умом, – продолжала Валентина раздумчиво. – А где сердце, там и боль. Ее, эту боль, высказать надо, а из тебя слово клещами вытянуть не могу. Кому-нибудь высказал бы, остудил сердце… А мне нет.
Подобные разговоры сопровождали жизнь Свешневых регулярно, как времена года. И кто от этого больше мучился, было неизвестно, только Михаил с годами все чаще стал подумывать: «Да что это в самом деле! Бьет и бьет в одну точку. Уж не мучится ли она сама тем, что мне приписывает?..»
Сергей спал сном неглубоким, когда сон уже дал сердцу полный отдых, очистил, обновил кровь и теперь еще держался в организме, путал, размывал тело и мозг негой и ленью. «Нет, парень, подыматься надо. Лишний сон жизнь укорачивает».
Михаил постоял еще немного и отдернул штору. Солнце хлынуло в окно через обтрепанную, прореженную бурей мокрую листву, где каждый лист, будто зеленое зеркальце, выпускал из себя лучик. Сергей засопел и стал тереть кулаками глаза.
– Вставай, сын, дела ждут. Слив теперь натрясло, чтоб все собрал, а то солнце попечет, пропадут.
Сергей легко спрыгнул с кровати в сандалии и, сонно щурясь и пошатываясь, заспешил во двор. Михаил увидел, как острыми плашками двигались его лопатки, позвонки выпирали цепочкой. Можно подумать, что заморили мальчишку голодом и работой, – до того избегался по загородным сопкам, изросся.
На веранде, недовольно сопя, завтракал Олег. Ноги босые, мосластые – не нашел сапоги, сидел босой.
– Куда посылают-то? – пересиливая жаркий шум-трескотню, спрашивала из кухни-отгородки Валентина.
– В совхоз, – басил Олег. – На картошку.
– Очумели! – Валентина высунула из кухни раскрасневшееся у печи лицо. – Там теперь в грязище утонешь, после ливня-то. Посылают их! Ни работы, ни учебы...
– А я при чем?
Олег поднял от тарелки лицо. По верхней губе – будто угольной пылью присыпано – усики пробиваются. И голос удивил Михаила. Олег все пищал по-девчоночьи, а тут прорвался, взошел басок, совсем хрупкий, неустоявшийся, и Олегу еще нужны усилия, чтоб держать говор на низкой ноте. Ему сейчас во всем нужно тужиться: и чтоб не выдать «петуха», и на бег не сорваться, когда так и подмывает вприпрыжку под горку скатиться в город, и не зачастить словами, не рассмеяться невзначай по-детски. Мужик ведь, как же! Кости выпирают, мышцы впродоль тянутся, тесно им в тонкой до прозрачности коже, и тесно, по сути дела, пацану-мальчонке, который живет в Олеге-юноше и будет жить еще долго-долго, может быть, до конца жизни, но именно теперь этому пацану-мальчонке, как никогда, трудно уживаться в Олеге-юноше, ибо душит, ломает, вытравливает его из себя Олег – в спешке, стремясь к заманчивым тайнам взрослой жизни, а он, мальчонка, не отвязывается никак, все поглядывает да подслушивает: то в робость вгоняет, то в стыдливость; ему еще и пряника сладкого хочется, и маминой ласки... Нет, нет, скорей отбиваться от детства, чтобы воля в плечах и в помыслах, чтобы не тебя за руку вели, а ты сам вел. Так вот зовуща она, взрослая жизнь, когда неведома ее тяжкая сторона ответственности, забот и страданий. Позже, когда увидится закат, тогда зайдется усталое сердце в неизъяснимой грусти о невозвратности утренней зорьки своей.
Все знает Михаил о сыне, да почти ничего не знает сын об отце. Поэтому и любовь их друг к другу разными дорожками шагает, и лишь через много лет, когда покажет жизнь просторы и красоты до болючего восторга в душе, когда сын своих детей заимеет да вырастит, – вот тогда-то и сойдутся воедино эти дорожки любви, потому что сердце сына наполнится знанием и мудростью.
– Возьми сапоги в сарае, там же портянки на гвозде.
– Ладно, – кивнул Олег. Еще что-то буркнул невнятное, пригнувшись под притолокой, вышел с веранды и, сутулясь, неуклюже выворачивая пятки, направился в сарай.
«За слова вроде деньги платит, – подумал Михаил. – Отлетит угрюмость, подожди, переломишься к слову – время и жизнь поставят на место, тебе отведенное: наговоришься и намолчишься в меру, а пока поиграй во взрослого – играть тебе еще положено».
Сам присел у стола и нарочно в окно не глядел, чувствуя всем телом, что там, за окном, в природе что-то произошло обратное тому, что было ночью. А ночь... Михаилу и вспоминать про нее не хотелось. Все было как в дурном сне: тяжелый разговор с Азоркиным, и какая-то внезапная хворь, вдруг навалившаяся мягко, но удушливо, и Загребин со своими разговорами, и начальный разбойничий разгул тайфуна, напавшего на беспомощный в своем глубоком сне город, – все будто неправдашнее.
– Чего ты поднялся? Спал-то всего ничего.