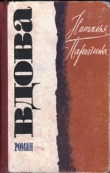Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
14
После той ночи, когда Василий Матвеевич Головкин вернулся от Ольги и разбил скрипку, он стал жить так же, как жил все годы, только с маленьким, никому не заметным, кроме жены Софьи, изменением: у него не стало того заветного полночного часа, когда он брал инструмент в руки и оживлял свой хилый, едва теплящийся дух.
От разбитой скрипки Софья собрала все до последней щепочки, и уже месяца через два она, склеенная каким-то местным мастером, висела на прежнем месте.
Водворив скрипку на место, Софья все вечера до глубокой ночи не ложилась спать, она сидела на кухне, поставив ноги на поперечину табуретки, ждала. Несколько раз она заполошно вскидывалась, приняв за знакомые звуки скрипки визг тормозов автомашины, и опять замирала по-птичьи, обратившись вся в слух. Потом она ложилась в постель, но не могла уснуть. И тихо плакала или, не сдержав боли в сердце, срывалась на придушенные рыдания: «Господи! За какую вину мне жизнь такая!..»
Так прошел январь. А в феврале потеплело, солнце согревало подоконник. Василий Матвеевич, отлежав бока, приподнимался с дивана; сначала сидел, ждал, когда отроятся, откружатся в глазах оранжевые мухи, а потом, словно пробуя прочность пола, делал ногой первый шаг, второй, так, коротко переступая, шел, как босой по острым камням, добирался до окна и опускался расплывисто на стул.
Нет, это только казалось, что Василий Матвеевич не жил все свои годы, а существовал. Жил, только у него была своя, отдельная от других жизнь, выстроенная им самим, трогать которую, изменять в ней что-либо было бы так же губительно, как, например, выкапывать и выправлять на свой лад корни дерева.
Василий Матвеевич пытался удержаться без движения на самой быстрине. Да куда там! Чем дольше он держался, тем резче, как ему казалось, срывало его с места, кувыркало, било о камни – спасения нет.
Уже несколько дней он не ходил на работу. Его напарник, пенсионер Коротеев, целый месяц ободрял Василия Матвеевича, терпеливо поучал:
– Помучишься – научишься. В тело легкость придет, а в руки – сноровка.
Прошел месяц и другой, но ни сноровка, ни легкость к Василию Матвеевичу не приходили. Наоборот, руки делались как веревочные, не могли держать инструмент: налегал на ключ, а гайка ни с места, кайлом ударял в породу, будто голубь носом долбил по крошке. И главное, донимала одна мысль: «Зачем мне землю долбить? Зачем я ее долблю?»
И однажды Коротеев не выдержал, отшвырнул в сердцах кувалду, встал – руки фертом, маленький, широкий, будто обточенный пенек-смоляк.
– Да что же это ты, Василий Матвеевич! Ни украсть, ни покараулить! Я же с тобой тут, кроме грыжи, ничего не заработаю. Ты же мужик здоровый, а ни рукой, ни плечом. Ну? Да кто ж тебя растил-воспитывал? – отчитывал Коротеев, забыв, что перед ним не первогодок-лоботряс, а почтенных лет человек.
– Я уйду... – говорил Василий Матвеевич стыдливо и жалко.
– «Уйду». Куда ж ты уйдешь? Работа у нас не тяжелая, чего тут, – отступал Коротеев. – Ты работать не желаешь. А ты переломи себя, вызови охотку, а то ведь любой труд покажется каторжным. Как же без работы жить?
Но Василий Матвеевич все-таки ушел. Он только немало удивился сам себе: как не додумался до этого раньше? Ведь он же свободен и волен поступать по своему усмотрению. И даже заявление не подал на расчет. «Пускай сами увольняют по любой статье, мне все равно».
Утром в подъемный час млел в постели, как бог на летних тучках. Вошла Софья.
– Врача не надо ли, Вася?
– Нет. – И долго поглядел на нее, выжидающую. «Глаза-то умирают!» – испугалась Софья, едва не вскрикнув. И чтобы на будущее не иметь с женой объяснений, он сказал все сразу: – Врача не надо... – Подумал и добавил: – С шахтой покончено... и вообще со всем этим, – завершил брезгливо.
– Вот и хорошо. И отдыхай, наработался, – подхватила Софья. – Я работаю, деньги есть. Много ли нам надо? Еще как проживем! Нужна она тебе, шахта.
Софья засмеялась насильственным, дрожащим смехом, стараясь не встречаться глазами с мужем.
Первые дни Василий Матвеевич лежал даже в удовольствие, но усталость не проходила, напротив, казалось, еще больше накапливалась в теле.
Однако это нисколько не угнетало его теперь. «Вот так бы и умереть. Глаза закрыть и уснуть...»
Он и вправду не открывал глаза часами, но не спал. Не было никаких чувств, кроме приятной истомы от неподвижности да еще обиды. Обида была какая-то услаждающая, от которой не хотелось отказываться, – обида на Ксению, на Комарова, на Ольгу и даже на Азоркина и еще на что-то большое и неопределенное – на всю окружавшую его жизнь. Хотелось, чтобы все-все его обидчики стояли сейчас около его постели, виноватые и прячущие от него глаза. «Ну что, довольны?» – спрашивал мысленно всех их, провинившихся перед ним.
Но, пожалуй, самую большую обиду затаил на своих, уже покойных, родителей. «Они, они загубили мою жизнь!»
Перед глазами Василия Матвеевича возникала мать в белоснежной блузке, с руками цвета неспелой арбузной мякоти. «Ах, как ты опустился, Василий!» Василий Матвеевич протестующе мычал, и злые слезы мутными ртутинками скатывались по его щекам. Но видения не оставляли его. Вместо матери появлялась Ксения. Жутко подумать – за двадцать семь лет только дважды встретился с нею, и то нечаянно. В первый раз, когда еще в общежитии жил. Вышел из дверей – и вот она! Идет в тонком пальто бежевого цвета. Полными точеными ногами сверкает; ветерок перебирает рассыпанную по спине чернь волос, оголяет сбоку молочную нежность шеи. За руку Ксения вела девчушку лет четырех. Свет померк в глазах Василия Матвеевича. Слышал, что она замужем за главным инженером шахты «Восточная», сыном Караваева. Да все представлялось почему-то: распахнет однажды Ксения его дверь, скажет повинно: «Вася, я пришла». Ну, вот и увидел. На девчонку уставился, а Ксения, поняв его, дорубила окончательно:
– Еще старший сын у меня. Ну, а ты-то как? Надо же? Рядом живем, а не встречались!.. В общежитии, что ли? – удивилась. – Как же это, Вася? Столько лет, и ты один. Неужто?... – замялась она, и Василий Матвеевич досказал мысленно: «...на мне свет клином сошелся». Но не впустую же в нем сидел бес гордыни: и дыхание выровнял этот бес хозяину, и лицу придал печальную отрешенность:
– Да вот, один. Такая уж судьба, за десятерых на одного навалила.
– Музыку сочиняешь?
– Приходится, – скромно потупил глаза – Про все забыл...
– И меня?
– И тебя, – подсказал бес, и Василий Матвеевич чуть не заплакал из-за собственной гордости. – А вообще... ждал.
– Ждал?! Что ж мне, самой было к тебе идти? Я ведь... Эх, ты! – Дернула за руку дочку так, что та заперебирала ножонками, не поспевая за матерью.
И не нужна была ему вторая встреча, случившаяся недавно, месяц назад, ой, как не нужна!
Возвращался он с шахты, тянул ноги, засунув руки в широкие карманы пальто. Шел домой не через поселок, как делал обычно, а улицей, где была сберкасса: хотел зайти. Только ступил во двор – прямо перед ним с разбегу прикипела к асфальту вишневая «Волга». Ксения легко вышла из машины.
– Василий Матвеевич!.. – И как она его узнала? Он было метнулся в боковую аллейку. – Вася! – Она уже стояла перед ним, и он стал сдвигать шляпу. Ксения не сдержалась: – Да что с тобой? Болеешь?.. Я слышала о вашем несчастье на шахте. Ты что – в забое?
– На перекрепке.
Из «Волги» нетерпеливо засигналили.
– Подожди, – махнула рукой. – Ну, а Комаров-то не мог в конструкторском или в маркшейдерском отделе дела тебе найти? Ну, рыжий дьявол, я ему позвоню! – грозила Комарову, тянула Василия Матвеевича за рукав к машине, но он упирался, и было в этой сцене что-то унизительное для них обоих.
– Отстань! – наконец вырвал рукав потрепанного пальто. – Ехала и езжай, чего я тебе?..
Он стал продираться через живую ильмовую ограду. Из узкого просвета меж кленов оглянулся на Ксению – та стояла в лаковых сапожках, в темно-синем пальто, отороченном голубой норкой по вороту и рукавам, и показалась Василию Матвеевичу неизменно молодой и красивой, только и всего, что стала подородней. И еще ему почудилось, вроде Ксения промокала платком глаза.
Из-за поворота ударил сквозной ветер, едва не свалив Василия Матвеевича с ног, опутал широкие брючины вокруг тонких голеней, стужей наполнил подпахи пальто.
Уже дома, в постели, он до конца осознал свой позор от встречи с Ксенией. И этот позор был более гнетущ, чем тот, когда Ольга, как скотину, вытолкнула его из своего дома: «Нашла, дуреха, себе композитора, век бы тебя не видеть!..»
По утрам Софья наказывала, где что взять поесть, и постоянно просила:
– Ты бы, Вася, на запор-то не закрывался...
Василий Матвеевич прислушивался, когда затихнут ее шаги, шел в прихожую и задвигал широкий засов. Покосившись на телефон, снимал и клал на стол трубку и, удовлетворенный, уходил в свою комнату.
На четвертый день его затворничества зазвонил звонок в прихожей. Через глазок Василий Матвеевич увидел горного мастера Гайнуллина. Тот звонил, звонил, да так и ушел ни с чем. А через день сам председатель шахткома Газовиков пожаловал. И тот звонил безуспешно.
– Василий Матвеевич, вы же дома, Софья сказывала. – Подождал, потоптался и тоже ушел несолоно хлебавши.
Вечером Василий Матвеевич предупредил жену:
– С шахты кто будет, не открывай.
– Они же тебе добра желают. Комаров сегодня мне звонил, просил, чтобы ты выходил паспорта крепления чертить. Ну, чем не работа? Как раз по тебе, – упрашивала жена, но от ее кротости и страдания у Василия Матвеевича еще больше распалялось обидчивое и злорадное упорство.
Софья вдруг, в отчаянии заломив руки, закричала дико, страшно:
– О-о! Мучи-итель! Меня-то за что?
Василий Матвеевич, придерживаясь за стенку, пятился из кухни, и в глазах его играла злая усмешка: «Забегали, заплясали. То-то же! Да не выйдет».
А через час Софья вошла к нему такая же, какой обычно и была: тихой и доброй, только веки тяжело опустились, полуприкрыв глаза, – столько было в ней терпения и усталости.
– Подымайся, Вася, мыться. Протух весь лежа.
Василий Матвеевич нехотя поплелся за женой.
– Александр Егорович зайдет... Слышишь? Комаров сказал, что на днях зайдет. – Софья настойчиво возвращала его к жизни.
Василий Матвеевич будто и не слышал ее слов, в памяти всплыло давнее, детское – как его мыла домработница, которую он боялся, она больно намыливала голову, придерживала ее под водой, чтоб он хватанул мыльной пены. «У-у, буржуй! Не ори. Скажешь матери – ухо отрежу». То-то радости было у него, когда домработница ушла «кирпичи класть».
«А что, если и эта окунет сейчас да и не отпустит...»
...Солнце уже уползало с подоконника, а Василий Матвеевич все сидел у окна, глядел перед собой. Слева шиферная крыша, справа – черные тополя клонятся вершинами под ветром, впереди, меж крышей и тополями, – желтый лоб сопки, дальше все мутно расплывается, сливаясь с серым небом. Василию Матвеевичу мнилось, что на все это он смотрит дольше, чем живет, что он давным давно ходит по одному кругу и что никогда больше ничего другого не видел и не увидит. Тешась когда-то бездеятельным созерцанием природы и самого себя, Василий Матвеевич только теперь понял, что душа его ничем с этим миром не связана, а потому и не было страха его потерять, а значит, и себя уже было не жалко.
Слабое позднее сожаление, что он так ничего в жизни и не познал, не разглядел, даже не будоражило. Только лицо Ольги вынырнуло из той почти уже не существующей для Василия Матвеевича дали, но он прошептал: «Поздно, ох, как поздно!..»
Прозрачные предзакатные сумерки наполнили комнату, такие же прозрачные и покойные, как сама душа Василия Матвеевича. Он вздрогнул: показалось, что его кто-то позвал из угла. Прислушался, но ничего больше не услышал. Прошел в спальню и вернулся с тонким шелковым шарфом...
Василий Матвеевич потерял сознание почти мгновенно, но это мгновение для него было таким большим и озаренным, которого хватило бы на целую жизнь. Сперва на сотни смычков ударило стаккато и враз вылилось в прекрасную, рожденную им музыку. Он страшно закричал (хотя в действительности не издал ни звука), но не оттого, что умирает, а оттого, что вместе с ним умирает музыка, о которой никто никогда не узнает…
15
А дни спешили бегом да скоком – к весне, к лету. На участке смонтировали и пустили в работу механизированный комплекс, и Михаил Свешнев почувствовал, как много у него освободилось сил, сделав его жизнь просторной, как мартовский день. Круговорот напряжения его мышц как бы затормозился на большой скорости. «Что за морока... Сил, чувствую, много, а слабею. Видно, мышцы жадно кинулись отдыхать...» – определил он для себя.
– В конторах смолоду сидят, а я с двенадцати лет на критическом режиме. Поздно мне было менять эти... обороты, вредно для души и тела, – жаловался Михаил Черняеву.
– А ты переведи энергию на другое, полезное для души и тела, – советовал тот полушутя.
«А он прав, черт курносый. Человек не рак, чтоб задом пятиться, – сделал вывод Михаил. – Осенью надо в техникум идти, а пока усадьбу рвом окопать, чтобы ливни почву не сносили, садом заняться».
Михаил перебрал весь сад до последней ветки и хворостинки. Сволок обрези вниз к ручью – большущая куча набралась. И сад вдруг превратился в стриженого новобранца: длинноухого, худого, с тонкими руками. Впившись корнями в каменистый холод земли, сад был еще не сама жизнь, а ее обещание.
И ударил апрель – солнцем, влагой, прозрачной синью наполнил долину от края до края. Насторожив слух, Михаил едва-едва улавливал какое-то серебряно-мелодичное разноголосье, стекавшее с высоты. Казалось, где-то в поднебесье на высочайшей ноте звенел хор, славя чудо-жизнь. Михаил замер, стоял, опершись на грабли, которыми сгребал прошлогоднюю траву.
– Слышишь? – спросил он Валентину, направляя свой слух в небо.
– Чего?
Валентина бросила копать начатую грядку, прислушалась.
– Вентиляторы на шахте зудят, – сказала она, надавливая тяжелой ногой на лопату. – Чего их слушать?
Лицо Валентины светилось розовым светом, который, казалось, исходил даже от ее одежды. В глазах плавала апрельская заволока, отражая зовущую радость ее тела – не души, потому-то одни и те же звуки они с Михаилом воспринимали по-разному.
– Азоркин к тебе приходил, – сообщила Валентина.
– Когда?
– Вечером. Хочу, говорит, с Михаилом побеседовать.
– Так это, может, он не ко мне, а к тебе заглядывал, – напомнил Михаил.
– Опять за свое! – оскорбилась Валентина, яростно отбрасывая под уклон отрезанную лопатой землю.
– Ты почву-то вниз не сбрасывай, – заметил Михаил. – А то будешь носилками вверх таскать. Чего ж это он: я – в шахту, а он – ко мне, поговорить...
Валентина не знала, что сказать, и от этого сердилась, зло ворочала землю. Она бы и совсем не сказала мужу про Азоркина, но Олег видел – утаишь, хуже будет, если выяснится.
Не видела Азоркина полгода. Знала, что он теперь один живет в своем доме. Прошлое старалась не вспоминать, так, баловство, а все же неладно было на душе. И вот – на тебе, неделю назад сошлись-повстречались. Тащила две сумки, набитые солью, сахаром да хлебом-крупой. Решила дорогу спрямить, через барачные дворы пошла. Запуталась между сараюшками, угольными ящиками, штабелями древесины. Руки замлели, поставила сумки на подвернувшуюся доску, газету подстелила и сама присела.
А весна-то! Теплынь! И вечер только-только замутил светлое лицо дня. «Зимой-то глухо, а теперь как!..» – волновалась Валентина.
Тут-то и увидела однорукого, в резиновых сапогах с завернутыми наполовину голенищами, в синей, запятнанной краской спецовке. Он улыбался, шел прямо на нее. Валентина заозиралась – сколько всякой дряни по земле ползает, что у него на уме?
– Не пугайся. Ну, чего ты? – Азоркин сел на доску рядом с Валентиной. – А я с работы. В магазин зашел, гляжу – ты. Ну, следом... Чего ты как из-за угла мешком пришибленная? – Азоркин, приклоняя голову, старался заглянуть Валентине в глаза, но она, будто окаменевшая, сидела, отвернув лицо, старательно разглядывая что-то на сумке. – Скучаю я, – хрипло сказал Азоркин. – А прийти к вам, как раньше, уже не могу.
– А зачем тебе и приходить? Михаил тебе не друг. И я тебе кто? – поджала губы, вскользь, нехорошо поглядела на Азоркина. – Так. Никто...
– Конечно, никто, – уныло согласился Азоркин.
Валентину заботило одно: как поскорее от него отделаться. Азоркин это видел. И он, повидавший немало на своем веку, теперь растерялся и сконфузился. «Ладно, что было – не было, но могла бы хоть поговорить по-человечески», – сглотнул подступивший к горлу комок.
– Что ж, калекой стал, так теперь брезгуешь? – Азоркин с усилием старался не глядеть на ее обтянутые чулками полные колени. – Выходит, не мил телом, не мил и делом? – поддел обиженно. – И за Михаила решила: друг – не друг. А это наше с ним дело...
– У тебя де-ло! Знаю я... Что, хороша Маша, да не наша? – язвительно показала ему глазами на свои колени, прикрывая их короткими полами плаща.
Азоркин потемнел лицом, поднялся,
– Валя…
– Отстань! – поднялась и она, берясь за сумки.
Как скрылась за сараюшками, и не заметил: была – и нету. Про свою улыбку забыл: так и стыла она на его униженном лице.
А через неделю Валентина в темноте заметила с крыльца: кто-то от калитки поднимается. Спохватилась, да поздно: Азоркин уж и двери на веранду распахнул – встречай гостя!
– Я не к тебе. Где Миша-то? – подстраховался, опередив нелюбезность хозяйки.
– На работе он. – Валентина встала спиной к двери, боясь, что Азоркин войдет в дом, где спал набегавшийся за день Сережка. – Придешь, когда дома будет.
– И что только с людьми делается! – от души рассмеялся Азоркин. – Да не зеленей ты – не трону тебя, дуру. Мне без людей нельзя. Понимаешь ты, нет? Головкин людей боялся, в петлю от них залез, а я к людям хочу!..
И, может, оттого, что лампочка на веранде горела тускло, а Азоркин был в плотной темно-розовой рубашке и в той хромовой куртке, в которой ей когда-то нравился, он и теперь показался красивым.
– Где Олег-то с Сережкой? Я с ними посижу.
– Своими будто не обзавелся?.. – кольнула Валентина.
– Наладилась! – поморщился он. – За эту неделю надумал потолковать с тобой: не в любовники к тебе набиваюсь, и ты не втаптывай меня в грязь!
– Не шуми. Сережку разбудишь. А Олег во Дворце, – сдавила она голос до шепота, а глаза – вкось да в стороны, и блеск в них яснее слов. «Господи, до чего ж ты слаба, сестра наша! – взмолилась в мыслях Валентина, да тут и Олег забухал по крыльцу. – Слава тебе!..» – вздохнула облегченно.
...Валентина сгоряча целую грядку перекопала, а Михаил нагреб большую копну хлама и зажег. Сел в стороне, а пламени в солнечном свете не видать. Только перевитые струи густого воздуха рвутся вверх да пепел студенисто подрагивает, оседая. На родине теперь поют скворцы и вот-вот хлынет половодье. Над Чумаковкой висит гогот и писклявый крик – на север идут косяки гусей да казарок... Ой, так давно все это видел и слышал, что, кажется, в далеком сне было!
Весной и осенью – Михаил заметил – тянет его на родину. Он тогда завидовал братьям и землякам и думал, что счастливее нет людей, которые от рождения до старости живут на родине. Сам-то он уже был испорченным для такого счастья и хорошо понимал это. Годы оттеснили, отодвинули в его глазах родную Чумаковку. Вот вроде давно ли в отпуск приезжал, и все еще она была для него ближе собственной кожи, и чувствовал, что и он для родины еще своя кровинка. Он тогда мог не вернуться на Дальний Восток, а просто выйти в поле на работу, будто она, эта работа, у него здесь и не прерывалась: те же люди, те же трактора, те же плуги и сеялки, в которых не было ни одного болта и гайки, чтобы не помнили его рук. Еще были те же телеги и пароконные фургоны, те же лошади, которых Михаил знал не только по масти и по кличкам, но и со всеми их повадками, привычками и норовом. Но как-то однажды приехал и ничего этого уже не застал и сразу почувствовал, что он на родине приезжий, чужой человек...
– Миша! – звала Валентина с крыльца. – Чего сидишь-то, в шахту пора.
Он нехотя поднялся, поглядел вниз на город, где левее школы тонула в мареве башня подъемного крана, а на красной стене мушками чернели люди: «Трудится народ, да на вольной волюшке. А мне опять к Яшке идти...»
Михаил про утрешний разговор с женой забыл, так и не напомнил ей об Азоркине ни в тот день, ни позже. И Азоркин больше не наведывался, хотя Михаил на шахте часто его встречал и в гости приглашал. Азоркин с банкой из тонкой жести, с большущей кистью в руке подновлял стены многочисленных коридоров, закутков, раздевалок бытового комбината. На приглашения Михаила отвечал неохотно, с какой-то недосказанностью.
– Да ладно, – отводил он глаза. – Приду когда-нибудь...
Но однажды высказался с раздражением, надувая и без того зобастый подбородок:
– Что ты все талдычишь: приходи, приходи! А кому я там нужен?.. Неинтересно тебе со мной, я же знаю... Чего модничать-то?
– Ну нет, так нет, – остановил его Михаил, понимая справедливость слов Азоркина.
– Да ты того... Не сердись! Может, не то сказал... У нас с твоей Валентиной никак, понимаешь, по-человечески не выходит, – разоткровенничался Азоркин, глядя ему в глаза.
Михаила слова Азоркина не огорчили и не обидели, но застали как-то врасплох – знал и без него об этом, да не подумал хорошенько, что человеку невозможно сразу от себя отказаться, прошлое отрезать. И не всякий поймет, поверит, что тут к чему. Здесь без душевной чуткости – никак. «Поверить такому трудно, а оттолкнешь, так после совесть замучит...»
Михаил нет-нет, да стал замечать Азоркина в кругу ханыг, или, как их еще называли шахтеры, – «горбатых», то у шахтовой столовой, то у буфета.
Все они, эти «горбатые», замызганные, с жабистым цветом лиц, с угрозливыми и в то же время заискивающими глазами, вечно толпились у окраинных столовых и пивных, томимые жаждой и утоляющие ее от нескупых шахтерских рук. Время от времени их вылавливали дружинники шахты и свозили в милицию, но «горбатых» вроде бы не убывало.
– Ну и круговорот природы! – удивлялись шахтеры.
Азоркин со своей пенсией да с заработком для «горбатых» был нечаянным кладом, и они вились возле него, ревниво оберегая друг от друга. Михаил как-то увидел Азоркина в этой компании, тот подозвал Михаила, сунул вместо руки розоватый обрубок культи.
– Чего это ты левой? – не ожидал Михаил, но культю пожал, чувствуя, как напрягается весь.
– Левой – ближе к сердцу. Особое почтение, – ощерился Азоркин.
– Дружков нашел себе? – Михаил оглядел компанию.
– Коллектив, понимаешь... – показал Азоркин на своих приятелей, понуро следящих глазами за Михаилом. – Да ты, я знаю, никогда его не признавал.
И тут встревоженно поднялся круглоголовый, мордастый парень, запустил руку в карман драной летчицкой куртки, шагнул к Михаилу.
– Что, рабочий инструмент ищешь в кармане? – наливаясь злобой, ждал Михаил, ждал, когда мордастый кинется на него, и уже знал, как поймает его руку и загнет на вылом: он не мордастого ненавидел в этот момент, но что-то большее, чему сейчас ни размеров, ни названия определить не мог.
– Сядь, Колун, сядь, – сказал Азоркин, – а то всю жизнь будешь кашу ко рту ногой подносить...
Мордастый опустился на землю.
– Что ж он, коллектив твой, словно воронье... – сказал Михаил и, не докончив, внезапно ухватил Азоркина за воротник да так рванул вверх, что тот и ноги не успел выпрямить, как гиря развернулся в воздухе и встал, полоумно тараща глаза. – Вали-ка отсюда!..
– Не твое дело! – противился Азоркин, а сам втягивал голову в воротник, ожидая оплеухи.
– Твое!.. Мое!.. Еще увижу с ними, вторую руку оторву!
...Азоркин пришел к Свешневым на другой вечер, ввалился на веранду, плюхнулся на стул.
– Ну?
Валентина на шум показалась в дверях.
– О! – деланно обрадовался Азоркин, протянул в ее сторону культю. – Уступи, Михаил... Мягонькая она у тебя, гладенькая!
Валентина метнулась в дом, выскочила со скалкой, замахнулась ею на Азоркина.
– Ты что? С ума сошла?.. – Михаил заслонил Азоркина, выхватил у нее скалку.
– Подонку всякому оскорблять позволяешь!.. Жену защитить не можешь! Да от кого! Хоть бы от человека, а то от самого распоследнего...
– Замолчи. Дети услышат. – Он оттеснил Валентину в дом и закрыл за нею зверь. – Ну, – сказал Азоркину, – поднимайся, уходи!
Тот молчал угрюмо, сопел.
– Поднимайся. Ты меня знаешь... Я хорош, пока со мной по-хорошему...
– Ладно, – многозначительно сказал Азоркин, выходя с веранды. – Я еще приду!..
Михаил закрыл за ним калитку и вернулся в дом.
– Что же ты такой? – встретила его Валентина и принялась выговаривать: – Возишься с ним, как с малым дитятей, и не надоест тебе, своих забот мало. А от него совсем житья не стало, хоть беги!..
– Чего же ты прежде-то добрая была, защищала его от меня, а сейчас такая злая стала? – напомнил старое Михаил. – Не нужны нам праведники, а нужны угодники, – подтрунил вроде бы сам над собой.
«Беги!» – слово это, неосознанно оброненное Валентиной, больно хлестнуло по сердцу. Жил в русле дел, и вроде все было на своем месте, а тут стал что-то растекаться на рукава и протоки. Затосковал по солнцу, шахты забоялся... С людьми стал жить неладно – это только кажется, что ладно. Надо собраться с мыслями, а то ведь так дальше – больше, можно и совсем потеряться. А другого места, чтобы собраться с духом, лучше родины не найдешь.
Такой, расхристанный, я не нужен ни себе, ни людям, думалось ему. Надо развернуть судьбу покруче. Если не шахта, то, кроме родной Чумаковки, ничего мне не нужно. Встану на землю и заживу рядом с родными. Встану на землю!.. Да я ведь всю жизнь стою на земле, запоздало догадывался Михаил, только стою как-то не так: одной ногой – в Чумаковке, а другой – здесь, на шахте. Мне только мнилось, что я утвердился тут, а кровь-то моя крестьянская – разве она отпустит легко от пашни? Вот и подошел срок, и зазыбила она, кровь, мою жизнь, в которой уже не устоять так, как стоял, и остается одно: отступить к своему извечному, там отдышаться, осмотреться, окрепнуть и пойти туда, куда сердце позовет, – но уже твердо, без покачки, не на теперешних ватных ногах.
Через день Михаил подал заявление Черняеву.
– Михаил Семенович, – заговорил Черняев, волнуясь. – Сколько сил ты положил на подземных дорогах, чтоб дойти вот до такой... – показал на мехкомплекс, над которым за ребристой напряженной крышей «разговаривало», бушевало горное давление пород. – Разве не обидно теперь все это в чужие руки отдавать...
– Почему чужие? Не чужие... Что мое, то мое. А у другого свое будет.
– Ты двадцать лет рос на шахте сам и выращивал шахту, – продолжал свое Черняев. – Здесь ты, здесь твое место. И учти, здесь ты – мастер, а в деревне будешь учеником. Понимаешь, Михаил Семенович? Пройти через неимоверные трудности, выйти к светлому, о чем мечталось, и спасовать... Не принимаю и жалею!..
– Все я понимаю, зря ты горячишься. Да вот тут... – ткнул большим пальцем в грудь.
– Шел бы ты, Михаил Семенович, в отпуск... Без содержания еще месяц добавим. И деньги найдем на этот месяц. Отдохнешь, а? Там, глядишь, все перемелется, как говорится, мука будет.
– Не хочу, чтоб мололось, – убежденно возразил Михаил. – Иного так перемелет, что мать-земля родная отвернется. Не хочу чтоб мололось...
– Что ж, поезжай, оглядись. А мы ждать будем!.. Что надумаешь – сообщи. Не верю, чтоб навсегда... – И Черняев понимающе пожал Михаилу руку выше локтя.
...Дом оставили на Дарью Веткину и на Олега. Большой парень, не станешь из техникума отрывать, и уехали в Сибирь, в Чумаковку.