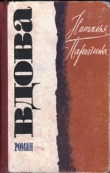Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
А листва в лесу прямо подушка подушкой, под ногами не шумела, упружилась, и было непонятно: откуда она брала столько желто-розового света – так темно было небо!
Ствол ели начинался почти горизонтально, потом изгибался лукообразно в обратную сторону, опять выправлялся и уходил в высоту. Похоже, что у нее в молодости был своенравный характер: как все ее сестры, расти не желала, а повзрослев, поняла, что искалечила себя зазря – расти все равно некуда, кроме как вверх.
Михаил сам для себя назвал ее Елью с Изгибом По-лебяжьи. Длинное дал имя, но не улицу же он назвал так, не какое-нибудь поселение, чтобы люди потом мучились с адресами и казенными бумагами, а дерево и только для себя.
В первую же свою шахтерскую осень Михаил пошел в вечернюю школу. В восьмой класс. Две недели заглушал он своим храпом голоса учителей. Первый урок еще кое-как выдюживал, на втором – веки хоть спичками распирай, а голова то и дело срывалась с безвольных рук, приходясь лбом об парту, чем веселил одноклассников, но не учителей. В конце концов он уже не одолевал тяжести головы и спал все уроки и перемены, и его насилу добуживались в двенадцать ночи, когда заканчивался последний урок.
Классный руководитель, физик Николай Степанович, из тех фронтовиков, которые еще не отвыкли удивляться, что они остались живыми, однажды обратился к Михаилу.
– Свешнев, пока ты не уснул, – сказал он, – давай-ка решим с тобой задачу на тему «Тепловая энергия и работа». Тема тебе еще неизвестная, но я ее знаю, осилим вдвоем. От тебя нужны только данные. Итак, ты, кажется, навалоотбойщик?
– Ага. Пятый месяц.
– Стаж не нужен. Продолжительность рабочего дня – восемь часов. – Николай Степанович ловко записывал на доске левой, а правая его, неживая, крючковато топырилась пальцами в черной перчатке. – Норма выработки?
– Двадцать две тонны.
– Лопатой?
– Ну.
– Все?
– Нет, еще бревна носим, железо... Крепим. Ну, и еще там всякое.
– Какое?
– Ну шпуры забурить, за глиной сбегать для пыжей, инертной пыли наносить, лаву ею обсыпать, порода с кровли обваливается – убираем. Но это не пишите, это все в норму входит.
– В норму! Само собой, что ли, делается? – почему-то осердился Николай Степанович. – Пыль-то инертная зачем? Что у вас там, пыли мало?
– А это, когда уголь взрываем, так чтоб попутно метан не взорвался, – пояснил Михаил.
Николай Степанович еще долго мучил Михаила вопросами о весе да расстояниях, даже зачем-то спросил, сколько и чего он съедает за день, потом надолго забыл и про Михаила и про класс, бубнил про себя: «Килокалории, тепло, работа». Дважды исписал доску формулами и цифрами и, закончив дело, постоял, похмыкал, подакал и сел за стол.
– Тебе, Свешнев, чтобы учиться, нужно поменять работу, – сказал сочувственно.
– Нельзя. – Михаил начал понимать затею учителя. – У меня семья большая.
– Ну и что же, никто не работает?
– Почему? Работают в колхозе, – Михаилу стало отчего-то неловко: «Выставляет перед классом...» – Работают, еще как!
– Да, да, – согласился учитель. – Но ведь раньше-то они жили без твоей помощи? Так же ты не потянешь школу.
«Жили не тужили...» – Михаил больше не хотел об этом вести разговор, а Николай Степанович помолчал, помигал, затем подошел к доске, вздохнул и мелом жирно подчеркнул какую-то цифру.
– Ноль целых восемьдесят девять сотых лошадиной силы в час требуется, чтобы произвести ту работу, которую делаешь ты, Свешнев. О какой учебе тут говорить?
Михаила эта лошадиная сила нисколько не удивила.
– Ну и что? Что мне лошадь! Не втянулся я еще... Да нас мужики после работы огороды копают, дома строят... его мне ваша сила-то?..
– Да не наша, а ваша! – Николай, Степанович потянулся для чего-то за указкой.
«Треснет еще, псих». – Михаил покосился на подрагивающую в руке учителя указку.
Приглушенно зароившийся было класс притих.
– А мы поможем Свешневу, – каким-то звонко-натянутым от волнения голосом сказала с соседней парты Валентина Турова. – Поможем, пока он... не привыкнет.
Михаил, почти как и всех в классе, Валентину не знал, не приглядывался. Слышал только краем уха, что она дневную школу для работы бросила, швеей на фабрику пошла,
Ну, иной раз и поглядывал на нее, так, вскользь, – впрямую-то он на городских глядеть стеснялся. Все они ему казались из чужого, недоступного рода-племени, и даже не думалось о том, что у него будет из них невеста. Женитьба ему представлялась неопределенно и туманно. «Вот когда-нибудь поеду в отпуск в Чумаковку и заберу с собой Аньку Тонких или Нинку Скорохватову – все равно кого» – так он думал иногда.
А сегодня он коротко оглянулся на голос Туровой – и опять глаза в парту, да еще не выдержал, оглянулся на миг. Но не увидел ее лица, хоть и глядел, а уткнувшись в парту, восстановил ее образ в памяти: лицо нежное-нежное, как первый снежок, и такое юное, но статью девка крепкая, крупноватая, к своему лицу малоподходящая. «А ведь для кого-то подросла, чья же она будет», – подумал, и так что-то прижало ему сердчишко, будто редьки наелся без хлеба. «Что об этом, дуралей...» – пытался утихомирить себя, а тоска и почему-то обида неизвестно на кого разыгрались внезапно и пронизывающе, аж зубы заломило.
– Я уйду, Николай Степанович. Можно? – попросился.
– Навсегда не советую, – строго отвечал учитель.
До дверей шел и обмирал от стыда за свою солдатскую одежку. Казалось, что Валентина Турова и весь класс только и глядят на его кособокие в пятках кирзачи, на потертые до выбели шаровары и хвостиком торчащую из-под ремня гимнастерку. И ведь думать не думалось до этой минуты, что одет плохо – тело не голое, чего еще надо? – в деревне до девятнадцати лет носил брюки из маскировочной разномастной плащ-палатки, которые сзади глядели «очами» заплаток, а тут целое, в один цвет полотно, и не позаботился хоть какие брючишки купить, рубашку – все деньги в деревню высылал.
Три вечера в школу не заявлялся. Лежал, думал, как найти силы для учебы. И ничего не мог придумать. Из лавы уходить никак нельзя еще года три-четыре – в Чумаковке школа начальная, а братьям и сестре восьмилетку надо заканчивать в Чистоозерной. За десять километров в одних валенках да в одной телогрейке четверых попеременке в школу не переводишь. «Все, – решил, – младших выучить перво-наперво, а там видно будет». Решил. А денег занял, купил первый в своей жизни костюм из толстенного сукна – чтоб подешевле да покрепче – и штапельную рубаху: «Надо... Чего ж, не век в солдатском...»
Не сознавался самому себе, что обновки покупал только из-за нее одной, из-за этой девчушки Туровой. И все эти три дня наваливал уголь, а угля не видел – движется, скользит по темным осыпям ее лицо; о далеких ли родных местах думал – и там она: то на опушке березового колка видится, то на берегу Тихонькой сидит; по улицам ходил – и тут, куда ни глянет, о чем ни подумает... Все позаступила, позагородила собой. Нерадостно, больно и тоскливо. И почему-то лезло в голову несуразное, что он ее, настоящую, живую, никогда не встретит, не увидит ни в этом маленьком городке, ни в другом месте, и даже, если пойти в школу, то и там ее не будет – не будет никогда.
И все же в школу он пошел и Валентину там не увидел. «Как думал, так и есть», – отметил для себя, не удивившись. Два урока отсидел для приличия и ушел, чтоб вернуться в эти стены через семь лет.
А в тот вечер он постоял в школьном неосвещенном дворе, обращенном к южной, сопочной окраине города, где в крутом распадке по редким, заглушенным садами огням угадывались жилища, потом вышел через кирпичную калитку, пересек мост через ручей, приближаясь к черноте сопок и устью улицы, из которой – не раз видел, когда Турова для него была никто, – она спускалась к школе в синем плаще и с красным портфелем. У крайнего, глухо уснувшего дома постоял под какими-то могучими деревьями, вглядываясь в белеющую песчаную дорогу улицы, которая где-то вверху, а может, прямо здесь, у подножия сопки, подходила и к ее дому, и опять не поверил себе, что в каком-то из темнеющих домов она теперь живет, реальная.
«Я еще немного жил и работал, а что-то устал», – определил он свое состояние, уходя в общежитие.
Напарника по комнате он не застал, тот был, наверное, в шахте, сел за стол, открыл тетрадь по алгебре и рядом с нерешенным примером записал стихи:
Лишь одного не изживу я:
В каком краю, в каком пути
Я потерял тебя, живую,
И где теперь тебя найти?
В какой траве, в каком тумане?
В каких домах, в каких лесах?..
Он записывал так быстро, что сразу не спохватился, что не чужие стихи записал, а свои. «Да ну! Не может быть!» – не поверил, но, сколько ни вспоминал, так и не вспомнил того, что эти строчки он где-нибудь читал или слышал. «Неужели?!» Он раз, да другой, и еще десяток раз перечитал стихи, а потом понял, что они недописаны. Сейчас допишу, решил он, но после слов «в каких лесах» как остановился, так и ни с места, будто вдруг опустилась перед лицом железная стена. Побился, побился об эту стену и, ослабев, повалился на стол и, разметав руки, проспал до утра.
Через день, в воскресенье, проснулся до света, хоть и выходной был. Крестьянское-то в крови жило: когда ни ляг, а встань до солнышка. С постели поднялся с трудом: все тело словно камнями битое. Усталость вроде не вытекла из него за ночь, а из плывучей, перетекающейся в теле превратилась в жесткие узлы, стянула ломотно мышцы и кости. Он знал, что все это до первых отмашек лопатой, до первой лесины, а там растворятся они, истают до завтрашнего подъема.
Одевшись, он походил по комнате и прилег поверх одеяла, стал думать и ждать дня. Когда стену, будто лиственничной корой, облепило всходящее солнце, Михаил вышел из общежития и направился в сторону той улицы в сопках, чтобы разыскать Валентину. «Потерял ее... – укорял себя за написанные стихи и за причину, заставившую их написать. – А ты находил? Ты найди сперва, а тогда уж...»
На сердце было спокойно и ровно, как будто он шел в солдатском строю, где не нужны глубокие думы.
Перешел мост через ручей и остановился, чтобы оглядеть с удобного места всю крутую, подковообразную вогнутость сопки, в которую, словно по ступенькам, поднимались крыши домов, а сами дома виделись плохо из-за садов и вольно разросшихся деревьев – так, кусок веранды, часть окна, зеленеющий обшивкой угол, – а за домами, по склону подковы, курчавился лес, схваченный красками ранней осени, запятнанный хвойной темью. «Ну и гнездышко! Это же надо – природа, а! – дивился Михаил, входя в улицу, как в аллею.
Тут же справа, из-за низко свисающих ветвей черемухи, вывернулась замшелая, с прогнутой крышей и крошечными окнами избушка. И сама избушка, и подворье заросли малиной, крапивой и всяким чертополохом-дудником, из которого, словно из засады, объявился перед Михаилом старичок в шахтерских калошах на босую ногу, в длинной и жесткой, как из кровельной жести, рубахе, в рядничных коротких штанах, обнажающих тонкие ноги.
– Здоров, дед!
– Здоров. – Дед приблизился к полурассыпанному, истлевшему штакетнику бывшей ограды.
– Не скажете, где Туровы живут?
– Андрюшка-то? Как не сказать. Осьмой дом выше. – Дед весело выказывал из волосатого рта два желтых зуба. – Андрюшку не знать... Как же! В моем отряде был. Петька Караваев тоже. Сенька Черноухин... Тут-ка, в Многоудобном, считай, тыщи мужиков, кому я в гражданскую партизанским командиром был. Мы тут, на Плывунах то ись, интервентам шкуру дубили. Они у нас тут досигались.
Михаил подумал, что дед вроде под хмельком, а тот обежал его проворным взглядом, спросил, подмигнув:
– Ты, случаем, не с поллитровкой?
– Нет, – улыбнулся Михаил. Дед ему нравился. С таким поговорить, как на родине побывать.
– А то зайди. Бражка есть.
В дальнем углу огорода поднялась над жирным гречишником старушечья голова, повязанная серым платком. Старуха поглядела из-под руки, зашумела:
– Гуляй, ирод, нагуливайся! Я тя выкормлю, как зима подскочит! – И скрылась.
– Хе... Воспитывает, – нисколько не смутился дед. – А ты кто будешь Андрюшке-то?
– Никто.
– Вот и я вижу – никто. К девке, значит... Девка у них крутая, ядреная. Шешнадцать уж ей. А ты женись и не оглядывайся. – Дед сам почему-то оглянулся туда-сюда, приблизился, обдавая перегаром. – Выбирай корову по рогам, а жену по родам. А Туровы – люди стоящие, корневистые, истинный бог. Сам не шахтер? Шахтер. А то бы зашел? Бражка-то?.. Нет. Ну, гляди. Вот так вот, значит, и вознимайся к Туровым, – показал вверх по улице.
Михаил пошел, улыбаясь добрым словам старичка и тут же забывая про него от пугливого волнения перед тем, что будет через семь домов от избушки.
Тайно влюбленные создают себе особый мир понятий и представлений, где все наоборот: то соломинка видится бревном, то бревно – соломинкой. Михаил будто гири-пудовки на ногах волок, и чем ближе был восьмой дом, тем тяжелее поднимался: «Что я скажу? Ну что я скажу?!» – И оглядывался, как бы примериваясь задать стрекача под гору.
Но вот и дом: серый, бревенчатый, с большими окнами и с верандой на север, в сторону города, стоит высоко, в глуби усадьбы так, что основание фундамента намного выше его, Михаила, притаившегося за кустом сирени у калитки.
– Миша! Свешнев!..
Его увидели раньше. Выше дома, в широком прогале меж садовых деревьев, копали картошку. Валентина бежала, оступаясь в мягких осыпях перекопанного, раскинув руки, точно пытаясь кого поймать…
Потом он помогал копать картошку, а мать Валентины слова не проронила, рылась в земле, кидая неприветливые взгляды. Она была худая, вроде больная чахоткой, и совсем слабая: часто разгибалась, словно к чему прислушиваясь, мяла на тощей груди кофтенку и, как бы молясь, поднимала к небу большие, с синеватой эмалью белков глаза. А дед Андрей и того был не лучше: ползал по грядке на коленях, выгнув спину горбушкой, грабасто скреб жесткую землю корчеватыми руками, подогнув пальцы внутрь, упирался для подвижки. Был он весь будто из глины сбитый и засушенный, а внутри у него будто гулял ветер – так шумно дышал дед. Время от времени глядел на Михаила, выставив шишкастый нос, спрашивал:
– Из солдатов, значит?.. Чего ж к отцу-матери не поехал?
– Да ты уж спрашивал, – смеялась Валентина.
– Загунь! Не с тобой толкую. – И опять к Михаилу: – В шахту навек или деньжонок добыть?
– Не знаю. Как придется, – отвечал Михаил рассеянно, потому что рука его часто встречалась с рукой Валентины над ведром, и от этого он терял силы и внимание.
Пообедали на веранде. Там не обед был, а так, только отбывание времени: Михаил стыдился при Валентине еду в рот брать, а той, видно, тоже не до еды было: скребла вилкой по сковородке, вскидывала на Михаила серые, в путинах ресниц глаза да краснела.
– Ешь, что ты? – просила вынеженным, выдающим ее состояние голосом, отчего мать и вовсе поджимала бледно-синие нервные губы. «Не выносит меня. Злая, потому и худа, что кащеиха», – невзлюбил будущую тещу Михаил.
Он попросил задачник по геометрии, чтоб не подумали, что приходил без причины. У калитки Валентина спросила срывистым голосом:
– Тебе охота уходить?
– Не-ет, – затряс он головой, удивляясь действительности, которая вчера показалась бы сном.
– Пойдем, покажу дерево-гуся, – предложила она.
– Где? – спросил Михаил, а сам покосился на веранду. – Вон смотрит!
– Не бойся, она добрая. Это она за меня боится. Я же одна-одна у них. Папа убитый, а ей сердце жить не дает.
– Где дерево?
– Там, – махнула она рукой, и он пошел через сад к другой калитке, хоть совсем не знал, что калитка там есть. Шел он быстро, не оглядываясь и не спрашивая, куда идти, Так и дошел первым до ели.
– Ты разве знал?!
– Откуда же? Ты сама меня привела. Не туда бы пошел – сказала. – Осмотрел ель, улыбнулся. – Это не гусь. Это Ель с Изгибом По-лебяжьи.
– По-лебяжьи?! – хохотнула Валентина. – А почему по-лебяжьи?
– Не знаю, – ответил, удивляясь могучей силе этой каменистой земли, на которой вырастают такие деревья, потому что у него на родине везде мягкий чернозем, такой мягкий, что с лошади упадешь и не ушибешься, а березы, сколько ни растут, больше себя не вырастают.
Валентина взбежала на кривулину ели, зашаталась, забалансировала и, вскрикнув, стала падать. Михаил подхватил ее, тяжелую, словно из камня, переполненную здоровьем и молодостью.
– Ты чего? – Он враз задохнулся и был не в силах держать Валентину на руках те несколько секунд, пока она была как бы в обмороке, спешно пытался поставить ее на неупористые ноги. – Что с тобой?
Валентина, не открывая глаз, стала искать ногами упругую, как резина, хвойную почву, чтобы легче встать, обхватила сгибом руки шею Михаила и, словно невзначай, ткнулась горячим ртом ему в подбородок. Грубо толкнув его, встала, а у самой слезы сверкнули на потупленных ресницах.
Мать дожидалась их на крыльце.
– Ты чтоб больше сюда не приходил, – приказала, опалив жгучей темнотой глаз. – Девчонке только-только семнадцатый... – трясла плохо прибранными под платок седыми волосами. – Увижу – так и знай: заявлю в милицию! Иди отсюда, бесстыжие твои глаза!
Если бы земля под ногами провалилась, то и спасение бы было. Михаил глядел снизу на нее, беснующуюся, и улыбался, да такой улыбкой, что не приведи господи человеку так улыбаться!
– Мама! Мама! – заступалась Валентина. Потом вдруг вцепилась в руку Михаила, вызывающе выставилась: – А мы, может, поженимся, а! Ну, заявляй! А мы поженились!
Мать – в рев, дочь – тоже. В дружном согласии в обнимку скрылись в доме.
Михаил с Валентиной с женитьбой и правду не затянули. Они поженились в теплый февральский день, когда с океана временно наплыла на бесснежную землю майская теплота. Первую брачную постель для них стелила Ель с Изгибом По-лебяжьи – стелила все свои долгие сто лет, укладывала хвоинку к хвоинке.
Валентина не вспоминала про ель, про то, что для них она значила, и Михаил никогда ей об этом словом не напомнил, хоть и имел по этой причине на жену тайную обиду. Напоминать – все равно что выпрашивать любовь, унизительно и стыдно, и это наводило на думы, на то, что в любви Валентины есть что-то неполное, ущербное.
Для Михаила ель и место под нею стали и чем-то освященным и тайным, и он всегда жалел о том, что ни в радостный, ни в горестный час – никогда больше не позвала Валентина пойти к ели, и он ходил туда один.
Пришел он и тогда, на исходе заглохшего дня, и долго сидел у корней ели, думал. Представлялось, как дойдет известие о его позоре до Чумаковки, до родных... До всех дойдет, кто его знает на земле...
Откуда-то сверху наплывал сонный басовитый шум. Михаил прикрыл глаза, и шум приглох, только тоненький посвист ветра в бурьянных струнах да белым-бело на свете... А слабой тенью за редким снегопадом – деревня, и он идет за задним возом сена и слушает древнее пение полозьев и степного ветра, которое мнилось, слышалось ему еще до рождения, еще до первого проблеска света в глазах. Бескрайнее, ничем не заступающее воли пространство и тяжкое, погибельное сжатие угольного подземелья – как можно совместить такое человеку? Неужели кусок хлеба да штаны без «очей» так заманчивы, что на них можно променять милую родину с ее горним светом на искусственный мир мрака и тяжести, где тупиковая лава так и называется – «камера»?
Михаил открыл глаза. То ли наяву все видел и думал, то ли задремал, утомленный. Меж стволов в низине проглядывал город, но неясно – через сумерки, будто под мутной водой. Только терриконы пестрели приплясывающей краснотой огней да вся городская часть долины перемигивалась ранними фонарями. А ель гудела на непроглядной высоте, и другие деревья набирали шума от ветра – сквозного и студеного. «Ну вот и все», – сказал Михаил, почувствовав в себе какую-то решимость, новое что-то, чего в нем не было раньше.
Назавтра, после смены, он пошел к Караваеву. Вышло удачно: Караваев был один, а Михаил очень не хотел, чтоб кто-нибудь еще был. Караваев погукал в телефон, положил трубку и угрюмо смотрел на Михаила. Михаил невольно переступил с ноги на ногу, но глядел смело, чтоб не подумал Караваев, о нем, будто он пришел просить милости.
– Садись, – пригласил директор, но не показал, куда садиться, и Михаил сел на крайний стул у дверей.
– Я узнать хочу, Петр Васильевич: что там с моим делом? А то время идет... – сказал и не узнал своего голоса – так он изменился. И ведь не боялся теперь уже, а робость какая-то взяла перед этим солидным, облеченным властью и большими заботами человеком. Робость и стыд. Верещал тут зайцем в прошлый раз, истерику закатывал, ничтожная душонка. Михаилу даже показалось, что Караваев смотрит на него брезгливо, с отвращением.
– Идет время... – глухо сказал Караваев и не изменил позы: грудью на стол, голова пригнута, вперед выставлена, словно на него кто сзади давил, а взгляд тяжелый-тяжелый.
– Как там Андрей Павлович?
Вопрос был неожиданным.
– Да как... хворает.
– Хворает, значит. – Караваев трудно, вполоборота повернулся к окну, кудлатую седую голову подпер рукой и, кажется, надолго забыл про Михаила. На что он там смотрел? В окне одни голые вершины шахтового парка.
«Уйти, что ли?» – подумал Михаил.
– Вот горняк был! – Караваев обернулся, выпрямился. – И сын его, Николай Андреич. Добровольно на фронт... вот. И – навек. Лучшие там, – махнул рукой Караваев, и Михаил совсем уже его не понимал. – Ну иди, Свешнев, не тяни душу. Сам сказал: время идет... У тебя-то его, времени, а у нас... Когда в шахту?
– Из шахты только...
– Ну иди, отдыхай.
– Простите, Петр Васильевич, ну... за все! – невольно вырвалось у Михаила.
Караваев взял было ручку, а теперь опустил ее в стакан.
– Понимаешь хоть, о чем просишь? Уйми страх-то, на-гора папиросы изъяли, не в шахте... Судить не будут. А совесть болит? Вижу, болит. И я тебе не поп, чтоб душу твою лечить. Сам, Свешнев, лечись. А то хорошо так-то: пришел, покаялся да снова грешить. Так, что ли, жить собрался?
Михаил не из-за боязни одной пришел к Караваеву, хотя хоронилось в душе и такое, чтоб покаяться. Поведи Караваев разговор по-другому, и, наверное, все не так вышло бы.
– Как получится, так и буду... – Михаилу захотелось скорей уйти.
– А может, как надо? Ты же не бревно самосплавное в реке, ты в коллективе. – Караваев закурил и через пелену дыма, прищурившись, глядел на Михаила. – Самые вредные люди те, что пакостят и каются, каются и пакостят. Та-акие черви!.. Воля не моя – я бы таких судил! – Затушил папиросу, потянулся за ручкой, двинул бровями. – Иди!
Заходил к Караваеву с тяжестью в душе, ту же и унес с собой, а может, потяжелее. Что ему, Караваеву, Михайлова жизнь цыплячья? В войну генеральское звание имел и дела генеральские делал. Для него одна человеческая судьба не судьба.
Старый и малый в городе знают дурачка Федю. Ходит он по дворам и шахтам с гитарой без струн, детей и взрослых называет дядями и тетями и косноязычно твердит одно и то же: «Яшка бьёт. Дурак Яшка...» Знали и то, как в сорок четвертом повел Караваев пятерых шахтеров почти на верную гибель в незакрепленном забое уголь брать. Полсмены кидали уголь из страшного зёва. Сам директор, голый по пояс, купался в поту, а рудстойки все не подавали – не хватало их. Кровля едва-едва держалась, уже отрывались, шлепали мелкие коржи, предвестники страшного. Говорили, что один из пятерых выскочил в закрепленную выработку с истошным ором: лучше, мол, расстрел, чем так ждать смерть часами. И тут же кровля, вильнув ветвистыми щелями, будто черная молния, обрушилась сотнями своих тонн: воздушной волной выфукнуло два размякших тела, один был Караваев. Трое остались в лаве. Тот, что сам выскочил до обвала, запросился на фронт, да что-то с разумом у него случилось: задурил, задурил... Им и оказался Федя. А про Караваева рассказывали: пришел в больнице в сознание с первыми словами: «Забой восстановили? Уголь даете?..»
Погнуло, поломало директору кости, а железо в характере осталось без царапинки-вмятинки до старости.
А после затяжной осени и бесснежной зимы всей шахтой собрались на траурный митинг. Гудки надорвались за час крика, уши у всех позаложило, и потому необычно глухим показался голос Караваева: «Ну вот, дорогие мои товарищи, и осиротели... Умер вождь...» Он впервые, может быть, в жизни слово «товарищи» сказал с таким мягким горестным выдохом, что всех сразу приблизило к нему, вроде и не на многолюдье были. Потом он долго молчал, втянув шею в воротник кителя. А тишина над сотнями людей покоилась, и в эту тишину так кощунственно врывался из пришахтового парка разноголосый веселый крик ополоумевших от ранней весны птиц. Караваев приподнял руку, сделал нетерпеливый жест в сторону парка. Может быть, Михаилу показалось, что Караваев сделал жест, но, наверное, так оно и было, ибо в парк тотчас побежал Загребин. А Караваев все молчал, будто выжидал, когда Загребин наведет в парке порядок. Он вдруг приоткрыл рот так неестественно, точно в дурном смехе, одной рукой, словно ослепленный, прикрыл глаза, другую прижал к сердцу. «А-а-э-э!» – вырвался из безобразно оскаленного рта по-ребячьи жалостливый крик, и Караваев стал заваливаться на подхватывающие его сзади руки.
Народ покачнулся в слабом движении и замер, потому что с помоста уже говорил кто-то другой. Михаил не мог стоять спокойно, оглядывал застывшие лица, одни с сухой задумчивой скорбью, другие в слезах нескрытых, а сам был весь пронизан точно стальным и острым караваевским криком-стоном. Взгляд его упал на лесогона Степана Кобелькова, он плакал не как все. Большая, вроде бы шире плеч, голова трясла Степаново тщедушное тело, трясла до самых его калош, в которые были сунуты тощие ноги. Эти калоши и брезентовые штаны Степан зимой и летом носил в шахте и дома.
Что-то все говорили и говорили, сменяя друг друга, а Степан все плакал, и Михаила все не отпускала боль от караваевского крика, от жалости к Степану Кобелькову, и он скрипел зубами, чтобы не выпустить слезы. Он вдруг догадался, что саднящая ломучая горечь души была у него вроде как отдельная ото всех, вызванная не тем, над чем обмерли люди, и он даже застыдился и убоялся этой своей горечи – так она кощунственна была в эти минуты.
Потом для Михаила пошли недели тягуче и тяжело. Тот неосознанно просящий спасения от погибели крик торчал нагноистой занозой в сердце, и Михаил не мог умом постичь, почему не унимается в нем эта острая боль? Ведь сколько видано им было и слыхано в крутое время в своей Чумаковке, когда с пеной у рта билась, обмирала какая-нибудь первочасная вдова с зажатой в кулак бумажкой-извещением, когда мать, взняв лицо к потолку, выла, как от пытки, по старшему Степану, а младшие Анька с Петькой, какие-то шершаво-синие, животастые и тонкошеие, точно птенцы-голыши, заполняли паузы меж ее воем мягко и сипато, уже не прося, а только бесполезно извещая себя и других: «И-и-ись, И-и-с-с-сь охота-а». Те люди родные все, с одного круга горшки, в одной печи обжигались, и все же постонет душа, поскулит в общей боли, на всех разделенной, а глядишь, и какая-никакая благость сойдет днем вешним – тоже сплошная на всех. Но Караваев-то для Михаила из такого поднебесного мира! Почему же его стон ничем не выдувает из ушей, не наступает успокоение, и, невидимый, он все кричит и кричит, разрываемый болью? Караваев, сказывали, лежал в больнице, а Михаилу так невыносимо хотелось увидеть его таким, каким видел раньше: строгим и тяжело-властным, словно от этого зависела его, Михаила, жизнь.
И увидел. Как не ожидал – неожиданно. Стоял у дверей бытового комбината, и его тряс чох – так после подземелья раздражало, слезило глаза, точило в носу яркое поздне-апрельское солнце, – когда вплотную тормознул низкий с угловатыми крыльями «джип» и из него вылез Караваев.
Михаил шоркнул рукавом под носом и весь подался мокрыми расширенными глазами в неузнаваемо выжелтевшееся, бровасто насупленное лицо директора. Караваев ступил раз-другой так осторожно, точно под ногами был не асфальт, а ледок-трескунец. Михаил уже видел дряблую щеку, стянутую морщинами, заушину, когда голова Караваева сделала едва заметный поворот к нему. Строгий, но рассеянный взгляд скользнул по Михаилу и спрятался в глухое затенье бровей, да, видно, задели его больные, почти кричащие глаза парня, взгляд Караваева снова высветился уже цепко и живо. Губы его дрогнули в подобие улыбки.
– Свешнев? А-а-а, – протянул зачем-то, и бас его перебился, перекололся скрипучим тенорком. – Зайди-ка, брат.
«Живой, и уже не больно ему. Зачем зовет? – Сердце у Михаила колотилось, аж в уши хукало. – Ну, задрыгался! На расстрел, что ли», – унимал себя, поднимаясь за Караваевым на второй этаж.
Караваев сел за стол, закурил и долгим взглядом стал глядеть мимо Михаила. И тут Михаил разглядел, какой он старый и слабый: лицо все вдоль и поперек переборонено морщинами, в подглазьях темные мешки, и лоб желтый, покойницкий, с запавшими висками.
«Хоть бы яд этот поменьше смолил, – пожалел его Михаил. – А то, глядь, и по тебе затраурят».
– Ну, говори, Свешнев. Ты же хотел что-то сказать. – Голос у Караваева был совсем не директорским – тихим и скрипучим, как у какого-нибудь деревенского старика.
– Да нет, – замялся в растерянности Михаил, – я ничего...
– Ничего так ничего, – тяжело согласился Караваев, завешивая лицо дымом. – Значит, ошибся я.
«Не ошибся», – чуть не сорвалось с языка, хоть и в самом деле говорить было вроде нечего.
– Андрей Павлович держится?
– Держится, да... – махнул Михаил рукой и опять заметил для себя, как мало жизненных соков осталось в теле Караваева, остатки которых он так усердно выжигает дымом папирос.
– Бросили бы вы, Петр Васильевич, этот яд тянуть, – вырвалось из души. – Толку-то от него, одна хрипота.
Караваев резко, как только он мог, вскинул голову, несколько секунд вид его выражал: «А что это за насекомое тут кашляет?» Но уголки его рта опять обмякли, во взгляде – пепельная усталость, и через эту усталость сочилась тоска.
– Мне, кроме врачей, никто совета не давал. Даже жена. Ты первый, смелый такой, пожалел старика. Но поздно. Теперь уж поздно, Свешнев.
Он приопустил сивую кудлатую голову, и пряди его волос мелко-мелко подрагивали.
«А ведь, говорят, волосы не гниют, – стукнуло в голову Михаила, – Караваев исчезнет, а волосы сохранятся. Несуразность непроворотная в башке, ничего больше! – обозлился он на себя. – Один скулеж собачий, а слов нет скулеж этот высказать».
– Поглядеть бы лет через двадцать, как вы жить, управляться будете. Да уж не увидишь, не услышишь... оттуда.
Старик пытался выправить, вытвердить голос, но он не налаживался, исходил на жалобу.
– Чего вы: не увидишь? – Михаил тер о штаны вспотевшие ладони. – Вам еще жить да жить! – вырвалось вековое крестьянское: хоть капелюшный, да глоток надежды, хоть соломенная, да подмога тонущему – известно, что умирающий никогда не верит, что он умрет – кто стоял перед погибелью, тот знает.