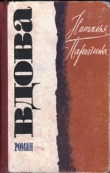Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
– А то... Азоркина пожалела, прикрываешь... А Раису тебе не жалко?.. Эх, ты!..
– Думай, что говоришь-то, – укорила Валентина с кухни, не показываясь оттуда: то ли посуду мыла, то ли делала вид, что моет. – Всю жизнь молчала, а тут расфонтанилась!..
Колыбаев, казалось, всю веранду занял, такой гусачина, а Катя за ним серой курочкой, у которой если есть какой вид, то не от тела и не от одежки, надетой без заботы о женской внешности, а от силы внутренней. Вот ведь, подумал Михаил, без натуги по местам расставила и Азоркина, и Валентину, и Раисе подсобила. Сила чести! Вот, точно. Бесчестье всего лишает – руки в свою защиту не поднимешь. А такая с ухватом на наган пойдет!..
Михаил пошел яблоню прибирать. Сучья сшибал, думал: «Мелко живем. Страсти-желания ничтожны, постыдны, жизнь разъедают. А попробуй отгородись от них!»
Работа успокаивала. Михаил отсекал сучья и тут же, на пеньке, рубил их на дрова и носил в сараюшку. День назрел высокий и светлый не прозрачностью воздуха, а немолодой задумчивой мудростью: не май, слава богу, а сентябрь – пожито, повидано, и вспомнить есть чего, и есть о чем подумать. «Ровесник», – усмехнулся Михаил, приравнивая день к себе.
Из сада, от кустов смородины и крыжовника, от картофельных и помидорных грядок – отовсюду истекали запахи спелости, и к ним примешивались едва уловимые, сладковатые струйки тленья уже всего, что успело отжить.
Убрав сучья, Михаил опустился на траву. Ошаривая взглядом долину, остановился на давно потухших терриконах «Глубокой», мысленно проделал путь до лавы, где теперь Костя Богунков со сменой выкладывает по лаве «костры»: «Косте, бедняге, сейчас жарко! Нам вчера зато прохладно было...»
А над лесом, с юга, на большой высоте начали вычесываться редкие пряди облаков, веерообразно разворачивая концы фазаньими хвостами. «К полночи опять дунет, к утру водолей грянет», – определил Михаил по давно известной примете. С тяжелой покачкой вошел в дом. «Разбудишь в четыре», – наказал жене и лег на диван.
Проснулся он сам. Резко сбросил ноги с дивана, сел. «А-а-ф», – тяжко втянул воздух. Во сне под землей, в забое, сам себе привиделся. Казалось, и проснулся со стоном от нехватки кислорода, Но Сережка на подоконнике ножницами бумагу кромсал, ухом не повел. «Слава богу, не напугал. Солнце...» Свет в глаза виделся, как через толстую слюду, сердце грудь трясло. «Живо-е!» – порадовался. Сперва вроде на-гора было: небо серое и плоское с высоты стало опускаться, опускаться, лишая мир света. Во мгле, как живые, заметались деревья, выстраиваясь в ряды рудстоек. Взвизгнув, замер конвейер. На комбайне, будто на электровозе, с ветром и хохотом промчались мимо Колыбаев с Азоркиным: «Прощай, Миш-ка-а-а!» – и исчезли в дальней полоске света. Серая плоскость на одной скорости бесшумно уравнивала деревья до пеньков. Михаил, запрокинувшись, руками и коленями уперся в холод массы, глотал и глотал воздух, а его все не хватало и не хватало.
– Сережа, во дворе подмел?..
Сын покивал – так занят, не оторваться.
Михаил помял левую сторону груди, успокаиваясь после тяжелого дневного сна, и распахнул створки окна.
День, склоняясь к вечеру, тихо покоился в саду, осыпав все своим светом тонкой желтовато-цыплячьей нежности. В такие часы хорошо работать в огороде или идти по дороге, читать книгу, изредка отрываясь от нее, чтобы прислушаться к жизни и к себе. В предвечерние часы особо печалится сердце перед спуском в шахту, зная, что ночь для него наступит намного-много раньше, чем для всех живущих на земле. Странно, но по утрам этой печали не бывает. По утрам ствол звенит от голосов, хотя от светлого дня достается людям два его коротких обрубка: восход да закат, а зимой и того не достается – в сумерках спустился, в сумерках поднялся. Во вторую же смену в клети тишина затаенная. Редко-редко вполголоса скажет кто слово, и ему так же отзовется кто-нибудь, а то и вовсе истает одинокое это слово в шорохе воздушной струи и всхлипах воды, падающей с высоты на крышу клети.
Да вот же они, те далекие-далекие полдня, когда в погребе перебирал с матерью картошку... «Мам, чего мы в темноте, давай вытащим картошку наверх». – «Оглядимся, сынок. Творило-то открыто».
До обеда терпел, а после завопил, хотя крестьянским детям в его годы капризничать не полагалось. Мать поняла его, под мышки подхватила, вытянула из погреба, омахнула крестом: «Одна управлюсь, там и осталось-то... – говорила виновато и ласково. – Иди, плетенек пока позаплетай. Иди на солнышко».
«Да разве это со мной было? Иди на солнышко...»
Темное раздражение поднималось против самого себя: «Чего теперь-то думать? Ночь не превратишь в день. Сам это хорошо знаешь. Жил, как хотел...» – «Нет, не как хотел, а как сложилось, – оправдывался в нем совсем другой Михаил. – Мне сперва нужны были деньги для родных, а потом я привык». – «Но привычка – это же сам ты. От нее отказаться, как от самого себя». – «Нет! Привычка не я. Ее разрушить можно, сбросить с себя». – «Ну попробуй, сбрось. Что от тебя останется? Не нами сказано: живешь по привычке, а отвыкнешь – умрешь. Привыкать да отвыкать – этим же только скорбь свою увеличивать. Ты же однажды отвыкал от степи...» – напоминал один Михаил. «Чудак! Ты не шахты испугался, а жизни. Это бывает. Пройдет», – успокаивал, разъяснял другой. «А если не пройдет?» – «Тогда, что ж...»
Михаил и сам того не заметил, как вылез через окно в сад, прошел за кусты смородины и упал в листву меж ними и забором.
Думать ни о чем больше не хотел, не мог. В голове что-то погудывало, как далекий подземный обвал. Вплотную перед глазами дрогнул лист с тугими толстыми прожилками, точно ребра лодки. Меж прожилками – рыхлой трухлявой ржавью – ткань листа: «Издалека-то... – подумал. – А вплотную – грубо!» Поглядел на солнце. Оно еще высоко стояло над хребтиной сопки, и на него можно было во все глаза смотреть через белесую мутцу облаков. «Вот же видишь? Чего тебе? Чего тебе...»
Опустился подбородком в уют рук, глядел, как покачиваются желто-зеленые венцы укропа, слушал сонный шелестящий шумок растительности. Покой безмерный, а в душе непокоя так до конца и не унял.
4
Костя Богунков, звеньевой смены, с Михаилом встретился в бытовом комбинате, у ламповой. Тело Кости было так выморено работой, что казалось выточенным из камня, и даже круглое с мелкими чертами лицо не облекалось, а вроде как с натягом оплелось мышцами.
– Живая? – спросил Михаил о лаве.
– Стонет, – ответил Костя. – Не дали вчера кострить?
– Не дали, – вздохнул Михаил. – Надо было самому Комарову звонить. Я тоже что-то сплоховал.
Помолчали. Костя пытливо и долго глядел на Михаила.
– Ты вроде как не в себе? – спросил участливо.
– Да нет, как всегда будто... – Михаил отвел глаза.
– Как всегда, – раздумчиво повторил Костя. Снял каску, рукавом обмахнул с лица пыль. – Да нет, не как всегда, – возразил, озаботив добрые глаза. – Лицо не такое... Ты вот что: переходи в наше звено, – выстроил свою догадку. – Таких людей не найдешь на всей шахте. – Костя явно имел в виду Азоркина с Колыбаевым. – Чужие они тебе. Диву даюсь твоему терпению.
– Разве они лучше станут, если я уйду? – свел все к шутке Михаил, легонько хлопнув друга по плечу,
– Не нравишься ты мне...
– А я и сам себе не нравлюсь...
Костино участие теплой волной окатило сердце, и совсем не к месту и не ко времени (самому пора в клеть, а Косте осклизлую от пота и грязи нуду-спецовку лишние минуты на плечах держать невмочь) потянуло к задушевности.
– Я, Костя, что-то сдавать стал.
– Чего это?
– А черт его... То ли телом ослабел, то ли еще того хуже... Вчера на смене наплыло. И теперь вот иду, и это... мысли разные.
– Хреновые мысли, если разные, – сказал Костя. А ему шибко-то не перечь. Не гляди, что глаза добрые, – характер, когда надо, проявить может, взглядом камень отодвинет.
– Хреновые, значит, – согласился Михаил. – Раньше бывало, но как-то полегче, а тут душу в узел завязывает. У тебя такое было, нет?
Михаилу очень хотелось услышать что-то ободряющее, но тот в пол глядел, ушел весь в себя.
– Товарищ! – неожиданно окликнул Костя мимо идущего рабочего. – Дай нам по одной в зубы, чтоб дым пошел! – И к Михаилу: – Ты Ваню Васильева хоронил? Да нет, тебя не было тогда. Ушли все с кладбища, а я остался. Сижу. А закат... Какой был закат!.. Думаю: «Ваня ты Ваня... Никогда больше закат ты не увидишь!..» Вот тут и садануло под сердце: «А при жизни много ли он закатов насмотрелся?..»
– Ты к чему это... невеселое вспоминаешь?
– А к тому, может, и ты сейчас, как я тогда, сердцем надсадился... Я ведь даже к Комарову с заявлением бегал. Тот – уговаривать, а потом согласился, только квартира, говорит, у тебя шахтовая – верни. Я – тык-мык... Пока мыкался, и все прошло. И у тебя, Миша, пройдет.
– Долго, коротко ли говорил, а конец один... – вздохнул Михаил.
– Какой ни есть... История, Миша, у нас с тобой одна!..
– Да, это верно, – подтвердил Михаил.
– Ну, ушел бы я, уйди ты, и без нас бы шахту закрыли – тогда другое дело, – продолжал Костя поспокойнее. – А она же без нас жить будет! Мы по двадцать пять тонн лопатами наваливали, по полкилометра ползком лес таскали... Вон шахту куда вытянули – комбайн уж не техника, комплексы на шахте работают. К будущему лету на нашем участке комплекс начнут монтировать. Уйди – разве не обидно будет?.. А уйти можно... Сколько их бродит по земле, казенных людей. А ты себя не забудешь, от себя не откажешься. Может, и в самом деле к тебе в смену добавить кого, а Азоркина забрать? – вернулся к своему Костя. – Это же шахта, разве можно в шахте одному с такими?..
– Чего ты все о них, пошли они к бесу! – Михаил тронул Костю за руку, кивком показал на высокое, под самым потолком окно, а в нем прямоугольник синего до густоты неба, так внезапно ударившего в глаза из каменного проема.
– Иди-ка давай в баню скорей. Иди. Когда-нибудь договорим. – Михаил протянул Косте руку, их ладони сошлись глухо, стукнулись.
Михаил заспешил в сумрак переходной галереи, которая заменяет шахтерам утро и вечер, – чтобы не портить глаза резкой переменой света.
Четыреста метров вглубь, грохоча на направляющих брусьях, клеть падала чуть больше минуты, то отрываясь из-под ног и облегчая тело так, что дыхание перехватывало, то притормаживая, и тогда что-то осадисто давило на костяк. Впрочем, Михаил этого ничего не чувствовал, ибо спускался он пять тысяч шестьсот тридцатый, то ли сороковой раз и столько же раз поднимался на-гора. Его тело заранее чуяло перемену скорости клети и успевало к ней приготовиться. Сознание же было свободным для основной жизни, и оно уносило Михаила то вперед, в еще не прожитое, а потому и не совсем определенное, то в прошлое, такое большое, что о себе только и то не все разом охватишь, не то что о других всех, кого знал и не знал, но жил с ними рядом. Четко же виделось совсем близкое: вчера – прожитый день, и завтра – работа в лаве.
А пока его тело уносилось в глубь земли, Михаил в воображении видел свой дом, сад, за садом – сопки, успел оглянуть всю даль, где могуче и высоко вознесся лес, где тугой шум в вершинах жил даже в тихую погоду. Михаила всего охватило неизъяснимой прозрачной грустью, которая посещает людей чувствительных и счастливых зачастую на исходе дня, когда от невыразимой любви к родной земле и ее людям щемяще и благодарно обмирает душа.
Кто-то легонько подтолкнул Михаила – не слышал, как «села» клеть, как колокольно прозвучал сигнал «стоп» и клацнул замок. Откатчик Федор Лытков что-то говорил, на ходу поглядывая на Михаила.
– Задумался, а? А ты не думай, а то исстареешь, не живя века. Вот я: семой десяток, а каков! – Федор Лытков обнажил редкие пеньки зубов. – Сурьезно. Не гляди, что зубы съел, я еще звон-колокол. И ты запомни: дважды молоду не бывать...
– Запомню, дядя Федя!..
– Ну, пойдем вместе до рудничного обгона. Мне там вагоны, что на-гора поднимать, счесть надо.
Ветер шумел и нес водяную пыль из ствола. Прорезиненная одежда холодно заблестела на Лыткове. Сколько знал его Михаил, был он все будто вот таким. «Но ведь был же он когда-то и таким, как я теперь!.. – подумалось согласно настроению. – А он не понимает ничего, не чувствует вроде. «Звон-колокол!..» Выколоколился, отошла твоя пора». И будто наперекор его мыслям Лытков сказал:
– А ты чего это вчерась под стволом киселем расплылся, а? Сказывали – сердце. Какое сердце в такие годы? Ты, Мишка, того, а то ее, болезнь-то, и приручить можно.
– Да нет, это не болезнь... – заверил его Михаил.
Лытков резко повернулся, заступил дорогу:
– А коль не болезнь, так что ж ты оквелел? Глядеть тошно на вас, с носами вислыми! Живете скучными улитками. Я смеха давно не слышал на шахте. Вспомни-ка, Миша, как мы жили. Караваев Петр Васильевич, бывало, гаркнет на общешахтовом наряде – все дыхом замрут, а шутку кинет – смех повальный. Во! Вперед на выполнения-достижения коллективом цементным, ядром пробойным! – Лытков сжал мослы, потряс перед лицом Михаила. – А то думают, думают... А тогда не кисли, как щи недельные, шибко не думали!..
– Вам, что ли, думать не давали? – урезонил Михаил Лытков а.
– Э-э, дурачок, я же тебя, как сына, люблю. Да кабы от дум твоих легче тебе стало или мне, к примеру. Говорится: долгая дума – лишняя скорбь...
– Что ж в том плохого, коль думает человек, а, дядя Федя? А скорбь, что ж... Время для дум пришло подходящее. Оно только кажется, что время притихлое, а в самом-то деле шумит! Вон, как в песне: «Не шуми, мати зеленая дубравушка, не мешай мне, добру молодцу, думу думати...» А? Дядя Федя! Деды наши, отцы, как ты говоришь, ядром пробойным... Ну, так то ж было свое время. В войнах да в трудностях – до дум ли вам было? Теперь мы за себя и за вас подумаем, осознаем себя: кто мы такие... Стоящие или.. сукины дети!..
Лытков часто моргал почти голыми веками.
– Да толку-то... – не сдавался. – Ты новые думы думаешь, а старые улетают из головы, что дым в трубу…
– Не улетают – след-то остается!
– Как это? – не понял Лытков.
– А так! Я пошел, дядя Федя! – Михаил решительно обошел Лыткова, который еще пытался придержать его, силясь понять что-то, и зашагал, подгоняемый ветром в спину.
– Поглядывай в лаве-то, малохольный! – крикнул вслед Лытков. – Поглядывай, а то Яшка те надумает!..
5
Солнце замутненным пятном высветило бумаги на столе, и Головкин понял, что дело к вечеру. Теперь, в сентябре, лучи совсем накоротко и косоглазо заглядывали сюда, в зимние же дни с утра до вечера в узком длинном помещении раскомандировочной жил полумрак. В прошлые годы Василий Матвеевич не однажды требовал у директора шахты светлой раскомандировочной, но с возрастом перекрутилось какое-то колесико в душе, и он начал ловить себя на мысли, что его стали раздражать ясные, солнечные дни и все больше нравится тихая, пасмурная погода, – нужда в светлом помещении отпала сама по себе.
За долгие часы между нарядами, и особенно когда первая смена уходила домой, а вторая спускалась в шахту, во всем здании, совмещавшем в себе управление и бытовой комбинат, настаивалась тишина. Василий Матвеевич по-мышиному шелестел бумагами, монотонно, словно отсчитывая капли, перебрасывал костяшки на счетах. Он знал все до копейки освоенные участком расходы не только за сутки, но и за каждый час, все до сантиметра горные выработки, все новые и перемолотые горным давлением крепежные средства, вентиляционные и оросительные трубы, количество электроэнергии и воздуха, поступающего на участок... И все равно считал и пересчитывал, обмакивая перо в чернильницу-непроливашку, бог знает как сохранившуюся у него, когда весь мир от мала до велика изводил бумагу пастовыми карандашами и ручками. Находил ли Василий Матвеевич удовольствие в своих бдениях за столом, считалось ли это необходимой работой – понять было невозможно. В одиннадцать, в двенадцатом часу ночи уходил домой. Перед уходом звонил на свой участок. Приладив трубку к дряблому уху, впитывал через нее приглушенный шум и лязг шахты, где каждый звук был для него наособицу, не смешивался с другими и говорил ему больше о работе участка, чем горный мастер или насыпщик с погрузочного пункта насыпки. Василий Матвеевич мог не слышать шума ветра, воды, леса и прочих шумов природы, вернее, он и слышал и не слышал их, они не нужны были его сознанию и сердцу, – подземные же звуки стали его участью, он улавливал и разделял их по значению.
– У тебя уголь падает в бункер с большой высоты, – бесстрастно говорил Василий Матвеевич насыпщику по телефону. – Уголь разбивается в пыль и портится...
– Да нет вроде, – прикрывая микрофон рукавом ватника, неуверенно оправдывался насыпщик. – Я бункер до последнего не опрастывал. Уголь на уголь мягко ложится. И гуркотит не уголь, а вагонетки...
– Нет, уголь, – говорил Василий Матвеевич таким голосом, словно и не возражал рабочему, а желал ему покойной ночи. – Я слышу, как уголь трещит и колется. А вагонетки я отдельно слышу. Не порть уголь!..
Поговорив с насыпщиком, соединялся по очереди с дежурными слесарями, обслуживающими конвейерные машины забоев, затем со сменным горным мастером. И таким образом опросив и обслушав, будто врач живой организм, участок, обмакивал перо и записывал что-то в специально заведенную им памятную тетрадь. Из-за стола поднимался, грузно упираясь руками и ощущая дрожь в ногах, словно его три дня морили голодом.
Домой он когда-то в молодости ходил по освещенной улице почти до центра, сворачивал на свою улицу, тоже освещенную и асфальтированную, прилегающую одной стороной вплотную к огородам и садам частных застроек Богатого поселка, но однажды поленился и решил спрямить путь; долго плутал меж сараев и садов, натыкался на заборы, кучи шлака и штабеля рудстоек, измочаленных до волокнистости в забоях и предназначенных теперь на дрова; откуда-то выкатывались псы, злые и трусливые, лаяли с хрипом, будто харкали, но вплотную не подступали, и в конце концов изогнутыми переулками-коридорами вышел к своему трехэтажному дому, просадив где-то впотьмах проволокой башмак и ранив ногу. И все же с той поры с шахты и на шахту он ходил только этим путем, постепенно совершенствуя его, отыскивая новые переулочки и тропки, пока не изучил весь путь так, что хоть в светлый день, хоть тьмою-тьмущей знал, где какой бугорок и канавка, и никогда не оступался и не запинался, По пути от дома к шахте и наоборот ему – в силу житейских обстоятельств и по инертности души – не о ком и не о чем было думать, и он догадался измерить путь шагами от подъезда дома до въездной арки шахты «Глубокая», что и сделал, и не один раз, и вначале озадачился, потому что количество шагов было разным. Но Василий Матвеевич был инженером, знал теорию вероятностей и поэтому успокоился. Однако с какого-то времени – он и не приметил, с какого именно, – число шагов между домом и шахтой стало увеличиваться и увеличиваться, и тогда он осознал, что здесь уже не теория вероятностей, а все та же отвратительная для него действительность...
Дома его встречала жена; была она, возможно, даже привлекательной женщиной, и он за всю их совместную жизнь никогда не сказал ей плохого слова, не взглянул на нее раздраженно или с неприязнью, но и доброго слова она не слышала и любящего взгляда на себе не испытала.
Софья безропотно страдала, как ей самой казалось, из-за «возвышенной» души мужа, которая сколько ни витала над огрубленной жизнью землей, но так и не нашла приюта и потому закрылась, словно сон-трава, ото всех и от нее, Софьи, тоже, и ей, его жене, единственной не получающей за свою преданность и верность ни мужской ласки, ни человеческого участия, выпала судьба оберегать эту душу.
Она молча встречала Василия Матвеевича поздними вечерами в прихожей, ждала, когда он разуется, пропускала впереди себя на кухню, кормила и уходила в спальню. Ложилась и с какой-то потайной тревогой ждала: разоймут тишину сегодня тягучие звуки или нет? Но вот робко зарождались они, эти звуки, приглушенные двумя дверями, и Софья облегченно вздыхала.
А он там, в своей комнате, сняв со стены скрипку, темную, с паутинчато потрескавшимся лаком, долго и напряженно глядел на переплет оконной рамы. И трудно, словно с неохотой, постепенно в звуки его игры вкрадывалась нежность к жизни, на равнодушном лице появлялось некое подобие одухотворенности и упорства, смычок пальцы держали тверже, звуки извлекали настойчивее. Они начинали расти, оживать, но тут Василий Матвеевич как-то испуганно прекращал игру, вешал скрипку и ложился. С полчаса он еще лежал с открытыми глазами. Эти короткие полчаса между игрой и сном были постоянными у него уже немало лет, будто бы только в эти минуты и жила его заморенная душа. Однако с пробуждением в душе не оставалось ни порыва, ни смятения, ни облегчения. Казалось, заслоны, возведенные для нее им самим, не вызывали протеста, желания их разрушить. Но это было не совсем так: душа протестовала, однако он отчаянно и трусливо защищал ее ото всех, кто мог бы посягнуть на нее извне, и заранее ненавидел их.
Нынешний директор шахты, однокурсник Головкина по институту Александр Егорович Комаров, частенько сожалел: «Ты, Василий, однажды уснешь и не проснешься. Был ли ты – не был?.. Ни одной ниткой не связываешь себя с будущим. А толковал про генетику...» Комаров недоговаривал, потому что видел: в Головкине был инженер да, как говорится, весь вышел, а сам Комаров не представлял человека вне профессии, вне времени, вне движения. Комарову нужно было, чтобы шахта железом напрягалась, звенела да не кряхтела деревянной рудстойкой. Василию же Матвеевичу нужен был только его неменяющийся мир вещей. Он давно заглушал в себе природные свойства радоваться и горевать, любить и бояться смерти. Вернее, может быть, и жизнь он любил и смерти боялся, но не давал себе воли, и, наверное, только инстинкт заставлял его браться по ночам за скрипку, чтобы не дать напрочь угаснуть в себе внутреннему духу жизни. Не знающий счастья обладания желанной женщиной, счастья победы в труде, ибо только в победах зреет сердце мужчины, Василий Матвеевич не раз говорил себе: «Все начну сначала...» Но внутренней уверенности в своих словах в нем не было и не было поддержки. Жена спала рядом так же, как жила постоянно около него, – не волнуя и не беспокоя ни как женщина, ни как человек. «Что свершилось, того не изменить...» – говорил себе, устало засыпая.
...От первого мужа в памяти Софьи ничего не осталось, кроме перегара да тяжелых пьяных кулаков. Его почему-то и вводила в свирепость ее доброта: «Ишь, кошка, знаю я вас, добреньких!» Так пьяный и расплющился вместе с мотоциклом о встречную машину. Зачем и жил человек?
Перебирала в памяти жизнь свою жалкую и никак не могла понять, почему ее доброта не находила ответа. Ну, в конторе уважают и любят подруги по работе, да ведь не с конторой жить. Из конторы-то после работы все расходятся в семьи, к мужьям, к детям, а она никому-никому не нужна...
Тот, первый, был зверь, а этот, то есть Василий Матвеевич, теленок. Как узнала о его одинокой, замкнутой жизни, увидела его тихого, отрешенного, в измятой одежде, так и оборвалось сердце, зашлась душа – мой, да и все!
Судьба, говорят, руки вяжет, а Софье с ее переполненным добротою сердцем нужен был плен для своего же спасения. С возрастом, как известно, все чувства слабеют, только доброта крепнет и растет, неистраченность которой так же опасна человеку, как муки совести. «Буду ему и женой и матерью», – думала Софья. И только одного она не могла сказать себе: «Буду ему любимой», – хотя тайно и об этом мечтала. Но эгоизм Василия Матвеевича до того задубел, что проломить его не хватило всей силы Софьиной доброты. Не допустил он ее до своей души. Разве только что служанкой она ему стала. А Софье-то! Василий Матвеевич для нее был всем, последним светом в окошке. Его ленивую бездеятельность и безразличие к жизни она принимала за страдания человека, погубившего свой талант, и страдала за него безутешно и остро.
Они встретились без волнения и торжества. Софья сидела у него в комнате. Василий Матвеевич не знал: то ли она вдова, то ли разведена, но знал, что у нее нет детей, а что ей далеко за тридцать, так это ясно: хоть лицо еще сохраняло остатки девичьей прелести, но шею густо запаутинили морщинки.
«Это моя жена, – обреченно думал Василий Матвеевич, косясь на худенький Софьин подбородок. – Но почему? – спрашивал себя. – Почему мне досталось то, чего я не желал? Где та, о которой мечтал все долгие годы, веря, что придет она вот так же, как пришла сегодня Софья?»
За окном дотлевал остатками света хмурый бесснежный ноябрьский день, такой тихий и бесхарактерный, что ему к вечеру и похвалиться будет нечем. Василий Матвеевич, забыв о Софье, глядел перед собой в окно на запотевшую влагой черную вязь веток, и его вдруг ожгло: вот сейчас рванет ветер, закружит снежная лава или, наоборот, ударит предзакатное солнце. «Вот сейчас... – ждал он. – Вот сейчас...» Но небо с землей слились в полумрак и, обессилев, замерли, казалось, навеки.
– Поиграйте, Василий Матвеевич...
Он вздрогнул и непонимающе уставился на Софью, с трудом вспоминая, что пришла она под предлогом «послушать скрипку». Софья напрашивалась давно, отчего ему стыдно было заходить в шахтовую бухгалтерию, где она работала расчетчицей. «Когда пригласишь на скрипку?» – всякий раз говорила, краснея. И говорить старалась тихо, но столы – сплошь, и ее сотрудницы, попрыскивая, ниже склонялись к бумагам. «На скрипку!.. – Он выскакивал из бухгалтерии, тоже пылая лицом. – Как на блины...»
– Чего тебе?
– А хоть чего...
«Не искушай меня без нужды», – начал он печально, до щемления сердца. Софья встала к подоконнику, спиной откинулась к раме, наверное, стремясь получше выказать себя.
Но он, уткнувшись в скрипку, уже не глядел на нее, весь объятый жалостью к себе, извлекал звуки густой грусти, обреченности и смирения. Он знал, что исполняет отходную.
Софья, перестав шуршать конфетной оберткой, задумалась, а когда он закончил, тоже вздохнула.
– Господи, неужто была жизнь такая! – Прикрыла глаза, покачала головой. – А ты, Вася, умеешь душу выворачивать...
Он с благодарностью взглянул на Софью и было снова поднял над струнами смычок, но она торопливо положила ему руку на плечо.
– Хватит пока!.. Собирайся, пойдем…
И он пошел...
Головкин почувствовал, как пригрело спину предзакатное солнце, которое его так необычно забеспокоило: «Ольга ведь!..» Он захлопнул сейф и уже готовился подняться из-за стола, да некстати вспомнил, что не написал приказ на Богункова – такая недопустимая забывчивость в работе! «В связи с отказом выполнить наряд и с целью укрепления трудовой дисциплины...» – стал спешно писать, но его прервал звонок.
– Что?! – Головкин непонимающе уставился в разбегающиеся строчки недописанного приказа. Аккуратно положил трубку. «Обвал?! Да по чьей же вине?! Кто виноват?» – зачем-то спрашивал себя, не в силах приподняться со стула.