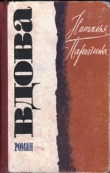Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
17
Операцию матери сделали в совхозной больнице, и через три дня она умерла. Вернее, операцию и не делали, только вскрыли и зашили.
Мать умерла в сознании.
Михаил же, напротив, все эти трое суток был около матери в каком-то помутнении разума.
Она хоть и мучилась – ни разу не позвала себе на помощь.
«За что? За что? За что?» – твердил Михаил, страдая за мать.
И уже когда копал с братьями могилу, тогда и обуяли мысли, четкие и широкие. Знало ли хоть одно поколение на Руси за прожитые столетия столько страданий, сколько выпало на поколение его родителей? Нет, не знало. Уходит навсегда величайшее поколение величайшей силы духа. Уходит, а мы остаемся, не слабые, но не такие...
Так высоко думал Михаил, выкидывая из ямы податливую глину с тусклым блеском на срезах, и память его сужалась до самого близкого и родного. Вот мать купает в корыте его, трех-четырехлетнего. Из корыта валит пар, и вода почему-то зеленая и колючая. Это мать сенной трухи запарила – из иван-чая, вязиля да медуницы с донником. Дух густой – окутывает, кружит голову. Мать ошлепывает, трет его зелеными колючими мочалками сена, и он смеется от щекотки. Белый пар, а за паром – округлое, румяное лицо с блестками капель пота улыбается и приговаривает: «Косточки, распарьтесь, темна кожица выбелись, сына – меленький мизгирь, скоро будет богатырь».
А еще: первый снег из темного неба так накруживал, так вихрил, что от запотевшего окна оторваться сил не было и колени от лавки болели. Тут и вбежала со двора мать, шубу схватила: «Ой, сына, скорей бегом – трахтор едет!» Отец с крыши сарая корм скоту сметывал, возьми да крикни: «Хоронись за плетень, трактор копытом бьет!» Мать так и присела: «Не бойсь, сынок, я с тобой!» А отец хохотал на крыше.
Черное железо, рокоча синим дымом, выкатилось на зубастых колесах из белой падеры. Трактор никто не тянул и сзади не толкал: сам бежал, чудо такое!
«Господи, господи», – вздохнула мать и, перекрестив его, маленького, понесла в избу.
Не в тот ли буранистый день, тревожно осенив крестом, благословила его мать на грохочущую железом жизнь?
Мать, мама... Куда ни метнись памятью, везде она. Если в душе есть еще доброта и нежность, если не растряс ты ее, доброту, на гонких индустриальных дорогах, значит, с большим запасом ею напитала тебя мать со своим молоком.
Разве мог кто из детей сам до долгожданного обеда снять с высокой полки булку да отломить себе краюху? Хлеб могли взять только мать с отцом. Когда хлеб «сидел» в печи, на печь залазить не разрешалось. «Ма-ам, отломи папушки». Хлеб называли «папушкой», «папой», значит – отцом, а для Михаила хлеб начался с матери. Вот она останавливает прялку, достает с полки буханку и отламывает всем. А сама крошки в рот не возьмет – не дело хлеб до обеда есть, – прядет да с такой доброй лаской на детей поглядывает, столько тихого счастья в ее глазах, потому что дети хлеб едят и хлеба в доме вволю.
В сорок четвертом году председатель колхоза Филипп Маркелович Расторгуев, кособокий старикашка, которого когда-то изуродовал бык, вручил четырнадцатилетнему Михаилу литовку. Косить – дело не страшное, бывало, и двенадцатилетние дети косили, но мать тогда побледнела и взмолилась:
– Филипп Маркелыч, пожалей, парнишку! Пожалей, не ставь на косьбу. Пропадет, не живя века.
– Не могу, Марья, – прятал целый глаз Филипп. – Не могу... – тянул он, сам жалуясь голосом.
– Ну, хоть норму сбавь, – пугалась мать. – Мыслимо ли, полгектара!
– Не могу-у.
Кто косил, тому понятно, что такое скосить полгектара, а кто не косил, тому не дай бог испытать это на себе. Тот кольцовский удалец-косарь, у которого раззуживалось плечо да размахивалась рука, бросил бы свою косу и век бы ее в руки не взял, если бы хоть один день покосил с бабами из деревни Чумаковки летом сорок четвертого года.
Михаил всю жизнь помнит острую боль в боках от бесконечного разворота тела – такую боль, будто ребра под кожей одно с другим сцепились и терлись. К полудню у него мутилось в глазах, качалась земля, и он падал лицом в колючий прокос. Приходил в себя оттого, что мать обливала его лицо и голову водой. Увидев ее страдающие глаза, распущенные потные волосы, заплакал от бессилия и жалости к ней.
– Мама, я не скошу нормы. Я не могу встать,
– Я выкошу, сынок, я выкошу.
Он будто сквозь сон слышал поспешное «вшсс, вшсс, вшсс», постепенно этот звук удалялся, глохнул, тогда Михаил поднимался на четвереньки и меж крупных былок морковника глядел на мать, которая копошилась в конце прокоса маленькой серой бабочкой, и странно было думать о том что она, такая маленькая, сможет свалить этот невообразимый лес трав. Опираясь на косье, он поднимался, ждал когда перестанет кружиться перед глазами трава, и, утвердившись расставленными ногами, запускал косу в трескучую от знойного полдня траву. Долго ли, коротко ли махал косой, все больше сужая «ручку» и оставляя огрехи. Опять все начинало видеться, как через мутную воду земля поднималась наклоном, словно намереваясь сбросить его с себя в бездну неба. «Вшсс, вшсс» – мать косила и косила.
Солнце утягивало жар за собой на запад. Заря златоперая полыхала вполнеба. А мать все косила и косила. А когда расплылись по степи прозрачные комариные сумерки, тогда приходили со своих делянок женщины. Они молча заходили прокосы на его с матерью деляне и терпеливо, упорно уже не косили, а добивали, дорывали затупевшими косами его, Мишки Свешнева, норму, чтобы уже при светлых звездах торопиться домой. Часа через три – опять в степь.
Мать закостенела вся, как березовое косье. Обтрепанная юбка болталась на ней занавеской, заплеталась в тонких ногах. В провалистых больших глазах – упорство и какое-то смиренное безразличие. Она уже не стала подходить к свалившемуся Михаилу. Он лежит, а она косит и косит. А он начал маяться животом.
Приезжал Филипп Расторгуев, боком сваливался с ходка и волок свое кособокое тело по валкам, точно подбитая куропатка. Брал у Михаила косу и махал ею широко, заграбисто-близкими к земле длинными руками. Накосившись вволю, отдавал Михаилу косу с обязательным наказом:
– Плечами води, а не руками. В плечах сила. А на траву вроде бы как серчай.
Расторгуев боком, по-петушиному глядел на вихляющие шаги Михаила, на его тонкие, будто хворостинки, ноги, на закоробившиеся сзади штаны, говорил:
– Ты, Марька, поглядывай за ним. В случае чего… это...
– Уходи, шишига! Уходи, а то... – говорила мать звенящим голосом.
Расторгуев, взобравшись на ходок, кричал виновато, тыча в воздух кулаком:
– Ну, а там-то не гибнут, что ли?
А однажды Михаил не поднялся. Мать косила до сумерек. Пришли женщины, ссадив две косы и опутав косья платками, соорудили носилки и помогли матери унести его домой.
Мать оставляла ему на день три отвара: из душицы, бессмертника и кровохлебки. Он пил отвар, а поправлялся плохо.
Время от времени заходил Расторгуев, наваливался руками на деревянный шишак кровати, видно, тяжело было носить калеченое тело, и спрашивал:
– Ну, скоро?..
А между тем подошла осень. Михаил видел, как пожелтели листья у подсолнуха, который заглядывал в окно, и похолодало в избе. А однажды закутало небо и пошел, пошел обложной трехсуточный дождь. Мать осталась наконец-то на весь день дома. Перекупала в корыте малых ребят и Михаила, вынесла из избы скопившийся за лето мусор, сама налаживалась купаться, тянула из печи чугун ухватом, когда и зашел к Свешневым маленький, точно подросток, офицерик с молочно-бледным лицом и с темными пронзительными глазами – участковый милиционер Цимбаленко – с виду целый, здоровый, но говорили, что раненый да еще и контуженный. Кроме обязанностей участкового, Цимбаленко исполнял еще обязанности уполномоченного от района в деревне Чумаковке, жил в конторе, если подолгу не пропадал в деревнях по милицейским делам.
Мать стояла у печи с ухватом, а Цимбаленко сел у окна, устало оглядел сумеречную от хмурого неба избу.
– Вот и осень, – сказал он, кивая в окно, – а сена не накосили..!
– Так дождь ведь, – вздохнула мать. – Какое теперь сено? – И настороженно посмотрела на Цимбаленко: не зря, знать, зашел?
– На току хлеб мокнет. – Цимбаленко сцарапал с галифе ногтями ошлепки грязи. – А он чего лежит? – кивнул на Михаила.
– Хворает, животом измаялся.
– Хворает, хворает, – выдавил Цимбаленко. – Сена нет, хлеб гниет, а они тут – расхворались... Время нашли отлеживаться…
И без того бледное лицо его вдруг стало желтеть, он поднялся, как-то весь дергаясь, и, подступив к кровати Михаила, скомандовал:
– Вста-ать!
Михаил потрепыхался, но встать не смог. Цимбаленко за ногу ловко сдернул Михаила с кровати. Михаил деревянно стукнулся пятками об пол и стал оседать скелетистым телом по краю кровати. Мать с ухватом наперевес пошла на Цимбаленко. Тот даже не отвел рога ухвата. Полез за наганом.
– Руки! – крикнул он. Выстрелил в простенок и тотчас, подхваченный рогами ухвата, загремел через порог в сенцы.
Мать перевела дух, цыкнула на перепуганно плачущих Гришку и Аньку.
– Что же будет-то, мама? – Михаил кутался в одеяло и с опаской глядел на двери.
– А хоть что, – сказала мать спокойно. – Ничего не бойся. Одной смерти не миновать, а двум не бывать. Отвернись, я купаться буду.
Выпроводила младших за перегородку и стала купаться.
К вечеру пришел Расторгуев. Сел к столу так, чтобы уложить на стол свой кривой бок.
– Марька, Марька, – сказал, вздыхая, – что ж ты наделала. Сама пропадешь и детишек загубишь. Он тут стрелял?
– Стрелял...
Мать повела взглядом, отыскивая, куда выстрелил Цимбаленко, и вдруг побледнела. Пуля попала в маленькую застекленную рамку – фотографию старшего брата Степана. Она сняла фотокарточку и, прижав ее к груди, заголосила.
Степан и вправду не вернулся с войны, и мать оплакивала его дважды – еще и потом, когда пришла похоронка.
– Одна надежда на секретаря райкома, – сказал Расторгуев, когда мать немного успокоилась. – Ванюшка должен подсобить.
Цимбаленко увез мать в город, а вслед за ним по осеннему бездорожью утрусил верхом Расторгуев к секретарю райкома Горбунову Ивану Сергеевичу, выходцу из Чумаковки.
Мать вернулась через неделю.
– Ну как же, – рассказывала она собравшимся у Свешневых женщинам. – Иван-то Сергеевич велел меня прямо к нему. У тебя, говорит, два героя на войне? Два, говорю. Вот, говорит, и пускай они там фашистов бьют, а ты тут уж потерпи. Тут, говорит, мы тоже за свое постоим…
– Да подь ты!.. – ахали соседки.
– Истинная правда!
– Против правды не мудруй. Она почище солнца будет. А то стрелять тут!.. Вот и заработал себе ухватом по шее.
– А Филипп-то Маркелыч, сам весь кривой, а душа прямая. Сразу сдогадался про Ивана Сергеевича…
– Ну-у!... – радовались бабы.
Цимбаленко впервые появился в Чумаковке в середине войны. А вскоре совсем исчез – взяли куда-то на другую должность. И только в пятьдесят седьмом году заявился он из области, заявился в гражданской одежде, сразу выказав себя парнишкой-заморышем, и попросился на житье и работу. Говорили, что с большого поста его наладили. Приезду его не обрадовались и интереса к нему не проявили, только не могли понять, почему он пришел в Чумаковку, а не в Чистоозерную, где у него была какая-то родня.
Цимбаленко стал выходить вечерами на посиделки, а там его принялись шпынять за прошлое.
Внуки Расторгуева, Матвей с Григорием, так те даже побили его. А кого там бить?..
Михаил как раз в отпуске гостил. Пришел вечером из степи, а мать в сенцах с кого-то кровь смывает. Пригляделся – Цимбаленко!
– Пойдем-ка, – говорит, – сынок, проводим.
Идут, а у конторы народ на бревнах вечерует.
Мать Цимбаленко за руку к народу и подвела.
– Где Матвей? – спросила.
А тот уж, как медведь, на дыбки поднялся.
– Трус ты, Мотька. Тебя мать родила трусом, трусом ты и помрешь. Со слабым ты герой! А с сильным-то как воевал? Знать, бегал от немца, если в спину поранетый…
Люди засмеялись, а Матвей зло выкрикнул:
– Раны мои не трожь!
– Попробуй тронь человека, – показала на Цимбаленко, который, должно быть, не очень верил в ее защиту. – Попробуй тронь! А тронешь – тогда и поглядим, какой ты!..
С той поры никто Цимбаленко пальцем не трогал. Жил он спокойно, но запил, запил. Придет к Свешневым в ограду, завоет.
– Тетка Марья, Семен Егорыч, выдьте на минутку,
– Да ты в хату заходи, – зовут из окна.
– Недостоин вашего дома. – На колени бухнется прямо в навозные отолочья. – Преклониться перед вами желаю.
– Встань ты, не срамись! – Мать подымала его на ноги. – Зайди, хоть поешь. Замираешь ведь совсем…
Цимбаленко упирался разбитыми сапожонками и в дом так ни разу и не зашел. И вскоре умер.
Мать с Полиной Скорохватовой, когда обмывали Цимбаленко, насчитали на его тщедушном теле восемь ран: весь кругом был опоясан шрамами да синими рубцами.
И потихоньку оплакали две матери, потерявшие на войне своих кровных сердцу, оплакали неизвестно чьего сына, бедового и бесталанного человека.
«А я бы смог, как мать, не только простить, но и пожалеть и отправить с миром на вечный покой человека, причинившего мне зло? – спрашивал себя Михаил и честно отвечал: – Не знаю».
От такого признания его душе делалось так муторно, будто это он совершал зло. «Она своей жизнью меня воспитывала, делом показывала: будь таким, а не этаким, но почему она вершиной взнялась, а я – бугорочком у ее подножия...»
Михаил знал, что сейчас за родной деревней, под тремя березами с обломанными вершинами (а на его памяти здесь когда-то была целая березовая роща) оставляет он не только мать, но и человека, светлый добрый дух которого долго, долго будет звать его.
Мать схоронили на склоне тихого июльского дня, когда совхозный оркестр не мог траурным рыданием заглушить набежистого со всех сторон перепелиного боя, журчания жаворонков и разливчатого печального журавлиного клика из ближних болот.
18
Директора совхоза Цимбаленко увидел Михаил в двухэтажной конторе, похожей на маленький дворец.
Мертвые не воскресают, но Михаила пронял суеверный испуг, когда из-за большого стола крепкими шажками вышел маленький человек. Хохолок льняных волос, острый кадык, голос зычный.
– Пор-р-разительно! – взмахнул Цимбаленко руками. – Кто вошел: Иван? Петр? Григорий? Свешневская порода!
Пожал Михаилу руку, процокал по паркету обратно к столу.
«Поразительно!» – повторил про себя и Михаил. Поразило не внешнее сходство дяди и племянника, но то, что в душе что-то странное стало твориться. Михаилу захотелось взять Цимбаленко за руку, водить по деревням и спрашивать: «Люди, вы помните этого человека?» – «Цимбаленко-то? Да как же не помнить? Но этот – другой». – «Другой, – согласился Михаил. – Конечно, другой».
Цимбаленко пощелкал карандашом по трудовой книжке.
– Я вас слесарем направлю на животноводческий комплекс. Не против? Квартиру получите немедленно. Откровенно говоря, я рад, – говорил Цимбаленко. – Вы с женой для нас – манна с небес! Люди нам чрезвычайно нужны.
– Говорите, люди вам нужны, – не утерпел Михаил. – А вон в Чумаковке людей бросили!..
– А-а, – усмехнулся Цимбаленко. – Это временно. Да и дома у них добротные. С годик еще потерпят.
– Вот-вот – потерпят. Люди многое смогут стерпеть и терпят...
– Ну знаете... Вы здесь не устанавливайте свои порядки, без вас есть кому этим заниматься, – властно обрезал Михаила Цимбаленко.
– Без меня? Это как же без меня! Я здесь не чужой. Это вы... Дядю вашего помню, а вас вот...
Михаил вышел на улицу. Между рядов пятиэтажных домов, словно из гигантских щербатин рта, врывался суховей-казахстанец, крутил пыль, трепал на балконах белье, гнул редкие хворостинки тополей. Небо заметно побурело – это с целины сносило чернозем на север, в Васюганские болота. За домами – выбитая догола степь, длинные ряды железных гаражей, за гаражами рваными клочками разбросано с десяток огородов-пятисоток, а дальше справа – ребрастые серо-серебряные, похожие на авиационные ангары, корпуса животноводческого комплекса, левее – длинное, из красного кирпича здание механических мастерских. «Железно зажили», – отметил Михаил.
Валентина уже работала в магазине и поселилась с Сережей у сестры Анны, а в Чумаковке остался один отец.
Михаил еще раз оглядел Чистоозерную, которая высилась строениями над плоским, как лист жести, пространством, и не поверил себе: как же это по своей доброй воле будет жить в этом поселке, который не только душе, но и глазам-то не мил? А ведь как представлялось-то там, на шахте: дом купить в Чумаковке, работу найти покрепче, завести корову, овец, само собой и кур-гусей, огород... Мечталось, как в зимнюю стужу входит в сумерках в натепленную терпкость сарая, где широкая, на коротких ногах, самая добрая на земле животина, вздыхая, дышит в лицо утробным травяным жаром; где в отгородке толпятся овцы, выставив на тебя каждая по паре зеленых фонариков-глаз. Представлял, как поит он их из ведер, убирает навоз, мечет сено в ясли... А потом сразу не идет в дом, стоит на дворе в затишье от стога, смотрит на белые и пухлые от мороза звезды, прислушивается к жутковато-темному пространству степи, и благость сходит на душу оттого, что тепло и сытно скотине и что сам сейчас войдет в сухо натопленный дом, где разденется, отходя потихоньку думами от дел своих, сядет за стол и будет читать умную книгу, изредка отрываясь от чтения, чтобы, глядя на толстую наморозь окон, подумать, повспоминать.
И весенняя, и летняя, и осенняя жизнь представлялась Михаилу в родной деревне – и все того добротней и прекрасней. Но он хоть и догадывался, но гнал от себя эту догадку, что мечтает о деревне своей, о прошлой, которую тут уж почти все позабыли, кинулись к новой, которую и деревней-то назвать язык не повернется, да так спешно кинулись, что впопыхах позабыли не только старый уклад жизни, но и старых людей...
Но если говорить по правде, то не вприпрыжку, конечно, бежали люди от старой деревни к новой, они ее, новую-то, долго и трудно строили. «Пока я три года служил в армии да двадцать лет, как сказал Черняев, выращивал шахту и рос сам, они тут двадцать лет выращивали деревню и сами росли. Моя беда, что все годы на шахте я жил с душой крестьянина, тянулся из-под земли на землю, но с какой же душой я вернулся сюда? Кто я здесь?» – спрашивал себя Михаил, шагая в Чумаковку меж набежистых волн пшеницы придорожного поля.
Он растирал в ладонях колосья с младенчески-молочным зерном, нюхал, пробовал на вкус: но ни запах, ни сладковатый вкус не напоминали ни вчерашний день, ни прошлый год, а что-то далекое-далекое, почти за пределами его памяти и жизни, и меж этим далеким и сегодняшним ощущалось громадное пространство любви к родной земле.
Он стал гнать от себя думы, а они – что воробьи на бурте зерна: сколь ни гони, опять слетаются.
Из переулка верхом на саврасой лошади выехал Антон Лабунов, по прозвищу Лабуня. Такие мастера чумаковцы фамилии на свой лад обтесывать! Лабуне далеко за семьдесят, но выглядит моложе своих лет, а уж если в седле, то прямо спортсмен. Михаил невольно улыбку распустил по лицу. Сколько он им, ребятишкам, скачек устраивал! Председатель колхоза Никита Семенов, помнится, и на собраниях его ругал, и трудодней лишал за то, что в баловстве лошадей тратит. «Не жалей, – трубил Лабуня. – Я защитников Родины учу». – «А я жалею? – сердился председатель. – Да они ж, мартышня, вон какие, все спины лошадям протерли».
У Лабуни маленькое, сухонькое тело, но длинные жилистые ноги врасширку. Ходили слухи, что в гражданскую Лабуня долго не знал, к какой стороне пристать, но у белых его никто не видел, а у красных с тем же Никитой Семеновым вместе служили. «Так у белых-то бывал?» – допытывался какой-нибудь досужий мужик. «А што, спытать хочешь?» – отвечал Лабуня, и губы его маленького рта сжимались в гузку, а подбородок заострялся клинышком. И любопытный отставал, потому что помнили, как за такой вопрос Лабуня хряпнул об стену амбара семипудового Авдея Тонких: поднял, как полено, и швырнул, и у того «подборы» сапог отскочили.
Лабуня был первым председателем Чумаковского колхоза и со своей бесшабашной отвагой и лешьей силой «гнул в три погибели контру». Михаил того не видел, какой он был раньше, но сколько его помнил, все он с лошадьми да с ребятишками: «Лошадь одной рукой бей, другой себе слезы вытирай», – запомнилось лабунинское навсегда.
– Кого я вижу, сам не рад! – Лабуню будто смело с седла, и сразу перед Михаилом предстал старичок-раскоряка. – Мы ить так и не потолковали с тобой, Миша. Семен-то Егорыч… Эх, Марька, Марея… Были кони, да и изъездились...
Лабуня надвинул большую кепку на глаза, зашуршал плащом-болоньей, натянутым на ватник, стал доставать курево.
– Ну что ж, вот ты теперя... Сколь ни бейся, а родина держит. Родимая-то деревня Москвы краше, а, Миша? – И вскинул на Михаила свои мутноватые глаза, точно примороженный паслен-поздничок.
– Да ведь нет ее, родимой-то, – пожаловался Михаил, завидуя Лабуне, что для него деревня всегда была и еще есть.
– Как же – нету? Это для нас, стариков, нету. Цимбаленко такого молодца с руками-ногами схватит. Вас, молодых, вперехват-вперегон...
– Тело-то схватит, а душу...
Михаил погладил по плоской бархатистой шее задремавшей лошади, пахнувшей неповторимым запахом веков.
– Не старый еще савраска? – спросил, с какой-то неизъяснимой нежностью произнося слово «савраска», такое мягкое и, думалось, навек им забытое русское слово.
– Во! – хлопнул Лабуня рукой по плащу. – Ну ить... – Он затряс головой. – Ведь помнишь же масть, а! А у нас счас деревенские, а лошадь для них черная и красная. Ну душа! Умереть мне и не ожить! А, к примеру, игреневая?.. – устроил Лабуня экзамен.
– Так это совсем рыжая будет, а грива и хвост беловатые, игренька, значит. А буска – буро-дымчатая, – разохотился Михаил. – Чалый – серый в смеси с рыжим или с вороным, вороно-чалый. – И еще повторил с удовольствием по слогам: – Во-ро-но-ча-лый. А? Дядя Антон! Слова-то какие!
– Миша... Эх ты, дьявол! Любить тебя некому, а мне некогда. – Лабуня потыкал пальцем в подглазья, должно быть, унимал слезу. – Душа живая, живое понимаешь, тогда и красе и слову не умереть. Вот ты – двадцать с лишком лет... А весь прям тутошний. Уехал, завился, а жил бы тут да выучился и был бы заместо Цимбаленко нам, – высказал с упреком. – Да время в обрат не перевалишь. А хорошие люди, они, знать, и там, на шахтах, нужны.
– Нужны, да не всем, дядя Антон.
– А всем и не надо, люба-человек, – готовно подхватил Лабуня. – Напроть надо, чтоб кой-кого трясло от тебя. Я сам, бывало, во! – сделал он крутой взмах рукой. – Ты заходи ко мне домой. Или прямо в конюховку-тепляк. Я там больше. А то заседлаем – да в степь. В матушку-кормилицу. Ею ты рожден, светлый человек!
– Да ладно, чего уж ты меня возносишь, – поскучнел Михаил. – Приду. Ты сам заходи.
А дома отец, приладив к ноге-деревяшке лыжицу, чтоб не тонула нога в черноземе, окучивал картошку. Михаил – за тяпку да к нему. В такую радость работалось! И странно и приятно было оттого, что тяпка не звенела, не скребла по камням, как у него на склоне сопки, а плюхалась в тяжелый мягкий чернозем по самую трубицу.
Картошка выше коленей, ботва толще пальца: прет, растет прямо на глазах, а сирень у окон давно посажена, но мала и коряжиста, и клены такие же: вкривь да вкось. Стволы и каждая ветка коленчаты, суставчаты, корявы – с таким жестким упорством борется дерево за жизнь с лютостью холодной зимы.
– Поступил работать-то? – спросил отец, опираясь худой грудью на тяпку и дыша тяжело, перехватисто.
– Нет, поступлю еще, – ответил мягко, наливаясь болючей жалостью к отцу. – Пошел бы ты полежал, папа. Зачем тебе огород этот?
– Належусь еще, сынок. А то ведь ляжешь, да не встанешь.
Отец, выгнув худую спину, опять мерно и забывчиво задвигал руками. Весь в задумье, весь в себе все эти дни после похорон, а по ночам не спит – то сидит на постели курит, а то уйдет во двор и долго-долго не возвращается.
Михаил одевался и выходил к нему на лавку, где он, уложив руки в колени, сидел, перегнувшись, со своими скорбными думами.
– Что ж ты, сынок, поднялся – до свету еще далеко, – говорил отец, а Михаил по тону его голоса знал, что отцу лучше оттого, что его не оставил сын одного.
– Да я выспался уж. К ночным сменам приучен, так...
Михаил тоже спать не мог. С вечера забудется часа на полтора-два, а потом хоть глаз коли. Думы, бесконечные думы – ни сна, ни покоя. Так широка, так велика жизнь одного человека, что даже думами во все уголки ее не заглянешь, не проверишь. А оказывается, что твоя жизнь – это жизнь не одного человека: так ты весь опутан, окружен другими жизнями, судьбами, так плотно и широко пронизан ими твой дух, что и одинокая маленькая жизнь одного становится не одинокой и не маленькой.
«Мы только рождаемся по одному, и никто за мгновение до рождения не знает нашего голоса, внешности, будущей нашей жизни, будущих мыслей, а живем не по одному и умираем не по одному, если даже смерть одного от другого разделяют десятилетия. Брат Степан не один умер, и мать – тоже, потому что мы живем, думаем о них и о живых, но и о мертвых, а значит, и в каждом из нас что-то умерло вместе с ними, и чем ближе та последняя черта, тем все крепче связь с живыми и мертвыми. Отец теперь, наверное, продумал всю нашу жизнь наперед и не раз уже примерился мысленно, как он будет лежать рядом с матерью на вечном покое».
Так уж не одну ночь они сидели рядом, и отец, словно понимая его мысли, сказал:
– Сынок, а тебе поспокойней надо бы жить и спать надо. Тебе еще рано думать так, как я думаю.
...Михаил направился в дальний угол огорода к березе и вдруг стал столбом – березы не было. Вернее, от нее был высокий, метра в три, пень и вроде бы не пень, а половина березы с двумя зелеными ветками около зачерневшего омертвелого верха. «Да когда же это она? Приезжал в отпуска – все была. И сразу...»
– Да вот уже года два, как почернела и подломилась, – пояснил отец, – ее твой дедушка Егор сажал. Пожить бы ей еще надо было, а вот... У березы с человеком век равный. Пожить бы надо, а она что-то рановато.
– Болезнь какая-то. У них тоже болезни бывают, – сказал Михаил никлым голосом, вспомнив про яблоню, разорванную бурей: «И Ель мою с Изгибом По-лебяжьи ущербило в вершине. Уехал второпях, не сходил к ней».
Но посидеть им не дали. Прикатили на «Жигулях» Иван с Петром и Анна с Валентиной. Анна сразу начала выговаривать отцу, чтоб не смел больше браться ни за какие дела, и увела его в дом. Валентина вслед за ней понесла сумки, в которых были закутанные в полотенца кастрюли с горячим варевом, а братья уселись на скамейку какие-то молчаливые и даже обиженные. «Чего это они?..» – покосился на них Михаил.
– Ну, ты чего, вообще-то, – начал Иван. – К нему по-доброму, а он... Повернулся и пошел. Цимбаленко мужик дельный... Ого, какой! Не смотри, что ростом мал.
Валентина растапливала лежанку и одобрительно прислушивалась к Ивану.
– За директора, что ли, обиделись? Ну? – Михаил внешне весело спрашивал, а братья старались не глядеть ему в лицо. – Ты же сам сказал: приедешь – увидишь. Вот я и хочу поглядеть.
– Чего глядеть? В общем, давай к нему завтра…
Михаил молчал.
– Сорок человек кадров по совхозу не хватает, – бубнил Иван. – Директора ведь тоже понять можно. С него тоже спрашивают.
– Чего ж ты гундишь, Ваня? Да пускай хоть четыреста не хватает. Вы там у теплых батарей греетесь, в телевизоры поглядываете, а родители ваши лампешки жгут... Позанимали родительские квартиры, вам и хорошо.
– Да при чем мы?! – набрал голос и Иван. – Нам, по-твоему, за девять километров на работу ходить? Он, гляди-ка, прилетел, страдалец, а мы тут чурки. На работу-то нам как?
– Ходить отсюда, раз выхода нету...
– Ну, поглядим, как ты будешь ходить, – пообещал брат. – Тогда что скажешь!..
– А Миша правду говорит, мы сами виноваты, – заговорил Петр, с опаской косясь на Ивана. – Надо было упереться. Мол, не поедем, пока стариков не переселим. Нашли бы квартиры, куда бы они делись. Они и теперь у него резервные есть, квартиры-то. Ждет, кому их дать.
Иван, обиженный, ушел к машине. Валентина подсела к Михаилу, и Петр, заметив по ее лицу, что он тут лишний, пошел в дом к отцу.
– Что же, Миша, так и будем жить? – Оглянулась на двери, спешно прижалась к нему тугим боком, вычастила с жарким смешком: – А я уж соскучилась...
– Ну и приходи сюда, хоть дня через два. Что тут прогуляться… Отца же нельзя оставлять одного.
– Нельзя, – согласилась Валентина. – А как же, когда работать начнешь? Не находишься.
– Там видно будет.
– Ты, Мишок, уж и верно, не лез бы на рожон. Они же, наверно, тоже тут думают, как им лучше...
– Не буду лезть. Не буду. Все, – твердо пообещал Михаил.
Говорят, не шло бы время, не пришла бы и пора. Но шло оно, время Михаила, и быстро шло, и пора его пододвигалась.
Михаил ремонтировал на животноводческом комплексе немудреную для него технику: автопоилки, водопровод, скребковые и ленточные транспортеры, чем-то напоминавшие ему старые конвейеры шахты, и ходил ночевать в Чумаковку.
Отлетела в золотой осенней тишине клочковатая и белая, точно вата, паутина, подошло мрачное, слякотное предзимье. Валентина грозила:
– Оформлю квартиру на себя. Сколько же мыкаться-то нам по чужим углам? Семья мы или кто?
Михаил понимал: правда, так нельзя. Семья не семья, и сам тут только слесарь, а не человек.
– Домой не тянет? Не тоскуешь по родине-то? – спрашивал жену, втайне желая услышать от нее, что тоскует и просится домой.
– Какой там, – печалясь, вздыхала она. – Во сне – все дом и дом. И Олег покоя не дает. Написать ему, пускай едет сюда. Техникум-то и тут найдется. Здесь жить можно. Люди хорошие и поселок какой! Лучше города поселок. А квартира-то, Миша!..
– Потерпи с квартирой, Валя, – душевно просил он. – Поживем с отцом, а нет, так рядом с ним. Вон сколько домов пустует. Сережка зиму у Ани проживет, а на работу на лошади ездить будем. Еще как и хорошо на лошади-то! В кино только и видела русских красавиц на тройках, – старался Михаил шуткой сбить жену с ее прицела, переманить в Чумаковку. – А чем ты у меня не красавица?
Обнял ее, тугую, матерую, и отпрянул, чтобы зря не дразнить себя при белом дне, когда отец сидит за рассохшейся дощатой заборкой.
– Вот! Вместе и врозь. Жизнь разве? – сказала Валентина, отворачиваясь и оправляя платье. – Все равно нашу квартиру Цимбаленко старикам не отдаст, не жди. Их летом перевезут, в новый дом будут вселять.
– Вот и мы вселимся за ними следом. Полгода подождем. Старики будут ждать, а мы чем лучше?
– По-твоему все равно не будет.
– Будет. Не пойду в квартиру вперед стариков – вот и по-моему.
– Да ты собираешься ли тут жить? – с подозрением поглядела на него жена.