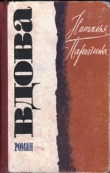Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Александр Никитич Плетнёв
Шахта
1
Тот сентябрь в Приморье был тайфунным. Из-за сопок с океана врывались в долину тугие, рывучие ветры, плотно забивали низкое небо темно-серой массой, и проливались хлесткие, долгие дожди; реки и речки сносили мосты, рвали плотины, затопляли жилье, и даже через монолитную бетонную крепь ствола шахты пробивалась вода, обваливалась в глубину; штреки становились сырыми, скользкими от насыщенной влагой струи воздуха, и тогда тяжело работалось в забоях.
Начало осени – время тайфунов, но обычно пронесется за месяц два-три ветродуя-водолея, коротких и буйных, а меж ними и после них – дни, будто выкованные из золота, и небо из крепкой сини натянуто над долиной – от сопки до сопки. Но тот сентябрь был особый; видно, один и тот же тайфун толокся на одном месте, вихрил и не хотел уходить.
Михаил во вторую смену работал до часа ночи, и едва кончилась смена и остановились конвейеры, а уж напарники на ходу надевали куртки на пропитанные потом рубахи, пригнувшись, как перепелки в скошенной траве, спешно уходили гуськом: «шух-шух-шух». «Догоняй, Михаи-ил!» – едва донесся голос, свет истлел за ними – и тишина.
Он сбросил с себя майку, выжал пот, а когда надел ее, выжатую, то будто змеи опоясали тело, – до того показалась холодной. Снял с деревянного колышка, вбитого в рудстойку, куртку, перекинул через плечо ремень самоспасателя-противогаза и, скользя спиной по рудстойке, сел на почву. «Хлещет, должно, на-гора», – подумал, почему-то беспокоясь, и чувствовал вместе с беспокойством истомную слабость: ни рукой, ни ногой не двинул бы. Не помнил, чтобы такое с ним было раньше, но только левая сторона груди вся затяжелела и хотелось спать. Безлюдная тьма лавы едва дышала почти горячей рудничной атмосферой, словно этот воздух исходил из пасти зверя. Михаил торопливо допил из фляги теплую воду и опять расслабился, затих, прислонив голову к рудстойке.
Звуки, оказывается, жили, – это после металлического лязганья конвейера, глухого грохота комбайна лава показалась пустой. «Гук-гук-гу-ук», – где-то далеко вверху лопалась, разламывалась порода, будто кто-то работал там, долбил обушком. «Ах-х, кох-х, уф-ф», – стонали, кряхтели рудстойки, медленно погибая под тяжестью, а в самом тупике отработанного пространства лавы, где рудстойки почти все были поставлены «на колени», обрывались, глухо шлепали коржи породы, шлеп-шлеп – редко так, вроде кто-то ступает: ступит и прислушивается, и опять сделает шаг-два, и вновь затаится.
«Яшка ходит», – говорят шахтеры. А бывает, во время работы вдруг «заиграет» кровля, хлынет порода обвалом, и какой-нибудь шахтер то ли в шутку, то ли всерьез кричит из безопасного места: «Яшка, ты чего на своих-то?! На своих-то ты чего?»
Давно-давно, когда еще и дед Андрей в шахте не работал, рассказывают, трудился забойщиком паренек Яшка. Любили его на руднике (тогда углем в долине владел капиталист, а вместо теперешнего города Многоудобного Плывунный рудник был) за вольный нрав; часто он подбивал шахтеров на бунты против хозяина, ну, хозяин подговорил своих слуг, те и устроили обвал, захоронили живьем Яшку в глубокой земле у самого угля. Люди побоялись хозяина, не стали сразу Яшку откапывать, а потом будто бы решились, да не нашли Яшку в завале – ушел он сам, а как и куда – неизвестно, больше никто никогда его не видел. Только ходит он с той поры за завалами, над старыми и новыми забоями, то забудет про свою обиду, и тогда не давит кровля, не обрывается сверху порода, и работается людям спокойно, то вдруг разбушуется, разгневается, и начинается усадистое давление, размалывает крепь, до угля на животе еле проползают, а там Яшка наберет в горсть мелкой породы и сыплет, как горохом, на каски да спины – это самое опасное, когда мелочь «закапает», «задождит». Яшка предупреждает: уноси ноги! «Капеж» не обманул ни разу – обвал не минует.
Складно люди придумали эту печальную легенду. Может, и не было Яшки в жизни, но уж приметы подземные знай-ведай, коль в шахту пришел, не гордись, приглядывай за каждой-мелочишкой, думай-соображай, иначе Яшка этот набьет тебе шишку или того хуже, Тут чистый опыт, и ничего больше. Науки нету, чтоб изучил – и работай. Ни одна умная голова для шахтерского дела такой науки придумать не могла. Так и называется: «горное дело», а раньше горным искусством называли. Вот как – искусством! А искусство, как известно, дара и таланта требует...
Михаил сидел, отдыхал, слушал жизнь потревоженных недр и по гуркотящим, шлепающим, тяжело отпыхивающим звукам почти точно знал, что происходит в породе над его головой, знал, что лава «постарела», что кровля «затяжелела» над ней, и если лаве не сделать ремонт, то через сутки-двое кровля «сядет по-черному», то есть запечатает лаву обвалом вместе с конвейером и комбайном. Потом ему подумалось, что кровля терпеть больше не станет и «сядет» прямо сейчас, но уходить не поторопился – так тянуло тело к почве, что и осторожность пропала.
Перед спуском в шахту Михаил напомнил начальнику участка Василию Матвеевичу Головкину, что надо приостановить лаву для ремонта, но тот подозвал тогда Михаила к столу, словно ему не хватало сил говорить на расстоянии трех метров, и сказал каким-то мятым, жеваным голосом, что и вплотную было еле слышно:
– Ты, Свешнев, знаешь главное качество шахтера? – И сам же ответил: – Это смелость, находчивость, риск, конечно. Выдержит еще кровля!
Борис Черняев, горный мастер двадцати с малым лет, что-то старательно записывал в замусоленный толстый журнал и тут бросил ручку, уставил удивленное лицо в такого непривычно смелого Головкина.
– Здесь, конечно, не опасно... – показал на стол Черняев. – А лаву надо закострить! – сказал с упрямым вызовом.
– Закострим в свое время, – мягко, но настойчиво клонил к своему Головкин. – А сегодня я с вас уголь спрошу...
Михаила Головкин тоже немало удивил.
– Ефим! – окликнул бригадира Колыбаева. – Слышал, что я сказал? И ты, Петр...
Петр Азоркин в углу, у дверей, пытал Валерку Ковалева:
– Кроху имеешь?
– Чего?
– Ну девку, – скалился Азоркин. – Слушай сюда, – басил он приглушенно. – Я тебя научу. Лошадь, говорят, бойся сзади, а бабу спереди...
– Хы-хы!.. – тряс Валерка кудрями и краснел. – Как это?..
– Петр! Ефим! – звал Михаил. – Не касается, что ли?
– Раз начальство решило... – Азоркин выказал из-за спин смуглое горбоносое лицо. – Чего дуть-то против ветра! – И опять к Валерке: – Эх, мне бы твои годы...
– Ладно, на месте увидим, что делать. – Колыбаев лениво разглядывал по-совиному желтыми круглыми глазами заправленный кузнецом гаечный ключ, стучал серым горбылем ногтя по фиолетовой стали. – Недокалил, сапожник. Не ключ, а репа, – ворчал незлобно, будто разговор велся не о лаве, а о ключе.
– Свое дело знай, Свешнев, – почувствовал поддержку Колыбаева Головкин. – Если каждый будет не в свое...
– Вы чего крутите-то? Не против ветра, а против себя дуем!..
– Закострим лаву, – уже слабее настаивал Черняев. – И дуть тут нечего.
– Садись, Свешнев. Сядь, наряд мешаешь давать, – задвигал Головкин губами, похожими на грибы-моховики.
Михаилу подумалось некстати: если хлопнуть Головкина по плечу, то из-под ладони пыхнет зеленый дымок тлена. «А ведь лет на десяток старше меня... И всю жизнь не подымался из-за стола. Видно, без движения тела и души трухлявостью взялся». И показалось, скребни его, сделай прорешку – и вытечет он, осядет, как пустой мешок. Но все же сидела в Головкине какая-то пружина, постоянно и монотонно двигающая его, как шестеренки часов. Все уж привыкли к тому, что Головкин такой: размазня-тесто, ни себе, ни людям радости. Ну и ладно, дыши себе, сопи, поглядывай на все осоловелым взглядом, а мы сами по себе, в свободе, без понуканий и нажимов, станем вести забои, выгонять на-гора уголь. Да, станем... если бы так все было! Пухлая рука Головкина много лет вела участок, будто лошадь под уздцы. Не было ее, свободы-то, – невидимый поводок-то, похоже, крепкий был. Ах, черт, да кто же с этого поводка рвется? Колыбаев? Так он в молодости свою меру определил: «Мне, – сказал как-то, – все равно: хоть уголь лопатой наваливать, хоть тебя на этой лопате по штреку возить – лишь бы деньги платили». Черняев вот появился, как штычок ранневсходного злака: прямой до опасной хрупкости. Его самого беречь надо, пока не поймет, что прямо сорока летает, да дома никогда не бывает. Такого даже Головкин без натуги через колено сломает.
...В начале смены в лаву со штрека вползали по-собачьи на четвереньках – до того вход в лаву зажат. Азоркин последним вполз, на четырех костях стоя, подурачился: руку вытянул, словно лапу в стойке, слух насторожил к «разговору» кровли.
– Гав, гав!
Колыбаев крутил головой, большой и круглой, оглядывал кровлю. Шеи у него, казалось, совсем не было, и голова крутилась прямо в плечах, точно в шаровом соединении.
– Мышеловка-западня, а не лава... – заключил и неторопливо разделся до майки, открыв бочкообразное тело на коротких толстых ногах.
– Ты, Ефим, совсем что-то врасширку пошел, – оглядел его Азоркин. – Тебя, как бочку, катать можно, ей-богу.
Валерка Ковалев, шахтер-первогодок, как сидел на конвейере, пил воду из фляги, так и повалился, взвизгивал по-девчоночьи, вскидывая ноги в резиновых сапогах последнего размера.
– Ну ты... жердина! – Колыбаев уставился на Валерку выпуклыми глазами, словно их кто выдавливал изнутри. – Кабель вон за комбайном расправь – весь в узлах...
Валерка с услужливой виноватостью кинулся выполнять приказ, осклизаясь на кусках угля, ударился каской о сломанный верхняк-перекладину, отскочил да об рудстойку плечом пришелся.
– Спокойней, Валера! – крикнул Михаил и с сожалением подумал: «Ему и на-гора небось тесно, а тут, как в клетке, бьется. Вымахал, угловастик. В шахту залез, дурачок. Сколько профессий под солнышком наплодилось, а выбрать не смог, научить, видно, некому. – И тут же на свое перекинулся: – Тьфу, разжалелся, а у самого, учителя, сын не в горный ли техникум пошел?..»
Думая о такой несуразности, удивляясь ей, Михаил, однако, помнил и о настоящей минуте.
– Так как, мужики, костры будем выкладывать? – обратился к напарникам.
– Не было наряда кострить. Я за двести тонн угля расписался, – сказал Колыбаев, перематывая осклизшую от пота, шибающую тухлостью портянку. – «Москвичи» опять на шахту пришли... – внезапно сменил он разговор. – Комаров говорит, бери автомобиль, а тут три тыщи, ну никак, хоть умри!.. – Бригадир хлестнул портянкой об рудстойку, задумался все об одном и том же: когда к пяти тысячам рублей он сможет добавить еще три и купить машину. Вид у него был разнесчастный постоянно, если кто заводил разговор о машинах. Пять он скопил легко, а на трех тысячах «забуксовал» – дети стали старшеклассниками.
– Вонючий же ты, козлина. – Азоркин брезгливо сморщился, укладываясь на доску-семерку. – Лень в стирку сдать... Ты и «Москвича» завоняешь.
– Тебе что, спальня тут?! – окрысился Колыбаев и, надувшись, закричал Валерке: – Узнай та-ам! Запустят, нет конвейер, в крестителя их мать!
– Ты чего, Ефим: «Наряд, наряд!» Сам же сказал, посмотрим на месте. Ну, гляди... – Михаил направил сноп света в отработанное пространство, где кровля, перекалечив крепь и нависнув брюшиной, едва не касалась почвы. – Ей же и помощь-то небольшая нужна. – Он говорил о лаве, как о живой. – Пяток костров, часа на три работы, и жива-здорова...
Но Колыбаев в завал не глядел, отвернулся даже, всем видом показывая, что речь идет о пустом.
– Брось ты, Михаил, дуб кулаком перешибать, – сказал Азоркин, позевывая. Он лежал вверх лицом, прикрыв каской глаза. – Кровля садиться начнет – убежим. Ноги в руки – и тягу. Не в первый раз: за двадцать лет побегали. – Зевнул с подвывом, помечтал: – Эх, с часик бы конвейер не включали... Ночка была, скажу я вам! Не ночка, а эта... Курская дуга. Сегодня бы еще после смены, только Райка моя пасти стала. Раньше ничего, а сейчас за каждым шагом следит. Трудно жить, мужики!..
– Пойти позвонить Головкину, что ли?.. Пусть сам поглядит на лаву, он же еще в нарядной сидит... – говорил Михаил не то себе, не то Колыбаеву с Азоркиным.
– Кто сидит? – Азоркин приподнялся на локоть. – Отсиделся наш Василий Матвеевич, к Ольге-киоскерше теперь уволокся. Точно! – поспешно заверил он, заметив, как Михаил и Колыбаев вдруг уставились на него.
– Подь ты, разыгрывать-то!.. – Колыбаев попробовал выразить безразличие на лице, но не выдержал. – Он же это... еле ходит. Зажирел, как гусак в мешке, а Ольге много ли больше двадцати?
– Дурак старый! – Азоркин поднялся, хохотнул. – Хмельной, целоваться ко мне лез: «Петя, Петруша, не ты, так умер бы, не познав счастья, – подражая голосу Головкина, гундосил Азоркин. – Вроде кто-то ожил другой во мне». Тьфу! Противно глядеть на него. И Ольга – умру, дескать, без тебя. Это Ольга-то умрет без него, жирного борова. Ну, сдохнуть мне! Я же Ольгу передал ему со всеми рекомендациями и правилами эксплуатации, – с циничным наслаждением пояснил он. – Она мне то же самое говорила...
– Закрой помойку! – оборвал Михаил Азоркина. – Захлебнешься когда-нибудь…
– А ты...
Комок породы с килограмм скользнул из-за верхняка, долбанул Азоркина по хребту, тот аж подпрыгнул, сгорбившись, зашипел от боли по-кошачьи.
– Ха-ха, – тряхнуло смехом бочку-торс Колыбаева. – Яшка знает, за что бить!..
Азоркин выворачивал руку, силясь достать ушибленное место, сипел:
– Завидуешь, Миша! Всю жизнь один хлеб ешь, вот и завидуешь...
– Оскотинился ты до крайности! – Михаил подтягивал зубки на рабочем органе комбайна, даванул на ключ, тот сорвался, козанки сжатого кулака встретились с литым зубком; боль прошла по костям в плечо, стеклась в сердце, озлобляя его и обессиливая. – Девку-недоростка растлил и хвалишься... Браконьер!
Работать он старался спокойно, боли напарникам не выказал, только до ломоты сжал зубы да глаза за припухлостью век глубже упрятал.
– Чего браконьер? – Азоркин было улегся, но резко сел. – Она и недоростком была, вон, – стукнул по доске, – рудстойкой не свалить! – Повалился опять на доску, сказал мирно: – Нашел кого жалеть! Баб жалеть!..
Слова Михаила, видно, нисколько не задели Азоркина. Вид у него был сонливый, точно у кота, разогревшегося на печи. Подперев голову рукой, плавно изогнувшись так, что грудь и спину, будто коваными латами, облекало мышцами до тонкой поясницы, Азоркин цедил ленивый взгляд через полусмеженные ресницы и лениво говорил:
– Браконьер!.. Не со мной, так с другим... Ольга эта... Они такие, как перезрелые орехи, раскалываются. Самостоятельную-то не шибко... Жалел бы я их!
– Что ж, ни одна не придавила сердце-то, самостоятельная?.. – с робкой надеждой попытал Михаил.
– Нет, ни одна. Да мне она никогда не встречалась, самостоятельная-то. – Азоркин слабо пожал плечом: дескать, что делать, если все такие.
Монотонно, словно заведенный, Колыбаев точил брусочком топор. «Черт бы с тобой – живи, как хочется, – думал об Азоркине Михаил. – Только Ольгу-то развратил и Валерку теперь развращает...»
Одно удивляло: почему тянет к нему женщин? Красивый ветродуй, лишь бы сегодня прожить, а завтра хоть солнце не всходи – этим, что ли, привлекает их к себе? Мою Валентину хотя бы взять – замужняя, двухдетная, а тоже тянет заглянуть в чужой огород, хоть и знает, что Азоркину еще ни одна не нужна была на всю жизнь.
Всякий раз, когда Азоркин приходил к Свешневым, то вроде в шутку обнимался и целовался с Валентиной в прихожей, и потом в комнате как-то все оказывался рядом с ней, шутил с намеками, грубо; то за руку ее возьмет, то приобнимет, а глаза похотливые, откровенные. «Да ладно тебе, да отстань, – притворно возмущалась Валентина, но Михаил видел, как она слабела вся, щеки ее пылали, глаза туманились. – Миша, защити...» И все посмеивались. И Михаил поддерживал смех, стараясь изо всех сил показать, что все здесь чисто, невинно. Смех получался искусственным, потому что ему было стыдно за Азоркина с Валентиной и за себя тоже. Особенно было стыдно за Валентину. Не замуж же она за него собиралась, замужняя и детная, да еще зная о дурной славе Азоркина.
Азоркин вызывал Михаила покурить, и нарочито в подробностях рассказывал о своих последних любовных потехах, но вдруг менялся в момент, обмякал.
– Не знаю, Миша, – грустил Азоркин голосом. – Я им во, – показывал большим пальцем кончик мизинца, – ни на столько ни одной не верю...
– Да-а, тяжело тебе, – хитро сочувствовал Михаил. – И я помочь ничем не могу, чтоб они все тебе верность сохраняли, Тут, знаешь, что? – отламывал от куста сирени ветку. – Ты замок каменный выстрой. Так? Тут – ров, железные двери. Евнухов найми. Ну, как эти... ханы. Правда, власти не позволят... и деньги опять же... У тебя своя-то семья в каком домишке?..
– Смеешься?..
– Горе твое смешное. – Михаил резко отбрасывал ветку. – Не мужское горе! Плакал бы с тобой...
– И заплачешь, – обещал Азоркин. – Вон она, – кивал головой в сторону веранды, откуда поглядывала на них Валентина. – Плывет, что масло на сковородке. Веришь ей?
– Твое-то дело, верю, не верю? У тебя жена есть. Вот и испытывай на ней свою веру.
– Испытывай! Может, я ночью в шахту, а она... – Азоркин сплевывал, делая обиженное лицо, замолкал.
– Сколько же ты своим ядом жизней потравил!.. – На бледном лице Михаила проступал морковный румянец, так, казалось, униженно звучали эти слова, точно пощады просил у Азоркина, дескать, не трогай мою семью. И Азоркин так, должно быть, его и понимал, носогубные складки потягивал то ли в сожалеющей, то ли в презрительной улыбке.
– Боишься?..
«Боюсь», – хотелось Михаилу признаться. На вопрос Азоркина не отвечал, сам спрашивал:
– Семьи рушишь... Детей-то чужих не жалко? Да и свои есть...
– Чего?! – недоумевал Азоркин. – А-а, вон ты к чему! – Шевелил раздутыми, как у норовистой лошади, ноздрями. – Жить тоскливо! – говорил и уходил, не прощаясь.
Азоркин за калитку, а с Валентины тотчас же слетало веселье – мрачнела, делалась раздражительной. Михаил знал, как ей хочется, чтоб он задел ее словом, а она бы потом нашла повод, как вывернуть это слово против него, излить на него свое раздражение. Но он молчал, этим пуще раздразнивая ее. Валентина опасно гремела посудой, суетилась по дому, словно в спешке искала чего; мимо Михаила проносила свое крупное перехватистое в пояснице тело, аж ветром опахивало: «Ничего, попылай. – Михаил усаживался с книгой на веранде, у широкого, во всю стену, окна. – Темное выгорает в тебе, бесит твою душу. Светлое-то так бы не гоняло тебя, а тихой печалью придавило бы». А Валентина, глядь, и в самом деле притихала, что делала – не видела вроде. Вот тогда и забаивался Михаил. Терпел, терпел да и не выдерживал, спрашивал:
– Ты чего, захворала, что ли?
– Ничего, – отвечала таким тоном, что ясно: он заранее во всем виноват. А на правом глазу ее при этом коричневая крапинка-треугольничек расплывалась, тонула в глубокой темной серости. А коль утонула крапинка, значит, правды от слов жены не жди – признак верный. И еще, это в гневе она, когда крапинка тонет.
– Захвораешь тут... Ревнует к каждому пню... – Литыми вислыми плечами подергивала, ровно кто неприятный прикасался к ним. – К Азоркину ведь ревнуешь!..
– Ладно!.. – суровел Михаил. – Галька вон, Лыткова... выздоровела. Одна с троими осталась, так... ни кожи, ни рожи теперь. Вылечил Азоркин...
Валентина вздрагивала и напряженно, словно в ожидании удара, склонялась над столом. Лицо ее калилось жаром, и даже полоска пробора на голове розовела. «Вот сейчас взорвется, если я несправедлив, – ждал Михаил. Но Валентина – ни слова, и сердце его провалисто затихало, холодело, будто в груди стылый сквозняк гулял. Видно, и вправду мутили бесы душу – ни соврать, ни правду сказать. – Охота тайком сладкого полакать, и не больше, потому и сказать нечего…»
...Азоркин спал в одной майке на сырой доске.
– Ефим, прикрой его. Наспит чахотку.
Колыбаев не приостановился, точил топор. Михаил вылез из-за комбайна, накрыл Азоркина спецовкой, подоткнул полы под его твердый, точно дерево, бок. Азоркин тянул носом насморочно, не просыпался. Спит Азоркин, такой беспомощный во сне, и грубоватые красивые черты лица его смягчены едва заметной улыбкой. Что ему снится? Да ясно, что спящий не свои думы думает. Левая ладонь полускрючена в серых острых полосах мозолей; в дюжее ребристое от вен запястье врезался пропитанный потом и угольной пылью ремень от часов – никогда часы не снимает, даже в бане – они у него пылеводонепроницаемые. Азоркин гордится ими и хвалится как-то по-детски: «Во, гляди! – бац часы о рудстойку. – На, слушай». И расхохочется – такая душа нарастопашку. «Черт ты баламутный», – чему-то улыбнулся Михаил. Снял острый блин породы, кажется, на одном воздухе державшийся над Азоркиным, швырнул его в завальную сторону и едва услышал шлепок падения – звук заглушил рассыпчатый треск, словно со всех сторон ломали мелкий сухой хворост. В отработанном пространстве, где день назад в рост стояли, сегодня не проползти – там в кромешней тьме погромыхивало далеким глухим громом да из глубоких разломов кровли с внезапным ливневым шумом вытекала мелочь.
Всего метрах в пятидесяти, а казалось, в недостижимой дали, тусклой ниточкой длиной с полногтя желтел выход из лавы. «Не убежим, если чего. Тут и останемся...» – подумал Михаил как о чем-то обычном и постороннем и, вытянув шею, зачем-то напряженно вглядывался в сторону выхода, и этот кусочек желтой нитки вроде бы уменьшался, чернел, исходя на нет. Михаилу почудилось, что в лаву перестал втекать воздух. Он, будто сглатывал с блюдца кипяток, потянул в себя со свистом и – что вдыхал, что не вдыхал – все равно воздуху не хватало. И вдруг остро осознал, с каким хилым запасом сил крепь удерживает над его головой возможную смерть. «Вот сейчас бы уйти и не оглянуться... Нет, нужно не идти, а бежать. Не успеть шагом до выхода». Но не пошел и не побежал. Двадцати лет не хватило, чтоб уйти – куда же теперь! Михаил присел на корточки, обхватив голову руками, сжался. «Сейчас страшно, а потом – ничего... Азоркину хорошо – спит. Ноль раз, ноль два, ноль три», – отсчитывал. «Тик-так, тик-так». – Прямо в перепонки ушей бил молоточек азоркинских часов, смешиваясь с шумом кровли, а в крепко сжатых глазах – громадное закатное солнце вспухало, вспухало…
Ему вдруг показалось, что разломанный монолит породы коснулся его рук, еще какое-то мгновение удерживаясь на жестких гранях немощной связи.
– Азоркин! – Михаил взбросил от головы руки, спружинил ногами, взметнулся подстреленным зайцем. – Азор-ки-ин!
– Чего ты? – Азоркин, скосив глаза, прислушался, не включили ли на транспортном штреке конвейер. Убедившись, что не включили, переспросил, позевывая: – Чего кричал?
Михаил, точно приходя в себя от морочливого сна наяву, глядел на сонного недовольного Азоркина, на глыбастую спину Колыбаева, который все точил и точил топор.
– Чего, чего, – передразнил, унимая разгулявшийся в теле страх. – Куда дел ключ накидной?
– На кожухе комбайна. Чего шуметь-то?..
– Ну, ладно, ладно, досыпай, – проворчал, радуясь, что позорного его состояния никто не заметил.
Зубки на рабочем органе уже давно были укреплены Михаилом, но он забывчиво тянул и тянул ключом неподатливые стопорные болты, понимая, что страх не прошел, что он обманывает себя, отгоняет страх вот такой бесполезной работой, как обманывал себя давно в детстве, когда ехал один ночью в степи, обмирал от каждого бурьянного куста, темнеющего у обочины дороги, и истерично горланил песни.
Страшно было и стыдно: вот же они, Колыбаев с Азоркиным, спокойны, как и сам Михаил был спокоен тысячи и тысячи подземных дней и ночей, мало отличимых от сегодняшней смены, когда так же трещало над головой, давило, стонало, ухало... Кровли бывали и «легкими» и «тяжелыми», как вот сегодня. И испуг бывал, и опаска, и восторг мгновенного риска, когда в момент успеешь подставить единственную рудстойку, а по-шахтерски говоря, ножку-спасительницу, – но никогда у Михаила не было такого смертельного страха. «За что ж это накатило на меня! Отвяжешься ты, проклятый, нет? – взмолился Михаил, бессильно повисая на гаечном ключе. Потом торопливо ощупал над головой слюдянисто-осклизлую, запотевшую породу. – Завтра, если жив останусь, в шахту не пойду. Все, отшахтерил. Видно, Яшка пометил. Трусов он в живых не оставляет...»
Упрел, вымок не по работе, и голову что-то давило, будто под череп накачивали воду, и руки ослабли. Гаечный ключ был мокрым, и комбайн потемнел от влаги.
Значит, затайфунило на-гора, точно, затайфунило.
Михаил где на четвереньках, где пригнувшись добрался до спецовки, что висела на вбитом в рудстойку колышке, вынул из нагрудного кармана часы. Двадцать пять минут всего прошло с начала смены, а думалось, что все двадцать пять часов. «Вот же до чего перетрясло всего. Уже и я вроде не я. То в любое время, не глядя на часы, ошибался на пяток-десяток минут, а тут... – думал, нащупывая в большом, во всю полу спецовки, кармане флягу с водой, но поймал что-то шерстистое, упругое. – Тьфу, гад, все одно к одному!» – Вынес взмахом руку из кармана с резучей болью в мизинце, шмякнул истошно кричащую крысу в штыб, сразу ощутив подступ тошноты – до того, паскуда, отвратительный грызун!
На мизинце, в месте укуса, бруснично налились четыре капельки. Михаил достал «тормозок», завтрак. С отвращением разглядывал клочковато порванную крысой газету, похватанный с краю хлеб и колбасу. Видно, только распалила аппетит, потому и сидела в кармане, не учуяв опасности. Да и сейчас не убежала; метрах в трех ядовито зеленели две точки ее глаз. Горбатая, длинномордая, с белым облезлым хвостом – водила антеннками усов и скалила узкие и длинные, нависшие, точно бивенки над скошенной по-акульи нижней челюстью, зубы.
Старый откатчик Федор Лытков не однажды рассказывал, как в войну крысы насмерть заели ослабевшего от плохой еды и большой работы его друга-шахтера. Горный мастер с полсмены отпустил того домой, а он полпути до ствола не смог одолеть, свалился, тут на него и напали полчища. После смены шахтеры наткнулись на страшную картину... На этом месте рассказа Федор Лытков туго сжимал маленькие глаза в глубоких глазницах, грабастой рукой схватывался за жилистую шею, словно хотел задавить себя, и просил младших своих напарников «преподнести вина», поскольку его «груди не выдерживают жара терзания» из-за мучительной смерти друга...
Конечно, на Михаиловой памяти на его шахте «Глубокой» крысы никого не заели, но кусали частенько, хотя об этом знали мало, ибо укус крысы считался позорным: значит, сидел, бездельничал, а хуже того, может, и спал где-нибудь в теплой безлюдной сбойке. Да еще частенько крысы оставляют шахтеров без «тормозков». Тут уж не зевай – борьба за существование.
Михаил кинул испорченную еду крысе, та подскочила то ли от радости, то ли от испуга и, вцепившись в обертку, задом, рывками поволокла в сторону завала, и все не спускала зеленые злые точки с Михаила, пока не скрылась за глыбами породы, и тотчас там возникла драка: писк, шум разрываемой газеты, какое-то пофыркивание, будто вспархивали один за одним воробьи. И только тут стукнула Михаилу в голову радостная догадка: «Э-э, да вы, горбатые зверюги, оказывается, все здесь!».
Вот за что и терпели шахтеры это поганое создание – крыса никогда дуриком себе погибнуть не даст, заранее покинет гиблое место. Человеку чего только не дано знать и предвидеть наперед, но почему-то не его, всемогущего, наградила природа, а низменную тварь-крысу таким сверхъестественным чувством-знанием. Уж за двадцать-то лет Михаил Свешнев познал горное дело так, что, кажется, мог угадать, какую рудстойку когда сломает, словно он сам сверху направлял на каждую давление. Не тот ли Федор Лытков еще совсем молоденькому сказал: «Ты, Мишка, будешь шахтером редкой силы из-за того, что в тебе провидимость в самую дальнюю твердь есть, а усадка души – терпеливая. А моего Степку хоть лбом в уголь бей – не научишь. Был бы недоумком, так и спросу бы не было. А то ведь не дурак... Почему? Спрашиваю, и ясности нету».
«Провидимость... с редкой силой, – хмыкнул теперь Михаил. – Ни опыту своему не поверил, ни спокойствию своих напарников. Хорошо, крысы подсказали, а то бы так и бесился».
Опустившись на колени, он попил воды из фляги, прислонился плечом к стойке, прислушиваясь к крысиной драке и отдыхая. Крысы не спеша уйдут из лавы: за сутки, а может, и раньше до обвала, только бы не проглядеть, когда уйдут. И снова Михаил посмеялся над собой: как же не проглядеть! Это сегодня уже полчаса дурью маемся, потому что лаву не кострим и конвейер почему-то не включают, а в обычные-то дни «тормозка» достать не успеваешь, попробуй тогда брось работу да пойди крыс высматривать, чтобы вся шахта над тобой смеялась... «Ну да ладно, а сегодня спасибо крысам, успокоили. Трусу много не нужно: он и в ложке утонет и на паутине удавится, – Михаил не мог простить себе того, что произошло с ним в эти дурные длинные полчаса. – Не-ет, братец, в дворники тебе, в дворники, а то комочком с куриное яйцо стукнет по каске, и сдохнешь от разрыва сердца, как пить дать, сдохнешь».
Размолотая холодная рассыпуха породы потекла на мокрую спину, плечи и не скатывалась с тела, шершавой творожестостью облепляла до самого пояса, за черной от пота и пыли, обвисшей на замусоленных лямках, майкой. «Сыпь, сыпь давай! – Он не увернулся, не изменил позы, зная, что за мелочью может и потяжелее чем двинуть. – Вот так же потом сыпать-то будут. Сперва по горстке бросят, а потом лопатами...»
Он вдруг поймал себя на том, что каким-то глубоко скрытым закоулком души ухватил наконец причину, которая понуждала уйти из шахты навсегда: «Все, все. Какой разговор – шахта трусу жить не даст. Все равно перелобанит. Она тебе поможет решиться один раз – и навечно», – будто не себя, а кого-то другого убеждал, не соглашающегося с ним.
Он цеплялся за эту причину, а она, словно блеклый росток, обрывалась, обрывалась. И тогда он плюнул в сердцах, нагнетаясь весь противной тяжестью непонимания самого себя: «Чего ты дурака-то валяешь? «Уходить, уходить...» Уйдешь... с печи на полати на гнутой лопате. Тыщу раз уж собирался уходить. Ушел он!»
Недорезанным кабаном внезапно заорал пустой конвейер, поволок железные цепи-скребки по вычищенному до блеска желобу-рештаку. Звуки сухие, перекаленные – они будто разламывают череп и песком натирают мозг.
– Включа-ай! – Азоркин подпрыгнул с доски, схватился за уши. – Затыкай ему хайло! Мишка, где тебя черти!..
– Потерпишь, – скорее себе, чем Азоркину, процедил сквозь зубы Михаил. Выключив свет, зачем-то еще с минуту подождал, наблюдая через просветы меж стоек, как озирается, ищет его Азоркин, и стал выбираться к комбайну. «Уйде-ешь, далеко-о уйдешь, куда ты денешься», – продолжал говорить он себе, вкладывая в сказанное какой-то потайной, вроде бы не относящийся к действительности смысл.