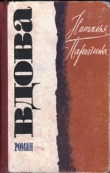Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
– Я? – вскинулся Михаил, словно пойманный на воровстве. – Наверное, собираюсь. Только ты не ломай меня через колено. Думаешь, я дурю? Ты тут человек свежий, тебе проще. А я должен с ними...
– Господи, и тут он должен, – сокрушенно покачала Валентина головой. – Двадцать с лишним лет здесь не жил – и должен. А братья переехали, и ничего...
– Как же ничего? Они уже спохватились, а не спохватились, так спохватятся. Позже им все вывернется, скажется. Так не пройдет. Поторопились мужики.
– Белый ты мой, беляный. – Валентина забродила пальцами в его волосах. – И седеешь и седеешь... Так тяжело живешь – тебя хоть в рай отправь, ты и там сердцу тяжесть найдешь.
– Ничего, ничего, образуется, залегчает, – говорил Михаил, полнясь нежной любовью к жене. – А мне тоже дом наш снится и шахта тоже. Каждую ночь в шахте бываю... Такая проклятущая зараза!
– Может, вернемся? – вроде не спросила, а как бы подтолкнула Валентина. – Нет уж, Миша, приехали, так и нечего летать. И тебе край родной, и родня вся. Такая хорошая у тебя родня, – говорила жена, а он почему-то не радовался ее добрым словам о его родне и удивлялся тому, как она легко отстает от своего кровного и приживается к чужому.
– Во! – Михаил кинулся к сумеречному окну. – Пришла, скрипучая-кусучая! Надо-олго пришла, – радовался он по-детски первому снегу. – Папа, снег пошел!
В передней заскрипела кровать: отец одевался и пристегивал деревяшку-ногу.
– Что ж, – говорил он, кряхтя, – пришла пора и зиме. – Вошел в горницу, оглядел сноху сухо-воспаленными глазами, большой костлявой рукой провел по зажелтевшему широкому лбу, оправляя с него белую полоску волос, и тоже приложился к окну.
– Пришла-а, – подтвердил еще. – На мокрую землю, к урожаю. Снег ночной надежный. – Отлепился от окна и пошел опять к себе в переднюю с каким-то ожившим просветлением в лице: – Готовь, сын, лампу, да печь затопляйте. Зиму встречать будем.
«Чему радуются? – недоумевала Валентина. – Вот уж радость – снег!» – Но сама тоже улыбалась – очень уж приятна была ей такая редкая за последний год радость мужа.
Михаил принес дрова, ведро угля, затапливал печь и все радовался, мечтал:
– Эх, а утречком-то раненько запряжет нам дядя Антон савраску в кошевку, да по первопутку на работу с тобой! Колокольчик бы к дуге – теперь уж, поди, нету колокольчиков…
И правда, славно назавтра прокатились! Савраска, сытый еще летним кормом, ходко пронес кошевку по крупчатой, шуршастой от морозца пороше. Михаилу – в воспоминание, Валентине – в новизну так радостно-коротка оказалась дорога, что про все на свете забыли, и себя тоже, целовались, как не целовались перед свадьбой.
Но набирала силы зима, снег сперва заубродился, потом жестко запесчанился, заребрился острыми застругами... Савраски да игреньки пустые сани не могли тянуть, потому что овес они видели только во сне, как Михаил шахту. Совхоз на лошадей корм не планировал, и они доживали свой век как бы вне закона. «Возьми лом, убей лошадь, а управляющий тебе спасибо скажет», – жаловался Лабуня Михаилу, смахивая со щек скорые от мороза слезы. Кормил он лошадей пшеничной соломой, которую скотина ест только перед голодной смертью. И даже солому Лабуня «косил дугой», стаскивал с совхозного сенного склада.
И остались старики-чумаковцы еще на одну долгую сибирскую зиму. Изредка до Чумаковки проламывался трактор «с товаром»; приволакивали на волокушке-прицепе железный ящик, нагруженный вперемешку замерзшим хлебом, стиральным порошком и прочей мелочью, крайне необходимой человеку. Пустынно стыло девятикилометровое пространство между Чумаковкой и Чистоозерной...
Михаил дважды в день, кроме выходного, мерил пешком эти девять километров, как бы попадая из полувекового прошлого в современный мир – и обратно. От ветра-деруна у него подпеклась, задубела на лице кожа, высинилась пятнами ознобов. На день-два закручивала метель, с сухим просвистом несла верхом и низом белую пропасть снега, и Михаил оставался ночевать у сестры. Валентина радовалась, но радость свою сдабривала колючим осуждением:
– Дурачок ты, дурачок, и я от тебя дурею. Или я тебе так уж постыла, что только буря и загоняет ко мне? И ведь наплетет, наговорит всячины, а я уши развешиваю. Дура!
– Поживем маленько в дураках – терпеливо отшучивался Михаил. – Для интереса.
С Иваном встретились на ферме, и тот попенял:
– Ты не смеши людей-то. Ей-богу, уж смеются.
– Пускай. Смех не слезы – полезный...
– Да нет ты ходи, но не так же, не каждый день, а то и перед отцом нас всех выставляешь. Чего там каждый день-то? Что, отец печь не протопит без тебя? Топливо под рукой, продукты... Мы вон прошлую зиму в тракторную будку все грузили да раз в неделю – к ним. И теперь бы так. Он же не один там...
В голосе Ивана были и просьба, и обида, и виноватость.
Михаил понимал его и жалел. У него к Ивану с детства спрятана в душе особая жалость. Иван голода не терпел или терпел как-то по-своему. Сидит, бывало, на лавке пузатым лягушонком, обхватит босые ноги, поджатые колени к подбородку, покачивается и скулит тоненько. Таким ему помнится Иван всю жизнь.
– Не переживай ты, братка, – попросил и Михаил вытоньшенным от сердечности к брату голосом. – Работа у меня легкая – что же мне не прогуляться. Я, может, для себя хожу-то. Может, я сам на острой ребрине стою – того и гляди не туда ступлю. Я тебе скажу, а ты помолчи пока, никому об этом... Не хочу я привыкать к Чистоозерной. Боюсь. Привыкнешь – и будешь не по душе жить, а по привычке. Уеду я отсюда на шахту, в свой дом обратно, – признался неожиданно не столько брату, сколько себе. – Хоть в одну, хоть в другую сторону глядеть – сложно, не пересказать всего.
Так вот поговорили коротко, и Михаил с того часа как бы сбросил с себя тяжелую противную ношу, но наказал себе не горячиться: не рвать галопом с места – ученый, слава богу, рванул уж раз, а теперь надо собрать, слить в себе воедино то, что так растеклось в нем в последние годы. «Лечись тут вылечишься, все небо твое, – думал едко, вышагивая по своей дороге. – Вон оно, все твое, чего ж не радуешься? В себе света нет, так и на небе не найдешь…» А свет был в Михаиле, да еще какой свет! Он только поубавился было, поослабел, но с первых месяцев приезда на родину в душе словно сквозное дутье наладилось: потянуло, накаляя жар-свет. И тянуло все с одной стороны, оттуда, с востока, из Многоудобного, из садов-огородов распадка. А то дохнет липким, сладковато-терпким неповторимым сквознячком шахты, и тогда сердце заколотится-заколотится неуемно: «Ах ты, зараза, а?! Ну, не зараза ли! – охватывала Михаила саднисто-печальная радость. – Имеем – не бережем, потеряем – плачем, – твердил тогда свою любимую пословицу. – Как все на расстоянии-то дорого. Вот, если бы было возможно, жил бы я в двух лицах тут и там, то-то бы счастлив был! – И усмехнулся своим нелепым мыслям, а потихоньку-помаленьку зрело в душе другое: – Нет, не нужно раздваиваться, не нужно. То, что имел на шахте, никогда уже не заимею на родине, если бы даже жила-здравствовала Чумаковка. Я уже весь в другом, и другое это проросло через мое сердце, только вместе с сердцем и можно из меня вырвать. А уж Чистоозерная-то мне сбоку припеку».
А время тянулось – да так напряженно, будто толстенная резина между шахтой и Чумаковкой натягивалась: вот-вот оборвется и прихлопнет, как муху. Сны стали донимать, и такие четкие, живые: то будто идет по штреку, а навстречу сплошь свои шахтеры из забоев, и каждый здоровается и спрашивает: какая на-гора погода? А то вдруг такая нелепость: Ель с Изгибом По-лебяжьи стоит на месте спиленной яблони, а дом ширит двери раззявленным ртом: «Миш-ша, Миш-ша...» – дышит дом.
В феврале получил письмо от Азоркина: «Добрый день, веселый час, – начиналось его письмо. – Да. Веселый. Тебе-то не шибко весело от меня письмо получать... Осенью ходил к тебе домой, у Олега адрес взял. Он ничего парнишка, весь в тебя. Посидел на твоем крыльце. Ага. Так, знаешь, больно. Жили, не тужили, ты тут был. Ну, был и был, для меня все были. Лилось, знаешь, катилось. А теперь тебя тут нету. Да, брат, нету. Больно. Наверно, тебя не одному мне здесь не хватает, бука ты монголистая. Костя Богунков у меня твой адрес взял, жди, напишет. Шахта зудит, пошумливает наша соковыжималка. А чего! Походил бы еще в нее, потряс ей потроха, да вот петух клюнул в зад. Как ты говорил: имеем – не бережем. Крашу все быткомбинат. А ты там, наверно, землю пашешь. Валентине привет передай, и простите за всю бузу. Живу в общежитии, завалюху бросил. Не женюсь. Тоскливо, напиться охота. Был бы ты, пришел бы к тебе трезвым. Пришел бы, а вот и не придешь...»
Валентине письмо не показал – опять беситься начнет. А сам задумался: «Все здесь ушло в даль невозвратную, и весь я там, как Черняев говорил. Вот и не хватает силы у крестьянской крови удержать, хоть и держит. Видно, еще один разбег делать надо: рвануться и – навсегда. Не поздно. Поздно будет после смерти, а уж дети как раз пойдут одним путем, без срывов».
А о стариках-чумаковцах еще в начале зимы догадался написать письмо в областную газету, просил, чтоб прислали корреспондента в Чумаковку.
Корреспондент приехал, когда на чумаковских почерневших от старости скворечнях запели скворцы. Цимбаленко сам возил его в Чумаковку, потом показывал новый дом, в котором уже начали внутреннюю отделку.
Заметку, правда, в газете быстро напечатали, в ней сообщалось, что в таком-то совхозе такого-то района «еще восемь пенсионеров в ближайшие дни справят новоселье в благоустроенных квартирах».
На родительское воскресенье утро пало пасмурное, глухое: стоял редкий туман-плакун, просеивал через себя студеную липкую изморось на черные дома и плетни, на разбухший чернозем огородов. Где-то за сараем сырыми, надорванными весенней радостью голосами каркали вороны; под шиферной застрехой мягко чулюкали воробьи, словно с крыши в кадушку катилась вода.
У Михаила горела, ныла в сросте давнего перелома нога, и он возился, искал ей прохладу.
– Спи. Чего возишься-то, – сердилась Валентина через вязкое просонье и снова проваливалась в забытье. Лицо ее мертвенно покоилось, залитое тяжелым румянцем от лишнего сна.
Отец надолго уходил во двор, возвращался, занося с собой в сухое тепло дома сырой, сладковатый и какой-то новый запах оттаявшей земли и навоза.
– Не приедут ребята, – говорил он глухо, вроде для себя, зная, что Михаил не спит. – Куда по такой слякоти!
– Ранний гость до обеда. – Михаил поднялся и вышел в переднюю. – Туман к погоде. Глядишь, к обеду разгуляется.
– Да, оно так. Весенняя грязь усушиста, – соглашался отец. – Весной ведро воды, а ложка грязи.
Сидели за старым столом с ножками-крестовинами, глядели на сирень, обвешанную крупными светлыми каплями воды.
– Я, папа, домой поеду, – сказал Михаил. – Сережка отучится, и поедем. – Михаил исподлобья покосился на отца, но тот будто и не слышал его, не пошевельнулся, ни слова не проронил ответного. – Ты, теперь уж ясно, к осени переедешь в Чистоозерную, – продолжал Михаил. – Будешь пенсионерить потихоньку около внучат. Вам, старикам, все равно от Чистоозерной никуда не деться, не то что мне. Погостил, и хватит. Загостился уже. Ты уж прости, папа...
– Чего «прости». Не вижу я, что ли? С какими мыслями живешь? Поезжай. Мне ведь лучше, если тебе лучше станет. А Чумаковка что человек: умерла – жалей не жалей, все равно не вернешь, – махнул отец рукой.
Михаил глядел на отца, под недельной сивой щетиной которого глинисто желтела дряблая кожа, глаза ввалились в натянутых землистых веках, и трудно было ему, Михаилу, дышать через сжатую болью душу.
– А ее уж и жалеть некому, Чумаковку, – продолжал отец, собрав в легкие воздух и выталкивая его из себя поддавками, отчего одно слово у него выходило криком, другое – сипом. – Ребятам она уже не нужна, а на нас и глядеть нечего – свое отжили.
– Куда это ты ехать собрался? – Валентина шагнула из горницы, тяжелая и ленивая со сна. – Собрался, а мне ни гугу. – Она заглянула в умывальник. – Воды бы принес, – сказала, задавливая зевок. Своим присутствием, своими ленивыми словами через зевоту Валентина как бы трогала походя живые раны отца и сына.
– Нога у меня болит, сходи сама за водой, – попросил Михаил. – Да оденься – холодина же.
Не оделась. Ушла в халатике без пуговиц, под пояском.
– Бил когда? – спросил отец, улыбаясь глазами.
– Нет, – покачал Михаил головой. – А может, и надо бы иной раз.
Часам к десяти вдруг дунул ветер, собрал и унес всю взвешенную мокреть. Стало голо, солнечно и ветрено. Ветер с тугим шумом цедился сквозь плетни, сгонял птиц за пустые скотные базы, даже воробьи примолкли в уюте затишка сараев.
После обеда, прихватив лопаты и грабли, все трое пошли на кладбище. Пока окапывали, оправляли могилы, на двух машинах, битком набитых взрослыми и ребятней, приехали из Чистоозерной все четыре семьи. Шумно, как на гулянье, расстелили брезент, готовили еду женщины. Мужики курили в сторонке, а нетерпеливый Григорий все торопил:
– Да будет вам, нашли ресторан!
– Успеешь, – одергивала его жена. – Дай детей накормить.
Ехали-то к матери да к деду Егору с бабушкой Анисьей, и совсем выпустили из виду, что тут схоронены прадед Захар с прабабушкой Ефимьей, тоже по отцовской линии (материн род велся из деревни Кучумовки, в сорока километрах от Чумаковки), а еще – дядя Захар, умерший в молодости, тетка Ефросинья и даже родной брат Владимир, рожденный между Степаном и Михаилом, и Михаил его едва помнил... И еще тут лежало Свешневых не счесть сколько – двоюродных да троюродных, которых отец называл-называл да и сбился.
Григорий расставлял налитые граненые рюмки по бугоркам, прикладывая по паре яичек и печенья. Над могилкой брата Володи постоял в раздумье:
– Тебе рано, тебе молочка бы налить, – сказал, озираясь с неестественной улыбкой, и положил конфет с печенюшками. – А ты вот уезжать, да? – перекинулся на Михаила. – Будешь там один!
– Сядь, Гриша, садись давай, – мягко говорил Петр. – Тут шуметь нельзя, не положено, тут ветру только шуметь можно.
Поминали молча, и даже ребятишки притихли, забились в машины от сиверка, а ветер свистел в бурьянах, басовито гудел в трех старых березах. Вокруг кладбища там-сям стояли машины, кучками сидели люди.
К Свешневым подошел Трофим Тонких, вынул из кармана брезентового плаща бутылку и стакан, плескал на донце, обносил по одному:
– Помяни моих родителей.
Потом налили и ему. Трофим подержал стакан в долгой задумчивой паузе, повторил трижды «вечная память», выпил и, обколупывая яйцо серым от глины ногтем, сказал:
– Запашут наших родимых. Я с председателем сельсовета об этом толковал, с Пашкой Четверых.
– Да что им, степи мало?
– Вот и я тоже Пашке, – Трофим положил сразу все яйцо в рот, принялся жевать. – Да-а... А он мне и ответил: ты че, говорит, дед? Если, говорит, с древних пор могилы бы берегли, то на Руси и пахать бы уж негде было!
– Ты не мути, дядя Трофим, – вмешался Иван. – Осушим гектар-два болота заместо кладбища – и разговора нет. Все в наших руках.
День поклонило к вечеру, и все заторопились уезжать, только Григорий уперся:
– Ну вас! В Чумаковке ночую.
– Гляди тут! – построжилась его жена Лида, усаживаясь в машину.
Прихватили подвезти домой отца и уехали.
– Тут не плакать, а песни задумчивые надо петь, не знаю только какие... – сказал Григорий Михаилу. – А мне не все равно, где жить и лежать потом. Я и тебя люблю за это.
«А мне не тут, я там, возле шахты, где дед Андрей, Караваев, Иван Васильев... – мысленно возражал брату Михаил. – Разница-то есть. Прадед Захар тоже нездешний, воронежский...»
– Вперед-то беги, да назад оглядывайся, – кутаясь плотней в куртку, вел прерывисто речь Григорий. – Попробуй не оглянись – завтра же в ничто превратишься...
А ветер, будто взамен «думных песен», не унимался к ясному студеному предвечерью, проламывался через корявые ветви трех старых берез и гудел в их суховершье торжественно и вечно.
19
Были они или не были, эти годы, что испытывали жизнь Михаила Свешнева и на излом и на давление, как рудстойку в шахте? Гнет ее, рудстойку, корежит, иная подламывается, а другая стоит напряженно. Думаешь, вот-вот расколется или переломится, ан нет, стоит, отекает соком, выдавливаемым из нее породой, будто кровью обливается. И выдержит, спасут ее, целехонькую, но ставят в новое место, где полегче держать кровлю – и не ту кровлю, что зовется крышей дома или сарая, а в шахте, монолитом нависшую над человеческими жизнями, веса которой никто не знает. Живет рудстойка второй век, значит, жизнь свою дважды оправдывает.
Михаил возвратился в Приморье в конце июня. Еще как повернул поезд от Амура на юг, так и почувствовал особый воздух: не такой, как в Сибири, и не для каждого гож. В Сибири у Валентины голова побаливала, там крепкий воздух, а особенно зимой, кажется, взмахни топором – и расколется, как стекло. Михаил после Приморья надышаться не мог; встанет у колодца за огородом и глядит, глядит в степь. А что там увидишь? Ровнота, что столешница, только синеет, подрагивает на срезе земли и неба гребешок березовой рощицы, – в Сибири их колками называют. Детство свое, юность он видел в этой раскатистой дали, потому и грудь теснило светлой грустью. Но взгляд его уже привык и к другому: к тесноте сопок, распадков, к терриконам городка и к буйству леса, потому и в этой ровноте далекой все время виделись воображением те сопки да леса.
Перед отъездом проводины устроили. У ограды под черемухой поставили столы. Еще жаворонки спать не уселись в густоту синеватых трав, журчали в предзаревом небе; пересушенными за день голосами округло взванивали перепелки, и Михаилу все думалось и думалось: «Конец Чумаковке от сего лета и навеки. Уж не приедешь сюда, не погостишь. Останется только речка Тихонькая с почти стоялой водой, в кудрях тальников, да и то может недолго прожить – теперь и у рек жизнь становится недолгой».
Снохи с тещей Ивана Варварой Степановой песню заладили: «Ой, ты степь широ-окая-я...» Проголосно затянули на высокой душе. Варварин муж Игнат Васильевич, маленький крепкий чалдон, с накаленным до красноты погожими днями лицом, плавно покачивал круглой головой, колыхал светлый хохолок и, щуря васильковые глаза, как-то всхлипывающе повторял:
– Молодцы бабы, язви их, ах, молодцы!
Валентина тоже приладилась петь, но вдруг споткнулась, скомкав конец песни, повела печальными серыми глазами, как бы напоследок оглядывая полюбившуюся ей родню, и уронила лицо в ладони.
– Ну и не ездили бы, – сказал Иван строго. – Что он, Дальний Восток?.. Край земли и есть край земли... Жить на краю-то...
– Да какой край, Ваня?.. – Валентина, промокая платочком глаза, кивнула на Михаила. – Для него уж самая середка. Да и я родилась там, дети. Дом стоит, дожидается...
– Дом!.. – осердилась Варвара Степановна. – Тут дома не нашлось, что ли? Ты-то хоть не молчи, пень сивый! – толкнула локтем мужа в бок и, видимо, больно толкнула – тот дернулся, озлясь, и тут же лицо его приняло прежнее спокойное выражение. – Всю жизнь такой: хоть потоп, хоть пожар – ни слова от него, ни совета.
«Отец родной не осуждает, а она лезет. Лишь бы душу рвать человеку», – Михаил осуждающе посмотрел на Варвару Степановну.
Лабуня спешил от калитки, топал длинными ногами в самопошивных сапогах.
– Лабуня, драгун-гусарик! – шумел Трофим. – Дай на завтра кобылу. Михаила Семеныча поскачу провожать.
– Отгусарил, отдрагунил, умереть мне, не ожить! Три одра на всю степь... Эх! Выйду на заре в степь – все, кажется, ржут. Ладно машины, пусть, а степь без лошадей – как это? Миша, Михаил Семеныч, помнишь, скачки вам ладил? Соловую Стрелку ты любил и цепкий был, что обезьяна, – первым приходил ежераз.
– Было, дядя Антон, да быльем поросло, – вздыхал Михаил, чувствуя всем телом какой-то грустный и торжественный восторг оттого, что такая большая у него родня, такая земля большая.
Ночь не наступила еще, но в воздух будто синьки добавили. Далеко вспыхивали зарницы – самое милое в природе для Михаила. И тревожно было на душе: заря не потухла и не потухнет, рассвет будет долгим... А на юге Приморья, на новой родине его, солнце нырнет за сопки, и почти сразу тьма, и рассветы коротки. Куда ни поедешь, ни пойдешь – везде Россия, уму непостижимы ее дали!
Где край России, где ее центр? А он, центр, там, где могилы твоих родных, где ты сам впервые слезы пролил. Сережке одиннадцать, а тоскует по дому в распадке, по ручью и лесу, что за домом, где Ель с Изгибом По-лебяжьи. Для Михаила святое место. Шумела эта ель до него, засыпала хвоей следы людей, как засыпала следы, однажды и навсегда оставленные отцом Валентины, дедом Андреем, тещей... И еще долго ей глядеть зелеными глазами на город и на дом в распадке, хранить прошлое и настоящее, благословлять на будущее. Боже мой, как далеки один от другого Многоудобный, дом, сад, Ель и эта степь, речка Тихонькая, Чумаковка... Как далеки и разны, но как неодолимо связаны они людскими судьбами. Везде Россия и везде ее центр.
– Значит, Миша, к делу своему, – забасил Лабуня. – Правильно, одобряю. Ты тут жил: хоть и здешний, а чужой...
Родные расходились на ночлег к чумаковским старикам – свой дом всех не вместил. За столом остались только Григорий да Лабуня, оба захмелевшие. Григорий угрюмо и тихо плакал, а Лабуня тянулся со стаканом к Михаилу, уговаривал выпить.
– Мне хватит, – отказывался Михаил. – Сердце у меня того...
– Ну, ладно, ладно. – Лабуня отставил стакан – Миша, Михаил Семеныч, помнишь, в предзимье приволокся ты ко мне на конюшню? А?! Пришел – смерть в глазах! И сам я был – тоска горючая. Валентина, слышь? Шахтер он, я конюх. Дело вечное. Ночь вот, а кони в степях не ржут. Кто мы без дела кровного? А душа душу подпирает, умереть мне, не ожить! Слышь, Валентина, человек человека держит. Во! – Лабуня вскинул огромные ладони. – На руках несет. Давай попрощаемся. Мне в степь надо рано... Долгие проводы – лишние слезы. Люб ты мне, Миша, дорог – век не забыть. Поцелуемся за оба раза!
Лабуня крепкими ногами обошел стол, стал тыкаться Михаилу в щеки колючками усов.
– Вот, теплый ты и ясный. Кому так говорил? Никому. Кого люблю, того и уважаю. Ты береги его, Валентина. Дед Лабуня жизнь прожил – знает, где зерно, где полова. Тебе счастье далось. Не уберегешь, век слез не измеришь.
Взял стакан, но пить не стал, припечатал дном о стол, водка плеснула через край.
– Пошел я. Прощай, душа-человек. Не забывай Лабуню. Вернешься когда в степь, на могилку приди,
– Да чего ты! Еще поживешь.
– Поживу. Знаю, сколько поживу. К могилке как раз и придешь. И сиди-ка, не ходи, – сдержал порыв Михаила проводить его. – Что за край твой далекий, не знаю, не бывал там, а люди везде хорошие есть. Вот хоть ты туда рвешься. Не к пустому месту, а к людям, к делу... Твое там, а наше тут, дела розны, а души одинаковы, умереть мне и не ожить!
– Поговорка у тебя неприятная…
– А что, от приятной проживешь дольше? А жить-то охота, Миша, охота! Прощайте, – бросил, не оборачиваясь.
Лабуня тенью скрылся за углом дома, и у Михаила что-то новой волной стеснило сердце, будто и вправду прощание произошло перед отцовой смертью. На отца что-то все Лабунины слова о смерти перекинул.
– На могилку, говорит, приди – усмехнулась Валентина. – А сам нас переживет…
– Ну а переживет – что из того? Чего злишься-то, если хороший человек жить будет?
– Миша, Миша, седой ты уж, – давясь словами, с досадой заговорила Валентина. – И жизнь тебя помотала, и пакости тебе люди устраивали, а для тебя все хорошие...
Сердце его упруго давило, возилось у стенки груди, будто искало выхода наружу, и он тянул в себя воздух изо всей силы, а его не хватало. Михаил уронил голову на руки, лежавшие на столе. «Зря выпил», – думал он. И вдруг хорошо так, мягко забылся... Будто стоит он на берегу озера Ханко, ждет электричку, а денег нету, и тут подходит мать: «Есть, – говорит – деньги, поедем со мной». – «Куда я с тобой, ты же мертвая». А тут и отец: «Не ездий, сынок, не слушайся». А электричка в камышах мельтешит, проходит, и родители уже в последнем вагоне. Мать смотрит на Михаила, а отец рукой слезы утирает. Электричка вышла на чистую воду, а потом стала вздыматься, превратилась в птичий косяк и исчезла над серым горизонтом. «Вот дурак, что же я остался один? – ругал себя Михаил. – И куда уехали, не знаю. Да ничего, отец напишет». А отец – сзади! «Пойдем со мной». Голос его и обличье здоровое, веселое…
Спал не спал, диво-то какое! Поднял голову, а в степи туманец розовый! Стол мокрый от росы, и на нем рядом с Михаилом – буйная головушка Григория, скошенная сном. Слушал сердце, а оно с хромотой работало. «Не пустят врачи в шахту, учуят», – подумал.
Солнце наладилось восходить – над краем земли кучу жара накаливало-накаливало добела. А в Приморье, вспомнил, теперь позднее утро. Если там ясная погода, то дом из-за сопки светом залило. В саду тень и роса, внизу ручей по камням гулькает, лопочет. С прохладного, с навесиком крыльца видны внизу, в долине, часть города и оранжевые осыпи терриконов «Глубокой».
Михаил прикрыл глаза и будто все это увидел и на этот раз особо остро понял, что нельзя вернуться в прошедшую жизнь.
Степь еще долго гналась за поездом: ближнее отставало, а то, что было дальше к горизонту, забегало вперед и где-то далеко впереди медленно поворачивало и уж потом торопилось навстречу. И все же кончилось гладкое травянистое однообразие, и за окном закружились леса и далекие увалы Восточной Сибири.
Михаил почти не слезал со средней полки, все глядел в окно, а когда надоедало, пробовал читать. Чувствовал в теле неодолимую лень и слабость, и не было желания думать ни о прошлом, ни о будущем.
– Как дорога надоела, господи! – мучилась Валентина. Откидывалась к стенке, руки за голову, прикрывала глаза.
Тридцать седьмой год, а ни морщинки на лице, ноги будто молоком налиты, вроде и не рожала никогда. «Жили вместе – изнашивались врозь», – думал лениво Михаил.
Но расслабленное его спокойствие было неверным. Иногда он спохватывался, словно вспомнив что-то нечаянно забытое и очень нужное. «Ну да, – решал несвязно, – такую землю шагами не промеряешь... На ней жить – силу надо иметь немалую...»
«Не подведешь?» – «Не подведу». – «Не подведешь?» – «Не подведу», – пощелкивали колеса, а мимо бежала земля и земля…