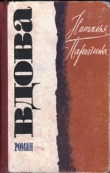Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Механическим движением руки пробежался по щитку с флажками-кнопками, наполняя электрическую систему комбайна током, а гидравлическую – масляной жидкостью, почувствовал через манипулятор, как по телу комбайна прошла живая дрожь силы, передаваясь ему. Комбайн напружинился, готовый двинуться вперед. «Не рвись, еще наработаемся», – Михаил, словно тешась своей властью над машиной, попридержал комбайн, будто накапливая в нем рабочую ярость, и пустил, крутнул вентиль орошения. Рабочий орган вошел в пласт с глухим свистящим грохотом сокрушения, отсекая от груди забоя «стружку» угля на всю свою метровую длину, и своим же винтовым гребнем, зубками, хапал отбитое крошево, уминал под «живот» комбайна. Похоже было, что комбайн пожирал уголь, оставаясь вечно голодным, ибо, пропуская через свою утробу толстенную цепь, он тянул сам себя по этой цепи и по конвейеру, который выгребал из-под него уголь.
С шипением уходила по конвейеру черная речка. Все металлические звуки приглохли, потому что им некуда было лететь – до того были малы жизненный объем лавы и сам комбайн по отношению к непостижимой громадности Земли.
Переключив свой светильник на «длинный» свет, Михаил вглядывался в затуманенную угольной и водяной пылью сдавленную перспективу лавы и чувствовал, что страх хотя и прошел, но какая-то неуемная муторь все еще крутила душу. Казался себе каким-то полураздавленным, как эта лава. «От непогоды, что ли?.. Напарники вон спокойны...»
Мелькнул и исчез свет у выхода, потом затрясся, приближаясь. Это горный мастер Черняев преодолевал пылевую завесу. Видно, с затаенным дыханием бежал, потому что, приблизившись, захватал воздух шумно.
– Ты чего?.. Без воды рубишь?
– Не видишь – хлещет, – Михаил выключил комбайн
– А-а! – замахал руками Черняев. – На главной лебедке редуктор сломался. Лес на участок хоть на себе подавай. Два нарезных забоя на месте топчутся: один на воду пробился, там хлещет, а другой породой заваливает. Где я уголь возьму? Как я план выполню? Да Комаров меня – во! Подвесит! – Щепотью провел под горлом к уху, показывая, как «подвесит» его директор.
Черняев часто моргал, шмыгал маленьким утиным носом, кажется, вот-вот готовый разреветься. Снял каску стал тереть мокрую голову, размазывал грязь по лицу – совсем не мужик еще, а парнишка-переросток.
– Ты не страдай, Боря, – пожалел его Михаил. – Мы и за те забои угля нарубим.
– Нарубят они! – нарочито недоверчиво обрадовался Черняев. – А у самих тоже кровля на почву ложится. Вы уж тут смотрите, – попросил умоляюще. – Не мне вас учить, но смотрите!..
И побежал, выгнув узкую спину и болтая тонкими икрами в широких резиновых голенищах.
«Смотрите, смотрите! А чего смотреть – взглядом кровлю не удержишь... Ошалел парень. А зрячий ведь – там на-гора, все понимал, а тут заметался, как заяц под выстрелами. План, план! Она же тебя, эта лава, и подрежет хоть не сегодня, так завтра... Ошалел, ей-богу!»
Михаил сменного плана над собой не признавал Он был убежден, что такой план придумали вместо погонялки для работников ленивых, хитрых и бессовестных. А когда все люди будут честными, тогда сменное задание отменят.
Был у Михаила об этом разговор – и не с кем-нибудь, а с самим директором шахты Александром Егоровичем Комаровым. Комаров с Головкиным затеяли поставить Михаила бригадиром. Михаил дал согласие, обо всем договорились, а под конец Комаров возьми да скажи:
– Во всем поможем тебе, Михаил Семенович, но и план спросим. Крепко спросим. – Комаров даже рыжим кулаком стол придавил. – Хоть ты, знаю, не пугливый, но сразу предупреждаю.
– План... Вы работу с меня спросите, а план... чего ж...
– Это все равно, – еще не поняв Михаила, согласился Комаров. – Работа и есть план.
– Может, и не совсем так, – покачал головой Михаил. – Я отвечать буду за работу. Я в бригаду ребят подобрал, которые будут работать по воле сердца и наивысшего старания каждого.
– Ну, – торопил Комаров, и золотистые его ресницы мелко-мелко подрагивали. – Ну?
– Нам давайте вволю крепежного материала, оборудования и порожняка... А от нас – работа...
– Постой! – нетерпеливо затряс рукой Комаров. – По-сто-ой. А я разве не о том же говорю? А? – призвал он в свидетели Головкина. – План – это жизнь!.. – Комаров резко ткнул вытянутыми пальцами в воздух.
– Сменный план не жизнь, а форма, – возразил Михаил, потому что много думал об этом.
– Ты, Михаил Семенович, как-то вразрез жизни мыслишь!..
– Не вразрез. План – это плоскость, чертежи, – гнул свое Михаил. – Как же сад без плана разбить или участок в шахте нарезать? Тут все вычертить надо, рассчитать, чтоб где какое дерево. Или штреки... Чтобы и уголь удобно было брать, и воздух шел без задержки. А уж сколько садовнику за день деревьев высаживать или шахтеру угля брать, тут не надо бы планировать-нормировать. Норма, она унижает человека.
– Видал идеалиста! Ты это сам или кто тебя... – показал Комаров Головкину на Михаила. – Не занимаетесь с рабочими политэкономией, вот и результат!.. Ну хорошо, хорошо, – словно соглашаясь с Михаилом, продолжал Комаров. – Допустим, твоя бригада будет работать без плана, – а как ты говорил... по воле сердца и старанию, то есть – стопроцентная сознательность. Допустим. Хотя... – Он сокрушенно покачал головой, посмеялся таким смехом, который явно был не от веселья. – Значит, работаете. Но самый примитивный вопрос: от какой точки отсчета вести оценку вашего труда? Хорошо вы работаете или так себе? Выплачивать вам премию или как?.. Ведь должен же быть стимул?
Михаил жалел, что так все получилось: «Залез со своей ложкой не в свою чашку с этим бригадирством. Ишь, смотрят, как на недоумка. «Вразрез жизни. Идеалист!» Его монголистое лицо вроде чуть пеплом подернуло, округлые ноздри широко присаженного носа раздулись, будто в них пружинистые колечки вставлены.
– Точки, точки... Что уж без точек этих нельзя увидеть, как люди работают! – Михаил до того стал закипать сердцем, что и забыл, с кем разговаривает. – Хорошо работают – платить за тонну сколько положено, и все. А то – стимул! И слово-то какое-то не наше, заморское. Своего не нашлось, зачем оно нам?..
Михаил осекся. Явно завысил тон не перед тем, кем надо. Но Комаров не одернул его и удивляться и говорить перестал. Сидел, отвалясь на спинку стула своим истяжным телом, и лицо у него было задумчивым и вроде даже печальным. Весь как-то ушел в себя и молчал, и Михаил не выдержал, сказал с покаянием в голосе:
– Я, Александр Егорыч, не могу быть бригадиром. Сами видите – не дозрел я.
– Что? – очнулся Комаров. – А-а, какой там не дозрел. Вот бы дожить до того времени, когда все такими недозрелыми станут!.. – Директору бы разгневаться на Михаила за то, что голову морочил, а он, наоборот, просиял будто бы. – Вот, – сказал напоследок, – пласт как ни глубоко лежит, а пробиваемся до него, руками трогаем, а до ваших душ сколько ни пробиваешься... Иди, путаник. Время потратили, а у нас все ж таки... План!..
...Михаилу казалось, что он рубит уголь уже с полчаса, а прошло всего минуты три. Комбайн, потеряв плавность хода, мелкими рывками напрыгивал на уголь, норовя сорваться с направляющих бортов конвейера. «Разволновались мы с тобой», – подумал Михаил и остановил комбайн, извиваясь ящерицей, обогнул его, прихватив с кожуха кувалду.
В завеси пыли руку протяни – не видно, не то что железную рудстойку-времянку в четырех метрах впереди, а корпус комбайна сантиметра на два не дотянулся до нее. Михаил работал вслепую легко и уверенно, и его окатывало приятной гордостью: «Отскочи, кто не понимает!..»
Металлическая набалдашина рудстойки почти насквозь продавила лиственничный верхняк, отчего свободная консоль его удавленно разбухла до волокнистых разрывов, а в другой конец, будто печатка в сургуч, впился комель деревянной рудстойки; средину верхняка прогнуло в страшном каком-то напряжении – дерево не переламывало, а разрывало, как веревку. Михаил, примериваясь, постучал по концу болванки-клина на выдвижной части рудстойки, и звук получился мертвым, будто не по железу стучал, но по мерзлой земле – металл от давления потерял звук. Михаил понял, что работать будет опасно.
Оглянувшись, попятился, изогнулся, ударил по клину хлестко, с выхватом на себя, так, что, кажется, руки свои чуть было из плеч не вырвал. Будто выстрел с коротким звоном влетела в полость рудстойки освобожденная от клина выдвижная часть. «Крах!» – спружинила кровля, с шумом стряхнув с себя всю мелочь, все, что плохо держалось. Михаил, присев на корточки, закрыл нос подолом майки, подождал, пока протянет струей пыль, а когда пыль схлынула, осмотрел кровлю и ничего нового не обнаружил: кровля резиново набухла, а в глубине ее и в стороны разбегалась кипучая трескотня мелкого разрушения, но вся она еще удерживалась в связи с великой массой, которая оседала незаметно и неотвратимо.
Обвив голыми руками холодное, резучее от заусениц железо, Михаил с натугой вытянул рудстойку и, подхватив ее, восьмидесятикилограммовую, понес в новую галерею. Его выгнутый позвоночник, пресс живота, плечи, икры ног – весь он, кажется, звенел от напряжения: «До чего ж примитивно работаем!» – подумал, грохнув железяку на почву.
– Принимай! – крикнул напарникам.
Колыбаев с Азоркиным подхватили железяку, стали подводить ее набалдашиной под конец верхняка. Потные их лица так плотно были залеплены пылью, что казалось невероятным, как могли не повредиться их поблескивающие обмылками глаза. Валерка, целясь кувалдой в набалдашину, щерил черные, точно замазанные ваксой зубы.
– Носом дыши. Ну! Закрой рот, – советовал Михаил. – Три дня жить собрался?
– Что «дыши»? – загудел Валерка, задержав замах и тыча пальцем в широкую ноздрю вздернутого носа. – Забито все – не тянет...
– Выбей!
– А?
– Выбей, говорю!
И по своей надобности, а также для примера Валерке Михаил фукнул из одной да из другой ноздри, но в носоглотке до того все было пересушено пылью, что облачками выфукнулась все та же пыль, которой не хватало слизи, чтоб приклеиться, – шла напрямую в легкие.
– Куришь! – засмеялся Валерка, веселье которого было вызвано не иначе как глупостью его, и пошел охаживать кувалдой по набалдашине.
Часа за полтора Михаил двадцать три раза останавливал и запускал комбайн, потому что выбил и перенес двадцать три железных стойки. И всякий раз, когда запускал комбайн, он морщился, как от изжоги, потому что знал: от частых запусков – из-за большого пускового тока – могут сгореть обмотки электромоторов. Давил на кнопки-флажки, из моторов вырывался тяжелый мычащий стон, и он так зримо представлял, как опаляют их внутренности тяговые вихри раскаленных электронов, чтобы раскрутить, дать рабочую энергию роторам, что у самого кругообразно начинало наполняться жжением в груди. Он верил в силу машин и не верил в силу мышц – когда переносил в низкой лаве бревна или железо, сердце его так гоняло кровь, что, кажется, она закипала в напряженных мышцах, и от того, что разум почти не участвовал в работе, было стыдно и унизительно за самого себя, точно он не по своей воле переносил тяжести, но по насилию.
– Иди, Миша, охолодись, – позвал Азоркин, когда Михаил перенес двадцать третью рудстойку.
Азоркин стоял на коленях перед надломленной стойкой, на отщепах которой висели спецовки, и, сняв каску, вытирал полами куртки голову, лицо, плечи. Потом, отпив из фляги, протянул ее Михаилу.
– У меня своя, – отказался Михаил и окунул лицо в прохладу куртки. – Сколько теперь времени?
– Теперь? Половина восьмого, надо думать. Солнце закатывается, – ответил Азоркин и посмотрел на часы. – Тридцать пять восьмого, – сообщил он.
– Вот черт! – подосадовал Михаил. – Время ушло, а сделали... С креплением возимся, а комбайн стоит...
– Не переживай, хрен с ним со всем, – душевным, сочувствующим голосом сказал Азоркин. – Вон и конвейер остановился, видно, порожняк кончился, отдохни и ты. Душно сегодня, спасу нет...
– Железо мокнет – тайфун должен быть, – поддержал Михаил.
– Ночью врежет, – согласился Азоркин. – Тайфуны любят по ночам разбойничать. А сейчас на-гора закат... – Он забывчиво держал флягу, сощурившись, глядел далеким взглядом перед собой, будто и впрямь оберегал глаза от закатного солнца. – Восходы-закаты, сколько же вас схоронил я в этой ямине? – Азоркин вздохнул, покачал головой. – Что-то страшно иной раз становится. А? Тебе не бывало страшно, Михаил?
Михаил насторожился – так неожиданно прозвучали для него слова из уст Азоркина, не знающего, на что он тратит свою жизнь.
– Кому страшно? Тебе? – Михаил даже хотел руку протянуть, потрогать Азоркина, убедиться: он ли перед ним? – Ты серьезно?
– А что я, не человек? – обиделся Азоркин. – Я знаю, ты меня не принимаешь за человека. Знаю!
Азоркин сшелушивал со своих плеч и лопаток присохший угольный штыб, крупную, как отруби, пыль, и грудь его, живот были сложены словно бы из выпуклых плиток, плечевые кости-дуги туго увязывались мускулами с жилистой шеей и с бугристыми предплечьями. Накинув куртку, уселся на обрезок бревна, сразу обернувшись из богатыря обмокшей птицей.
– Почему не человек? Что мне тебя не признавать? – не согласился Михаил и, смущенно улыбаясь, не выдержал, признался: – Я сегодня перетрусил до крайности. Хотел удрать из лавы и вас бросить. Ты спал. Думал, так сонного и схоронит.
– Да, тут недолго, – показал Азоркин на кровлю.
– Я и говорю: нам, таким ко всему привыкшим, страх на пользу. Привыкших-то наказывает почаще. Хорошо, говорю, что страшно. А то что ж: находим – не радуемся, теряем – не горюем. Живем ветром вольным. Куда летим – адреса не знаем...
Михаил не замечал, увлеченный, как по скулам Азоркина задвигались желвачки.
– Ишь, куда ты подтянул, мудрый... «Хорошо, хорошо!» – А чего «хорошо»? Вот эта могила вонючая? Головкину сейчас хорошо... с Ольгой. Понял! – Азоркин придавил кулак к кровле, и такое злое напряжение было в его лице и фигуре, точно он собирался проломить четырехсотметровый слой породы, высвободиться на-гора.
– Ты сам о страхе-то... – начал закипать и Михаил, но Азоркин перебил его:
– Да, о страхе, но не о том, к какому ты подвел. Ты признай меня, ветродуйного-то. А-а, не нравлюсь! – протянул обрадованно. – Хочешь, как ты: люби работу, люби жену... Врешь! Кто ее, такую работу, может любить? Мерин? Так он тут, мерин-то, за месяц сдох бы. А мы – ничего. По двадцать лет трубим! Только, если внутренности вскрыть, то там грязи побольше, чем ила в карасе.
– А кто тебя тут держит? Привязали тебя тут?.. – Михаил почувствовал в словах напарника неприятную для себя справедливость, будто не Азоркину возражал, а самому себе.
– Во! Верно. Никто не держит. Не привязанный, а скулишь. А я не скулю, я свободу тут себе добываю, чтобы там, на-гора, – ветром, кубарем, как конь в овсах!.. – Азоркин сбросил с плеч куртку, повесил на отщеп, неожиданно по-доброму улыбнулся, – Ты слыхал, скулил я когда? То-то! Сегодня в кои веки раз скульнул: дороговато, подумалось мне, за свободу после смены плачу. Надо бы в неделю раза три сюда спускаться или часа на два рабочий день убавить. А ты уж скорей – «хорошо». Хорошо, да не дюже!
– Это что же: в шахте – раб, на-гора – вольный?.. Частями-то... – без охоты сказал Михаил.
Над головами вдруг засопело, трескуче зачавкало, мягко и страшно для знающих окатило капежом, и тотчас глухо стрельнули внутренним сломом несколько стоек. Азоркин с Михаилом, перебирая ногами и руками по-обезьяньи, отскочили метров за десять, насторожили слух. Там, где сидели, еще с шорохом осыпалась мелочь, слышался древесный треск, но постепенно все успокоилось, только где-то в глубокой высоте будто бы умирал далекий-далекий гром.
– Яшка, зараза, пугнул – аж шмутки побросали! – хохотнул Азоркин и пополз обратно к полузасыпанным курткам, где, казалось, уж ни одной «живой» стойки не было, а кровля надулась пузырем, едва не касаясь почвы. Азоркин в момент выклубился из-под опасного места с барахлом под мышкой.
– У-уф! Аж мурашки по спине...
– А зачем было – из-за тряпок?
– Глупый! Пирожки в кармане. Стал бы я из-за тряпок голову совать. У тебя ведь тоже... Вон. Ефим с Валеркой уж давно «тормозят». – Швырнул куртку Михаилу. – Перекусывай, чего ты?
– Да за меня уж крыса...
– Ну? И молчишь? – Азоркин разделил тугие, как резина, отдающие техническим маслом столовские пирожки. – Их на автоле жарят. Крысы и те брезгуют. В твой карман залезли, а от моего шарахаются... А о каком-то ты рабстве толковал?
– Да в шахте, говорю, ты что же – раб, а на-гора, выходит, вольный?
– Хэх! Додумался. Раб... В шахте я, Миша, добытчик воли, значит, тоже вольный. Я же сознательно лезу в эту соковыжималку, чтоб заработать деньги, и на работе не халтурю. Скажи, ты хоть раз заметил, чтоб я ленился, а?
– Не скажу.
– Во! – Азоркин выполоскал рот, сплюнул воду в сторону. – Волю неволей да ленью не добудешь! – изрек назидательно.
– Ну а какая же она у тебя, воля, там, на-гора? – поинтересовался Михаил.
– Какая? – подмигнул Азоркин. – Ты сам сказал, что я ветром буйным живу. А ветер по воле не тужит. – Он долго, с глубоко запрятанной в себя улыбкой и сочувствующе глядел на Михаила. – Ищешь правду в людях, а своей правды не знаешь. Вот ты и есть, Миша, раб. Точно, раб. У тебя-то как раз и нету воли нигде: ни на-гора, ни здесь... Не дали же тебе Головкин с Колыбаевым лаву кострить. Не дали. И ты сел со своей волей. Головкин пошел ва-банк... У этого же борова клыки наружу... Конец квартала: каждый кусок угля – на премиальные. А ты под горячую руку: кострить.
– А ты – не кострить?
– Да мне не надо, вот в чем разница! Ну, это... может, и надо... как бы тебе сказать: по-моему, если не хотят, то есть препятствуют, как говорится, силы враждебные, и пускай препятствуют. Я это препятствие штурмовать не буду. Чихал я на это все, потому что я свободный! На днях по телевизору один мужик в белом пиджаке из какой-то пьесы сказал: дескать, нету правды на земле и на небе она, правда, тоже не ночевала. Руками и ногами голосую за слова золотые, хотя я сам давно понимал, что правда все же есть, только не общая правда, как, к примеру, баня или столовая, но у каждого человека она своя: у тебя своя, у Головкина своя, у меня своя, ну и тэдэ и тэпэ... Твоя правда – быть всю жизнь в неволе, потому что хочешь, чтоб было по-твоему, а хотение не сбывается, а сбывается так, как другой хочет, у которого документы получше твоих, а я к хотению стремлюсь там, где мне есть простор... Я на скользкое не пойду и в узкую щель не полезу.
– Если бы ты поддержал меня против Головкина, – с грустью в голосе сказал Михаил, – то наверняка лаву сегодня не портили бы.
Азоркин вдруг вскинул голову так, что каска свалилась, и стал вытрубливать хохот, И оборвал внезапно:
– Ты ему это... мочись в глаза, а он – божья роса! Час толкую, как лбом в забой... При чем тут лава, а? При чем тут кто кого поддерживает или сваливает? А-а! – отмахнулся досадливо. – Пошли вы... – Азоркин длинно и весело выругался. – Тебе бороться охота! Вы же, такие, нормально не живете, вам все борьбу подавай, кулаками в воздухе помахать – милое дело. Вот и маши. Или одному неловко дурость выказывать – дураков к себе вербуешь?
– Зря ты, Петр, столько слов тратишь, – вздохнул Михаил. – Я тебя не осуждаю – чего ты оправдываешься, я тебя понять хочу. Правда, говорят, суда не боится. Ты вроде весело говорил, а сам злишься, потому что ты одинокий и даже своей правде не доверяешь.
– Я самому себе доверяю. Вот тут у меня, – Азоркин ткнул себя в грудь, – все мои судьи и защитники. Я сам себе друг и брат, ни к кому претензий не имею – потому мне все одинаковы: что Головкин, что ты, что... не знаю, кто еще...
– Что фашист-палач? – подсказал Михаил.
– Не превышай меру! – нисколько не смутился Азоркин. – За превышение по затылку бьют. – Азоркин вдруг по-собачьи замер, вглядываясь в сторону верхнего выхода. – Видал? – кивнул неопределенно. – Ефим побежал по телефону орать. Глядишь, включат конвейер, испортят нам беседу... Так вот, значит, уважать некого, некого и любить... Меня жизнь делала... Все справедливо!
Конвейер завизжал, загремел скребковой цепью, проглатывая слова Азоркина и будоража нервы. Михаил, пригибаясь на ходу к уху Азоркина, прокричал:
– Не дай бог, прижмет хвост, тогда и поглядим, кого уважать, кого любить станешь...
– А во! – Азоркин ткнул Михаилу под нос черный кукиш. – Не зауважаю, не полюблю!.. Я лучше голову в петлю!..
«Дурак-дурачина, – тянулось липучей резиной в мыслях Михаила то ли о себе, то ли об Азоркине. – Вот уж дурак так дурак!» – И он хряскал уголь, не тратя сил, легко, да тоннами, тоннами же переносил на себе рудстойки, убивая силы, сбереженные на машине.
Сам себя забыл в труде, пять последних часов в пять минут обернулись, когда в уши сладостным пением полилась тишина, и тут услышал удаляющиеся шаги напарников и колыбаевское: «Михаил, догоняй!»
Вот тогда, отирая пот и одеваясь, он представил получасовой путь от лавы до ствола, подъем в клети на-гора, переодевание с баней, дорогу от шахты до дома поперек ночного городка да еще по ответвлению-распадку вверх, представил весь путь, и впервые за десятки лет таким недосягаемо далеким показался дом, таким неодолимым путь (который был сроду радостным и легким), что невольно опустился на почву у стойки, чтобы накопить силы перед дорогой.