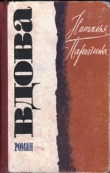Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
12
Колыбаев чего угодно ожидал от комиссии, но только не того, что так секанут под корень дорогого его начальника. Пока в те заполошные минуты Свешнев соображал, как вырваться от смерти, он, Колыбаев (понял сразу, что Свешнев будет бить корж кайлом до тех пор, пока либо спасет Азоркина, либо сам вместе с ним останется в завале), не возжелал оставаться в этой «братской могиле». После ему захотелось еще и чистым остаться со всех сторон. А из кого перья полетят – ему было все равно. Да опять же вовремя сообразил: нет, не все равно. Иметь благодарного начальника – это почти то же, что еще одну сберкнижку... Вспомнил, как заорал Свешневу, зачем Ковалева угнал – втроем бы корж подняли, понял, что правильно сделал: на этот крючок можно рыбку поймать, отманить ею опасность от Головкина. В сумраке за копром и без того перепуганному Валерке Ковалеву в два счета доказал виновность Свешнева; Валерке-то доказал, но дышло не туда вывернулось: Головкин сам рядовой. Из бросовой кости навару не накипятишь.
Но и своего Колыбаев упускать не собирался. Головы не терял, а «шариками» в ней крутил почище, чем та машина, которая в бухгалтерии начисляет ему получку.
И снова выследил Валерку, будто воробья, ускользающего от кошки.
– Ты почему тогда из лавы удрал, гаденыш?
– Так дядя Миша приказал... – заскулил Валерка.
– «Дядя Миша», – прошипел Колыбаев. – А у тебя свой котелок не варит? Да я тебя сам к прокурору уволоку! Ты знаешь, что все из-за тебя? Корж-то видал?
– Плохо видал. Глыба…
– «Глыба», – опять передразнил Колыбаев. – Не удрал бы, ковырнули вагой – и целая рука. Сам удрал и валишь на дядю Мишу... Что же, по-твоему, тебя, дурака, я теперь выручать за так должен?..
Комиссия не успела уехать, а Колыбаев уж прикинул: свое брать надо. Подкараулил Головкина на его тропке в закоулках поселка, пожаловался:
– Сомнения меня одолели, Василий Матвеевич. Да и совесть...
– В чем же дело, Ефим Петрович? – усомнился и Головкин настороженно, а внутри все так и оборвалось: «Беда одна не ходит...» И вид у него был такой, что Колыбаев на миг пожалел его. «Не трогать тебя, что ли?» Но тут же ругнул себя, что жалость в душу допустил.
– Насчет Ковалева я сомневаюсь. Зря мы с тобой его того... по черной дорожке направили. Жалко парня – молодой совсем...
«Никого тебе, Колыбаев, не жалко, – понимал Василий Матвеевич. – Ты новую пакость задумал... Да только вот какую?..» Вслух же сказал:
– Что же ты предлагаешь, Ефим Петрович? Сам знаешь, что нам теперь изменить ничего невозможно. Да и пользы не будет возвращаться к этому...
– А чего мне предлагать? Пойду да и признаюсь Комарову. Все расскажу, как мы с тобой... Чего терять? – дуроломом попер Колыбаев. – А ты еще ИТР. Тебе еще под шкуру добавят сала. То бы туда-сюда да опять в дамки, а тут уж!
– Чего же ты хочешь? – спросил Василий Матвеевич, хотя уже догадался, к чему клонит Колыбаев.
– Чего?! Даром, говорят, и чирей не садится. Тыщу дашь – и разойдемся!
– А говорил, Ковалева жалко... – Василий Матвеевич зачем-то еще пытался ловить Колыбаева на лицемерии. – Что же ты так...
– Всех жалко! Тебя тоже жалко... – вздохнул Колыбаев.
Вздохнул, а в лице ничего не изменилось. И Василий Матвеевич в который раз подивился на этого человека. Не помнил, чтобы лицо Колыбаева когда-либо теплилось хоть каким подобием человеческих чувств – деревянная маска.
– Цена, думаешь, высокая? – Колыбаев по-своему расценил молчание Головкина. И пояснил: – Нужда цены не спрашивает.
Василий Матвеевич повел взглядом: кругом ясная благодать осеннего дня, в садах и огородах копошатся люди, прибирают урожай на зиму, а он не может позвать их на помощь, не смеет крикнуть: «Помогите! Грабят!» Подумал: «Почему, почему я не могу этого сделать? Когда у меня не только отнимают деньги, но и унижают душу? Разве я не имею права на помощь?»
– Деньги принесешь завтра, в это же время, – строго сказал Колыбаев. – Вот сюда, – ткнул кулаком в землю.
– Расписку дашь?
– Хм... – Колыбаев поворочал глазами. – Кто же в таком деле расписывается?
– А где гарантия, что я принесу деньги, а ты потом еще не потребуешь?..
Василий Матвеевич Головкин, пережив только что чувство унижения, гадливости и страха одиночества, беспомощности, страдая душой и телом от непривычного для него рабочего дня, сам не заметил, как доплелся до Ольгиной калитки. Долго прилаживал воротца на место, будто затем только и пришел, чтоб возиться с этим гнильем. Что-то смутное удерживало его у калитки, и он в своем горе не мог и не хотел сразу осознать, что все, чего от него Ольге нужно было, – все уветрилось враз: и положение и деньги. Он ничего ей не принес, кроме своей боли.
Василий Матвеевич не видел, как из глубины сада вышла Ольга с охапкой осенних цветов.
– Смотрю, смотрю и не узнаю, что за дедушка калитку мне чинит...
Василий Матвеевич вздрогнул, повернулся и как-то рывками, точно ему в подбородок кто тыкал кулаком, стал выпрямлять выгорбатившуюся спину. Ольга похохатывала, то окуная лицо в цветы, то вскидывая голову. А георгины и гладиолусы под стать Ольге – тугие, свежие, будто накрахмаленные, были прижаты к ее груди.
Он уже понял, что смешон ей, но ничего не мог с собой поделать – ни подняться на порог, ни повернуться и уйти.
– Ну, ладно, зайди, а то свалишься тут, потом «Скорую» вызывать, – сказала, построжав лицом, и пошла в дом, покачивая бедрами под тонким платьицем в синий цветок.
Он покорно и бездумно пошел за ней, понимая, что порог переступать ему нельзя, а пошел.
Ольга свалила цветы на стол и пригласила Василия Матвеевича сесть, он, садясь, испустил протяжный вздох со стоном, и Ольга опять хохотнула.
– Пропал я, Ольга... Погиб! – не сдержал боли Василий Матвеевич. Он часто и обиженно моргал. – А ты... Чего тебе смешно, когда... – укорил. – Разве можно радоваться, когда у другого беда?
– С чего ты взял – радуюсь? – фыркнула Ольга, заворачивая цветы в целлофан. – Какая уж тут радость...
Села на кушетку – вся молодость и здоровье, и Василий Матвеевич с тоской позавидовал себе недавнему: как легко он перебросил мостик через пропасть, разделявшую его с Ольгой. Счастье покупное, да разве думал тогда о том, когда, как догорающее полено, вспыхнул последним пламенем, – разве думал тогда о средствах, была цель: хоть час – да мой!.. «Если на этом все кончится, и то ладно», – думал, готовый ко всему. Пусть недолгим, но охапистым глотком хватанул напоследок счастья, всем горлом, до тугого забоя души. Так думал Василий Матвеевич, а оказалось, что счастьем, как хлебом, впрок не наешься – его нужно иметь постоянно.
– Оля, не бросай меня. Люблю я тебя больше жизни! Не бросай – пропаду!.. И без того пропадаю... – просил он тихо, умоляюще.
– Ну что ты, Василий Матвеевич... Что было, то было – и хватит. У тебя жена. Чего мучиться-то! – Ольга изо всей силы старалась быть душевной, но она опаздывала к подружке на день рождения и потому досадовала. – Иди домой. Жена ждет, а он тут... – сказала уже недобрым голосом.
– Я разведусь с ней. На тебе женюсь...
– Обрадовал! – Ольга покрутила у виска пальцем. – Посмотри на себя и на меня, разве мы пара? Сиделкой при тебе быть?
Под сердцем у Василия Матвеевича что-то лопнуло, полоснуло жгучей болью, и он, хрипя, стал валиться на сторону. Ольга метнулась во двор, забыв, что вода в кухне. Вернулась да кастрюлю, почти ведерную, опрокинула ему на голову.
Он застонал, дыхание стало выравниваться.
– Ага! Будешь мне тут!.. – Ольга, больно прихватывая волосы, терла его голову полотенцем. – Поднимайся. Ну! Поднимайся живо!..
Тянула за плечи, а он уже пришел в себя, но от стола не отрывался, стонал, стараясь разжалобить Ольгу, этим еще больше озлоблял ее. И она догадалась, что поможет не таска, а ласка.
– Пойдем, Вася, пойдем, – заворковала она. – Я тебя провожу. Какой ты... Пойдем!
Он понял ее немудреную хитрость, с трудом поднялся. Вышли на мглистую безлюдную улицу, в конце которой, там, куда ему нужно было идти, из темных округлых деревьев поднималась вишневоликая луна.
– Мне не к кому идти, Оля, – потянул он ее неподатливую руку, чтобы поцеловать.
– Как – не к кому? Жена дома, – отняла руку – Иди потихоньку.
– Ишь ты-ы!.. – зашипел по-гусиному. – Деньги брала, так про жену не вспоминала! А? Зачем было все? Зачем мучить человека? Или я не человек?
Ольга легко развернула Василия Матвеевича, сильно толкнула под лопатки, и он едва не свалился, сделал вихлястую пробежку.
Он брел прямо на луну и ненавидел все: и свое прошлое, и будущее, и Ольгу, и Софью, и всех людей, которых знал и не знал, и эту луну. О, если бы сейчас полыхнуло все от края до края огнем донебесным, то с какой радостью плясал бы Василий Матвеевич среди гибнущего мира, погибая сам!..
– А-а, будь все проклято! Будь!.. – плевался сухим ртом и почти бежал, не чувствуя вечно тяжелого своего тела.
Так и домой ввалился: лицо серое, с глазами сумасшедшего. Софью перепугал. Сунулась за ним в его комнату, натолкнулась в распахе дверей на глаза его страшные, отпрянула, как от пощечины.
Сидела на кухне, пораженная этой грозой из ясного неба, испуганно слушала, как скрипка визжала, вопила, гудела угрожающе. «Да что ж это!» – не выдержала и настороженно заглянула к мужу.
– Вася, – позвала робко.
– Что? – остановил смычок.
– Вася...
– Сги-и-инь! – затряс он щеками и стал хлестать скрипкой о край стола. «Крах, крах, крах!» – доносилось до убегающей Софьи.
13
Ни тепла, ни холода. Январь доживал последние дни, а далекий север так толком и не дотянулся холодными руками до этого края, чтобы навести свой порядок. Всю зиму дуют промозглые ветры, несут песок с пылью; снег выпадет раз-другой и исчезнет бесследно: не то истает, не то вымерзнет-выветрится. И всю зиму, будто ржавой жестью, гремят неопавшей листвой дубняки по сопкам, сводя с ума зайцев-русаков, завезенных сюда из заснеженной России.
В такую пору город Многоудобный совсем не оправдывает своего имени. Северный ветер, разбежавшись через широкую долину, легко раздувает дымящиеся отвалы породы, наполняя воздух жирной копотью; ему в помощь дружно чадят многочисленные кочегарки, жадно сжирают льготный уголь печи домов частного сектора. Сладковатый, едкий дым, желтая пыль нависают над городом как тяжелое сырое одеяло.
В ветреные, неуютные сумерки Михаил Свешнев вышел из учебного комбината шахты, где учился теперь после смены. Перед глазами еще виднелись гидравлическая схема механизированного комплекса, цилиндры, штоки, перекрытия... Еще торчало в ушах «изречение» преподавателя, с которым он суется к месту и не к месту: «Техника в руках дикаря – кусок железа». «Изречение» всем надоело да и вроде оскорбляло, и тогда Костя Богунков на эту «мудрость» придумал вопрос:
– А кто изобрел гвоздь?
Преподаватель не знал, но Костин подвох понял, посмеялся над собой, но свою словесную жвачку так и не выплюнул.
«Техника в руках дикаря... – привязалось и к Михаилу. – Вот ты зараза!» Он постоял в слабом заветрии сквера, словно вспоминая такое важное, что и шагать нельзя, но в голову лезла какая-то мешанина: «Ну вот, скоро отнянчишь бревна – над головой будет щит. Машинист передвижной крепи, машинист передвижного конвейера... Легче работа, счастливей жизнь... Техника в руках... Тьфу!»
Пирамидальные тополя, словно сжавшись в свечки от холода, текляво уходили в темно-серую высь, свистяще гудели там острыми вершинами.
Ветер, подталкивая в спину, вывел Михаила на гать. Напротив азоркинского дома он приостановился: зайти, не зайти?
Азоркина не видел с больничной встречи, и видеть не шибко-то хотелось: ведь не друг и даже не товарищ. «А все-таки и он человек. Да и связала нас судьба. А чем связала? – раздраженно спросил себя. – Рука у него не болит, сыт вроде, да и женщины не забывают...»
В горячке до какой только чепухи не додумаешься! От обиды, может, он так на Азоркина? От обиды и неуверенности, что вина перед Азоркиным хоть и вскользь, а на него пришлась.
Веранда скрипела и вроде качалась, как подвесная люлька, от шагов ли Михаила или от ветра. Михаил шарил по двери, искал скобу, и ему казалось, что на веранде еще ветренее, чем во дворе.
– Зинка, ты? – раздался хрипловатый голос.
Дверь распахнулась, и в лицо Михаилу ударило ярким светом и теплом. Азоркин стоял на пороге в майке поверх брюк, с веником в руке, растерянный и удивленный.
Михаил приметил, как тот еле сдерживал радостную улыбку, и сам улыбнулся, оглядывая маленькую кухню-прихожую с раскаленной докрасна плитой,
– Июль тут у тебя. Ну, здорово!..
Азоркин все еще стоял столбом, и внезапно радость на его лице сменилась выражением упрека:
– Как же ты надумал? – сказал, бросив веник в кучу шлака у топки. – Замерз, поди. Раздевайся давай, – засуетился он, усаживая Михаила к кухонному столу. – А я слышу – шебаршит кто-то. На тебя и не подумал.
– Да вот с работы...
– Смена-то, когда прошла... А-а, курсы проходишь! – кивнул Азоркин на торчавшую из кармана пальто Михаила сплюснутую вдвое тетрадку.
Михаил покосился на культю, которую Азоркин выложил на стол. «Нарочно, что ли?..» И Азоркин, видно, поняв смущение Михаила, надел рубаху, спрятал обрубок в длинном рукаве.
– Прохожу, – сказал Михаил. – Теперь вся смена переучивается...
– Ну, вот и ты сподобился! Твое теперь дело – кнопки нажимать, а уголь сам из забоя будет вываливаться... – Михаил не отозвался на слова Азоркина, сказанные с оттенком иронии, а тот одной рукой ловко накидывал совком уголь в пылающую печь, ворчал: – Пока кочегаришь – тепло, перестал топить – ветер все за полчаса выдует. Три кола забито, бороной накрыто – и весь дом. Уйду в общежитие, а то этим хламом привалит похлестче, чем в забое.
«Гу-гу-ух», – гоготал ветер, тряс дом так, что лампочка над столом покачивалась. «Ди-динь, ди-динь, ди-динь», – отзванивало стекло в черной, облупившейся от краски раме.
Сидели друг против друга, навалившись локтями на стол, а в черноте окна, словно на улице, за стеной, повторялся тот же стол, и они за столом, и там во мраке, глядели один на другого два хмурых человека – Азоркин и Михаил Свешнев.
– Как там новый начальник? – нарушил молчание Азоркин.
– Черняев? А ничего пока...
– А Головкин как?
– Плохи дела у мужика...
– И черт с ним! Я их не жалею!.. – покрутил Азоркин головой.
– Кого – их?
– Ну... вообще.
– Правильно делаешь, Петя, – не сдержался Михаил. – Столько доброго ты людям сделал, что на все право заслужил: и жалеть и не жалеть!
– Ох, и змей же ты, Мишка! Так и норовишь в завал загнать. Что мне над Головкиным плакать – своего вот так, – провел рукой у горла, заворочав кровянистыми белками глаз. Высморкался неопрятно, рукавом повозил под носом. Куда и щегольство делось?
«Пьет, наверно, дубина. «Что плакать». А сам только и ждет, чтоб пожалел кто», – думал Михаил, ловя себя на том, что надеялся увидеть Азоркина не прежним. Смерти в глаза поглядел, семья рассыпалась – все бы должно перетряхнуться в человеке, а тут только и изменения, что шея заотекла складками, лицо сыростью подпитало изнутри – ранняя старость принялась выправлять, казалось, вечно не стареющие его черты.
– На работу тебе надо, – сказал Михаил.
– Чего? А-а, – оскалил Азоркин зубы. – Я же все равно свой заработок получаю, покалечился-то не по своей вине. Я свое отработал!.. – И, не глядя на Михаила, заспотыкался на словах: – Тогда... не рассказал... что Райка-то?.. Что говорила тебе?
– Уеду, говорила, надоело, и все.
Михаил лопаткой ногтя щелкнул валявшийся на столе окурок, тот пулькой вылетел в проем двери. Тогда, в сентябре, ушел из этого дома с толку сбитый. Из всех чувств было ясно одно: жалко Раису, И сейчас она нет-нет да и предстанет в памяти. Ни времени, ни места не выбирает, всплывет, стоит перед глазами, в лаве ли во время работы или в раскомандировочной на наряде, когда он, Михаил, ни сном ни духом о ней – голова совсем другим занята, – а она: вот тебе я! С ресниц слезы катятся, голову к его груди прижимает, сердце слушает: «Вот, стучит... Теперь знаю, как оно стучит, и всегда буду слышать». «Что-то не совсем то на уме было, – тревожился Михаил в такие минуты, докапывался. – И хорошо, что уехала. Мало ли что могло разыграться». И все равно, вернись сейчас молодость, выбрал бы Валентину, не Раису, – тут уж сомнений нет и объяснений тому не было тоже.
Дней двадцать назад его встретила на пришахтовом дворе незнакомая женщина: «Вы Михаил Свешнев?» – «Я». – «Получите на почте письмо в отделе «До востребования». С неделю не ходил. «Пускай назад пересылают, а то будешь сердце надрывать». Но на почту все же пошел, не выдержал, да и не хотелось обижать Раису, унижать ее.
Недаром говорится – без стыда лица не износишь. У этого проклятого окошка «До востребования» запарился. Казалось, все знают, зачем пришел. Молоденькая девчушка подала письмо, улыбнувшись ободряюще: ничего, дескать, бывает. Прихватив в киоске что надо для ответного письма, ушел за город, в лес.
Под крутым берегом речки Упорной он разжег костер и, сидя на толстенной и гладкой, как кость, валежине, читал письмо и писал ответ.
Письмо Раисы было простое, сдержанное. Сообщала о своей жизни в Свердловске, что живут у родителей, работает. Только жаловалась, что он, Михаил, ей не снится: «Ложусь спать и говорю тебе: приснись, жалко, что ли? Но не снишься, хоть убей. Только Азоркин снится, а ты нет. Днем о тебе думаю, а ночью сплю зря. Помнишь, вашу бригаду фотографировали? Так я тебя вырезала, увеличила – портрет почти получился. Ты в каске, в спецовке, щуришь свои узкие глаза от солнца. Ты сейчас читаешь, а я за плечом стою...»
Михаил невольно оглянулся. Серое разнолесье, густые голые заросли подлеска... Справа сопки, слева сопки, и тоже в серой шубе леса, глухое, угрюмое гудение которого густо стекало в узкую долину... «Да что же это я? Что же это? – спрашивал себя и глядел на листок бумаги. – Человек страдает, а я виноват. Разве я сделал что-то такое, из-за чего должен страдать другой человек?»
«Одно сердце, говорят, страдает, а другое не знает – это лучше, чем знает, да не может ничем помочь, – писал Михаил в ответ. – Я раньше не знал о твоих переживаниях, было легче, а теперь знаю, но ничего от этого ни в твоей, ни в моей жизни измениться не может. Ты не виновата, что твое сердце не выдержало, созналось, а я тоже не виноват перед тобой ни в чем, но все равно виноват, потому что твое сердце болит не из-за кого-то, а из-за меня. Я тебя не ругаю, ты не обижайся, но если твое сердце болит из-за меня, то и мое от этого не на месте и тоже болеть должно. Пожалуйста, думай обо мне поменьше, а то я, наверное, слышу твои думы и сам думаю о тебе. Письмо твое хотел сжечь, да не посмел. Посылаю его вместе с моим – пускай у тебя лежат. А мне больше не пиши, я все равно на почту не пойду».
– ...Говорила же она что-то про меня? Не может ведь так?.. – потребовал Азоркин, отрывая Михаила от его мыслей.
– А у тебя ее адрес есть? – спросил он.
– А как же? Деньги-то контора на ребят высчитывает.
– Вот и напиши ей, узнай...
Азоркин не обиделся на Михаила из-за его резкого тона, но запечалился, голову повесил.
– Подкосила меня Райка, под самый корень подкосила. Э-эх! – простонал Азоркин, запустив руку в кудлатые волосы, словно собираясь рвануть из них клок.
– Да уж верно. На руках ты ее носил. Чего только бабе надо было? Жили душа в душу... Неблагодарная. – Михаил поднялся.
– Мишка, подожди. Подожди, Мишка, – стал уговаривать Азоркин, весь сразу пообвянув, как лопух на жаре. – Я ждал тебя. Посиди еще малость. Есть, поди, хочешь. Сейчас Зинка придет, сготовит. Посиди!..
Азоркин хватал за рукав Михаила, заискивающе улыбаясь, заглядывал в лицо.
– Ладно, посижу. – Стараясь не глядеть на жалкое лицо Азоркина, Михаил опять сел. В душе поднималось такое гадливое чувство, будто он побил слабого, беззащитного человека. – С тобой ведь хоть сто лет сиди, а чего высидишь? – сказал таким тоном, в котором было и извинение за горячку, и жалость к Азоркину, и просьба задуматься, поглядеть на себя и понять, кто ты есть такой.
– Ну вот и ладно! – Азоркин метнулся к печке, звякнул ложкой по пустой кастрюле. – Вот же! И покормить тебя нечем.
– Я в буфете ел. Не переживай. Кого все ждешь-то?
– Ходит тут одна... – Азоркин зло бросил ложку в пустую кастрюлю. – Рассчитаю к черту!
«Рассчитаю!» Ишь ты! Михаил был в каком-то странном бессилии перед Азоркиным, точно так, как однажды по дурости надумал купаться в шторм. Носило его прибойной волной туда-сюда, катало по песку, никак не выхлестывая на берег. Но тогда он сумел все же вкогтиться в плотную мокреть песка, не дал волне утянуть за собой. «А что, если теперь вцепиться в Азоркина, рвануть: выдержит так выдержит, а нет, так...»
– Ладно, Петр, посадил, так и сам садись. Придет твоя ненаглядная, не волнуйся, а не придет – рассчитаешь, другую примешь. Садись.
Азоркин с готовностью сел, вытряхнул из пачки по сигарете Михаилу и себе, потряс спичечным коробком и ловко вычеркнул огонь.
– Видал? – похвастал он.
– Вот и шел бы на работу. Деньги деньгами, а без работы... кровь-то шибанет в голову!
– Я подумаю. Начальник быткомбината уже звал.
– Ты не думай, – настаивал Михаил. – А завтра прямо иди. Чего тут думать? И при деле и при людях... Я за этим и зашел к тебе, поговорить. Безделье-то, знаешь, до добра не доводит. Ну а раз так, то и отлично!..
– Ладно, это потом, – перебил Азоркин. – Ты все же расскажи: что Райка-то?
– Толкни дверь, – попросил Михаил. – Накалил, дышать нечем.
Азоркин шагнул к двери, распахнул, и сразу ударил ветер через весь дверной оклад, словно его и не задерживала веранда. Леденистая масса воздуха так туго набилась в домишко, что казалось, его вот-вот разорвет, развалит изнутри.
– Ты бы хоть взял да соврал мне, что ли? – Михаил говорил тихо, прислушиваясь к завыванию ветра. – Эх, мол, подлец я, подлец: как же я жену свою потерял и не заметил? Как же, сказал бы, я жил, что дети ко мне в больницу не пришли прощаться? Ну, соври, а? Что тебе стоит?
– Судишь? Судье-то всегда легче, чем подсудимому, – процедил сквозь зубы Азоркин.
– Не сужу я, Петро. Но и сопли тебе утирать не буду...
– Да уж ты вытрешь... Вместе с носом оторвешь. Ты такой!... Везет мне на друзей, – добавил он с усмешкой.
– Это когда же я тебе другом стал? – удивился Михаил. – А-а, черт с тобой, друг, недруг... На работу только завтра выходи!.. Азоркин ты Азоркин, сколько сердечных людей вокруг тебя, а ты ни единой души не увидел. И ведь заранее знал, что придут они к тебе, добрые, утешать, помогать, а ты натешишься в их благодати. При-и-дут, – протянул голос. – А ты – нет! Прошу, не поддавайся им...
Азоркин набычился. Свесившаяся сивая прядка волос мелко-мелко дрожала. Он вдруг замотал головой, закачался, как от зубной боли.
– Миша!.. – сорвался с места, обхватил Михаила сзади за плечи, сжал их до хруста.
– Петя, прости меня, дурака. Прости!.. – выдохнул Михаил. – Ну! Брат ты мой?! Жить будем, Петя. Что нас своротит?! Смерти кукиш в зубы сунули. А! Жить будем! Ложись спать, а завтра день придет. Наш день. Э-эх!
– Иди. Поздно. Иди, – всхлипывал Азоркин.