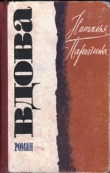Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
10
Разбор несчастного случая длился два дня. Вел его начальник областного управления Государственного горно-технического надзора Горохов.
Все, кто был прямо или косвенно причастен к происшествию, сидели в приемной тихо и напряженно, как перед судом. И стороны были явно обозначены: Колыбаев, Головкин, Валерка Ковалев – рядышком у одной стены, а Михаил, Черняев и Костя Богунков – у другой. В кабинет приглашали по одному. На сколько кто себя чувствовал причастным, на столько и отличалось их внутреннее состояние. Колыбаев сидел несгибаемой глыбой в центре своей троицы. Кулаки в колени, глаза прямо перед собой уставлены – ударь молния, не моргнут. Валерка – слева от Колыбаева, и видно было, как ему хотелось пересесть подальше от Колыбаева и как он боялся от него оторваться. Лицо его то подергивало улыбкой, то сжимало, словно от боли, а глаза пугливо бегали, ни на чем не останавливаясь. Василий же Матвеевич Головкин был явно смят горем. Утром, вроде случайно, он встретил Михаила в прихожей бытового комбината.
– На пару слов, Михаил Семенович... Я хотел бы... – мял Головкин слова. – Была ли хоть какая возможность поднять корж вагой?
– Там же пятнадцать тонн с гарантией!
– А может, показалось в суматохе?.. – искал Головкин спасения. – Колыбаев с Ковалевым говорят – можно было...
– Что это они! – возмутился Михаил. – Мы с Колыбаевым пытались. А Ковалев... Что он мог видеть? Его же в лаве не было. Да и что теперь говорить: можно, не можно?
– Тогда и объясните одинаково все втроем комиссии, – просил Головкин почти умоляюще.
Михаилу бы обидеться, взорваться, а его будто веревками всего повязало жалостью.
– Все, как было, так и скажу, – пообещал твердо. – Чего же нам петлять, Василий Матвеевич? – сказал, вроде не возражая, а увещевая своего начальника.
А тут звеньевой Костя Богунков – весь едучая кислота.
– Что жалеешь? – набросился на Михаила. – Они бы тебя пожалели? Как же!
– Помолчи, – сдавленным голосом выговорил Михаил.
Костя вскинул на Михаила свое круглое, в желваках мускулов лицо и отвернулся, больше не проронив ни слова.
В кабинет приглашали по одному, но обратно не выпускали. Михаила вызвали последним, уже в самом конце дня. Он устал ждать, в кабинет вошел весь какой-то одеревенелый, ко всему безразличный, ровно он отработал сутки в шахте. Говор в кабинете смолк, и все лица враз повернулись и уставились в Михаила, а он, не дожидаясь, сел на крайний стул, у дверей, не заметив, что оказался впритирку с Колыбаевым.
– Расскажите комиссии все и как можно подробней, – утомленно произнес Горохов.
Михаилу на все подробности хватило минуты две.
– Расска-жи-те комиссии... – врастяжку, по слогам повторил вопрос Горохов.
Михаил догадался, что Горохов его не расслышал, – пересказал громче и четче.
– Так, – заключил Горохов. – Каков был вес монолита породы, которым зажало руку пострадавшему?
– Тонн на пятнадцать.
– А точнее?
– Точней не знаю. Не взвешивал.
– Вы, Свешнев, кричали: «Вагу, вагу!» Вы, что же, хотели этой вагой вдвоем пятнадцать тонн поднять?
«Вон он к чему клонит...»
– Надо было и вагой испробовать, – ответил Михаил убежденно. Обернулся к Колыбаеву с Валеркой: – А они, что же, сказали, можно было поднять? Пускай при мне скажут...
– Подтвердите, товарищи. – Горохов кинул карандаш на стол.
– А чего подтверждать? – забасил Колыбаев над ухом Михаила. – Чего подтверждать? Всего и было-то от силы полтонны. Если бы Свешнев не угнал Ковалева, там и подымать было бы нечего...
А Валерку ложь корежила: в глаза не смотрел, лицо отвернул в сторону.
– Корж небольшой был. Вот такой, – показал рукой над полом. – Килограммов на... это... – И, уловив, как прянул рядом и кашлянул Колыбаев, поправился: – Нет, это… на четыреста этих... килограммов.
– Ну так что это получается, товарищи? – Горохов покачал головой. – Разница в весе существенная.
– Дался вам этот корж! – возразил Михаил. – Уводите от главного.
Горохов поморщился. Он знал, что председатель шахткома приготовил автобус, на котором повезут комиссию в зону отдыха шахтеров в бухту Уютную. Прохлада открытой веранды, шорох волн, уха... Горохов даже глаза прикрыл голыми, без ресниц веками, представил близкую благодать и оттого и вовсе изнывая от уже выясненного, как ему казалось, дела.
– Комиссия в течение двух дней тщательно расследовала причины, приведшие к несчастному случаю с тяжелыми последствиями. Исследовался и сам факт несчастного случая. Выводы комиссии будут представлены после предварительного совещания. А пока я имею сообщить, что выемка угля в очистном забое лавы номер пять велась морально устаревшими техническими средствами при отсталой технологии ведения горных работ. Паспорт крепления лавы был составлен без учета изменения горно-геологических условий в худшую сторону, в нужное время не пересматривался, в результате чего произошло естественное обрушение кровли по всей площади лавы...
Лица всех присутствующих, как подсолнухи к солнцу, обратились к Горохову. Но все были так измотаны, что почти его не слышали.
– ...Комиссия установила полную профессиональную неспособность руководства участка, слабый контроль над участком дирекции шахты... Словом, руководству объединения «Дальуголь» будут предложены меры наказания всех, косвенно виновных в происшедшем. Комиссия установила, что машинист горных комбайнов Свешнев Михаил Семенович самовольно вмешался в руководство звеном при наличии бригадира, удалив из лавы в самый ответственный момент Ковалева, в результате чего не представлялось возможным поднять монолит породы посредством ваги... Позже, товарищи, позже акт будет оформлен надлежащим образом, – зачастил Горохов, почуяв оживление, – а пока извините меня за нечеткость формулировок.
Костя Богунков не выдержал:
– Что тут, дураки, что ли, все сидят, – в глаза людям смеяться? Да если бы в корже четыреста килограмм, то его бы любой шахтер бревном подважил!
– Фамилия ваша? – со значением переспросил Горохов,
– Богунков. Запишите!
Комаров слова до этого не проронил, сидел, задвинувшись между сейфом и телевизором, ничем не мешал Горохову и что-то изредка записывал в книжку. А сейчас он глядел на Горохова с неудовольствием. Поднялся, чуть склонившись в сторону Горохова.
– Простите. Алексей Александрович... Богунков! – возвысил голос. – Веди себя прилично или выйди... – Костя вроде одна худоба, а прошел к двери – и паркет под его ногами потрескивал, как молодой лед. Комаров подождал, когда за ним закроется дверь. – С выводами комиссии мы еще разберемся. И горб для наказания хоть и неприятно, но придется подставлять. К несчастному случаю мы пришли сами естественным образом. И если бы мы правильно и своевременно отреагировали на поступающие сигналы, ничего подобного не было бы. Кстати, что же вы, Колыбаев, грубо так просчитались? Опытный горняк, а забыли, что два человека вагой вагонетку с углем на рельсы ставят. А в вагонетке больше двух тонн!..
Колыбаев ни позы не изменил, ни рукой не пошевелил. А Головкин рядом с Колыбаевым – вода-кисель. Обычно смугло-румяное его лицо за эти дни одрябло, как брюква на солнце, в глазах крик: «Пощадите – пропаду!» А всего четыре дня назад наставлял словами: «Смелость, риск, находчивость!» «Неужели обязательно нужно людям через беды, через катастрофы проверять цену словам?» – лезло в голову Михаилу.
На шахтовом дворе он встретился с Дарьей Веткиной. Жарища – дыхнуть нечем, а она в толстой самовязаной кофте, в шерстяном платке, да еще куртка капроновая из кирзовой сумки торчит.
– На работу?
– Куда же еще! – Старуха стянула с головы платок, отерла испарину с лица. – Что порешила-то комиссия?
– Порешила... – вяло ответил Михаил. – Все порешила.
– Ты чего язык-то жуешь? Мне Головкин встретился. Лица на человеке нету.
– Ему, тетя Даша, труднее всех. Ему теперь не выкарабкаться.
– Судить будут?
– Вряд ли. Там виноватых хватает. Завтра приду картошку копать. Спина уж стянулась – можно.
– Да чего там! Одна справлюсь. – А у самой взгляд просящий.
– Иди, в раздевалке сейчас прохладней. Испарилась вся.
Михаил проводил взглядом Дарью, увидел, как приволакивает она стоптанные полуботинки худыми, жилистыми ногами; еще увидел, как цепочкой входило в автобус начальство. «Хорошо под воду-то сейчас». Прошел МАЗ, ревя так, будто его вот-вот должно разорвать на осколки. Казалось, он оставил после себя невидимый коридор, заполненный удушливым синим газом.
Лето шло в последнюю, отчаянную контратаку на осень уже не от силы, а от дури, осень спокойно и снисходительно глядела на эту дурь каждой задубевшей от старости бурьяниной, каждым тускло-зеленым листом дерева, еще сохранившим эту зелень больше для формы, чем для жизни, – глядела проплешинами убранных огородов, отдающими запахом выморенной земли, поблекшим склоном неба... «Вовремя, тетенька, надо жить», – думал Михаил о лете. А на ум почему-то пришел Головкин. «Как он теперь? Чужой ведь, расчужой он людям! Да и ему, похоже, никого не надо...»
Семья была в сборе. Олег с Сережкой, голые по пояс, босые, в закатанных до коленей брюках, выкорчевывали пень спиленной яблони, Валентина в дальнем углу сада подбирала с земли сливы.
– Мама, – завидев отца, позвал Сережка.
Михаил опустился на ступеньку крыльца, в густую тень от сирени, спешно разулся и стянул с себя промокшую от пота рубашку; выдохнул облегченно.
Город томился в предвечернем дрожком зное, в синеватом безветрии сожженного бензина; а здесь, вверху, из леса и сада приятно потягивало блаженной студеностью, обласкивало тело будто бы родниковой струей.
Сыновья и жена встали перед ним в молчаливом ожидании. Михаил глядел на них так, будто не он, а они ему должны сказать что-то долгожданное. Некстати залюбовался Олеговым мощно оформляющимся телом – грудь от поджарого живота круто пошла вширь – подумал: «Могуч же ты будешь, парень».
– Ну, чего вы, как перед генералом? – улыбнулся наконец, притянул Сережку к себе, притиснул, ощущая под руками его хрупкие ребрышки. – Ох, какой ты у нас кормленый. Все бока салом заплыли. – Тыкался лицом в выгоревшие волосенки сына...
– Да говори же ты! Целый день ждем! – взмолилась Валентина.
– Все нормально. Не переживайте. Олежка, ты брось этот пень, лучше забор поправь, а то еще раз дунет...
Вошел в дом, бросил на прохладный пол матрас, подушку и повалился. Подумал: «Головкин... Валерку бы ремнем высечь...»
Он не проснулся на вечерней заре. Полночь взошла лунная, ясная. Дети уже спали, а Валентина все не ложилась. Склонялась над освещенным луной Михаилом, будила мысленно, сдерживая биение сердца.
Выходила на крыльцо, садилась на еще не остывшие доски, плотно сжав руками колени, вглядываясь за калитку в часть видимой улицы, испятнанную тенями. «Спит и спит», – укоряла Михаила. Прошла за облуненную сторону дома, где у фундамента стояла большая чугунная ванна с водой, разделась и опустилась в благостную прохладу. Глядя на слабые звезды, слушала свистящее, с захлебом пение сверчков и вспомнила, как один раз целовалась на веранде с Азоркиным. «Ох, девка, так ты и воду вскипятишь, – улыбнулась звездам. – А Райка-то шутка-шуткой, а зарится на моего, – ворохнулось ревнивое. – Это Михаил, тюха-простуха, не видит. – Представила Раису и, как ни старалась найти в ней изъяны, не находила. – Красивая, зараза такая. А Петьку, видно, не любит. Он гуляет, а ей хоть бы что». Вообразила, как Раиса встречает Михаила ночью после второй смены, и враз ей теплая вода показалась ледяной.
Спешно вылезла из ванны, на веранде долго растиралась полотенцем, поцокивая зубами от остуды, которая вроде не от воды была, а от сердца.
Помогла сонному Михаилу перебраться на кровать. И все глядела, глядела на него, спящего, изредка тихо целуя, пока свет зари не победил лунную желтизну.
11
Они сидели в больничном глухо заросшем сквере, и солнце грело, и кузнечики стрекотали, как в поле. Азоркин был в стоптанных тапках на босу ногу, в байковой пижаме внакидку, держал культю на перевязи у черной волосатой груди.
– Что, болит? – кивнул Михаил на культю.
– Уже почти не слышу. Заживет как на собаке. Они тут умеют лечить... – и оскалил белые крепкие зубы то ли в улыбке, то ли в досаде.
– Ты чего? Обидели, что ли? – пытался заглянуть Азоркину в лицо Михаил, а тот, задирая голову, отворачивался, вскидывая подбородок.
– Райка-то моя уезжать собралась, – сказал он как бы между прочим.
– В отпуск? – спросил без особого интереса Михаил.
– «В отпуск»! Говорю, совсем уезжает...
– Чего плетешь! – Михаил, отстранясь, глядел на Азоркина. – Не болтай лишнего! В таком положении, – показал глазами на культю, – человека не бросают.
– Ты знаешь, сколько она у меня была в больнице за три недели? Два раза: один раз у врача, другой раз у меня. Позавчера. Позавчера и объявила. Придавила по-черному, хуже, чем в лаве...
Азоркин глядел на Михаила, и тот уловил в нем тоску больную, человеческую, и потому незнакомыми показались ему его глаза. Того привычного Азоркина, не знающего ни добра, ни зла, перед Михаилом не было.
– Может, она за прошлое попугать решила, – предположил Михаил, веря в свое предположение. – Что я, Райку не знаю?
– Миша, зайди к ней, а! – оживился вдруг Азоркин, должно быть, заражаясь уверенностью Михаила. – Только тебя и больше никого она не будет слушать. Уважает она тебя, белобрысого. А за что тебя уважать, угрюмого такого? – Игриво толкнул плечом. – Вот подожди, еще подерусь с тобой. Мне теперь драться удобней – пальцы не вывихну...
– Ефим приходил?
– Ты чего?! – неподдельно удивился Азоркин. – Прийти – надо рубль потратить. Да и на кой ляд он мне сдался. Тут врач есть. Насонов его фамилия, врач, видно, хороший и человек как человек, да что-то невзлюбил я его... Глядит на меня, как будто насквозь видит...
– Ну и ладно, пусть смотрит. Тебе что?
– Да он мне ничего, – передернул плечами. – Раньше бы пускай глядел. А теперь... Вроде бы ложился спать, все было, как было, а проснулся – и все не так...
– Петро, ты запомнил тот корж, ну вес его хоть приблизительно? – переключил его Михаил на другое.
– А что? – забеспокоился Азоркин.
– Да ничего, так, для собственного интереса спрашиваю...
– Нет, Миша, не запомнил. А чего я запомнить мог? Ты же сам знаешь. – Азоркин глядел виновато. – Сам-то ты видел, какой он?
– Да тонн на десять-пятнадцать...
– Ага, вот оно как... – Задвигал по скулам желваками. – Колыбаев – какая гадина! – сказал сквозь зубы. – Я ведь плохо что помню, а то, что на тебя все взвалил, а сам свою шкуру спасал, – это запомнилось. Во, душонка... Я, подожди, вот выйду отсюда! – Азоркин стукнул кулаком по скамейке, да, видно, не рассчитал, больно ушиб и помотал пальцами.
– Не вздумай на себя лишнего брать. А то всякое бывает... Колыбаеву все равно никто не поверит. Он перегнул: сказал, что полтонны, а полтонны и один вагой подымет. Я к тому – может, Валерка считает, что тот правду говорит.
Азоркин искоса поглядел на Михаила. Видно, все-таки сомневался, за кем правда: за ним, Михаилом, или за Колыбаевым.
– Вообще-то ты зря Ковалева из лавы выгнал, – заговорил он снова, мрачнея. – Что было гнать? Втроем, может, и подняли бы. Не гнал бы, так...
– Он же мальчишка! А обернись все по-другому?.. Да и что после драки кулаками-то...
– К Райке зайдешь, нет?
– Зайду. Поправляйся тут!
Пошел, загребая подошвами палый лист, и сердце, полегчавшее в начале разговора, огрузнело, словно тело всем весом навалилось, сжало его, как в ту тайфунную ночь в шахте.
Метрах в ста от шахты по пути к дому Свешневых был когда-то небольшой низинный пустырь, от пустыря начиналось картофельное поле. Оно по пологому склону подходило к задней барачной улице города. На месте нынешней заасфальтированной насыпи был проложен деревянный тротуар, который шахтеры по подземной привычке называли «сбойкой». Еще до войны слева от тротуара, в низинке стала опускаться почва, потому что под ней, в глубине, были выбраны несколько пластов угля. Получилось искусственное озерко с грязно-серой водой глубиной метра в два. Озерко назвали Мочалом. В нем с весны бултыхались ребятишки и ловили неизвестно как заведшихся маленьких бычков-ротанов, окрещенных за черные спинки «шахтерами».
После войны картофельное поле начали застраивать частники, в основном народ рабочий, с «Глубокой», которому до тошноты надоело барачное жилье. Денег, ясное дело, для построек добрых домов не было, а потому домишки лепили на скорую руку «из подручных материалов», благо, что рядом шахтовый лесной склад и сама шахта, из утробы которой выдавали, кроме угля, всякий древесный лом. Шахтовое начальство словно нарочно нестрого охраняло лесной склад, только не будь наглым, знай меру: на балки да нижний венец возьми длинномера, и будет, а стены из чурок «в заброску» соображай. Улицы тоже: один – давай так, другой этак. Архитектора в городе то ли не было, то ли был, да не следил, а пока хватились – уже готово дело! Не будешь же разваливать дома из-за новой планировки. Недаром Василий Матвеевич Головкин не без труда проторил свою дорожку от шахты до дома сквозь россыпь домишек и кружевную канитель заборов.
Поселок прозвали Богатым в пику соседнему, каменные и деревянные особняки которого утопали в садах, рядом с городским парком. Жил в этом поселке народ цепкий в нашей жизни, и по адресу поселок значился Парковым, но весь город его звал Бедняцким.
Со временем иронический смысл прозвища этого поселка – Богатый – утратился. Тут и там старые домишки пораскатали, на их месте новые поотгрохали, с гаражами, с летними флигелями, с беседками в садах. И только на бережке Мочалы остался неизменным дом Петра Азоркина, построенный его покойным отцом. Азоркин-старший не в пример другим расстарался: домишко построил не из шахтовых сломанных рудстоек, а из старых просмоленных шпал, обшил тесом и верандочку прилепил; садом обсадил, мосток над Мочалом навесил с перильцами – хоть стирай, хоть воду для поливки бери. Зато наследник его ни к чему больше рук не приложил. Среди высоких белых шиферных крыш дом Азоркина жил будто древний старичок под темной, такой нелепой для города деревянной крышей. Темная же, некрашеная верандочка норовила отвалиться от стены, и Азоркин, видно, мимоходом подпер ее по углам двумя неошкуренными рудстойками.
Михаил застал Раису в последние минуты сборов. Сел у голого, пустого стола, сказал первое, что в голову взбрело;
– Не жалко уезжать?..
– Жалко? – переспросила она. – А чего жалеть? Вот эту халабуду... – Поглядела долго и печально, добавила со вздохом: – А может, и жалко, да кому об этом скажешь?
Она проворно уложила в шкаф одежду мужа, которая кучей валялась на полу, уперла тонкие, округлые руки в бедра, туго обтянутые юбкой, выказав такую тонкую талию, что Михаилу подумалось: нагнись Раиса – и переломится в пояснице. «Чего ему еще надо было?» – ругнул Азоркина.
Раиса, прикусив губу и склонив голову, что-то соображала.
– Ну, кажется, все, – присела за стол напротив Михаила. – Эх, Мишка, Мишка, не все, ох не все умеют ценить... – проговорила с каким-то отчаянием.
– Все так: имеем – не бережем, потеряем – плачем, – утешал Михаил неумело.
– Тебя бы я не потеряла...
– Что тебе до меня? – Он недовольно дернул головой. – А когда был парнем, ты бы ведь за меня не пошла?..
– Не пошла бы, – согласилась Раиса. – Ну что в тебе было такого? Парень как парень, я же помню тебя! А нам, девкам, петухов надо! Голландских! Чтобы перья яркие, хвост – во! Как у Азоркина... А твоя Валентина, ты прости, Миша, тоже на Азоркина зарилась, думаешь, я тогда у вас зазря выпалила? – Михаил резко взглянул на Раису, и красивое ее лицо стало ему неприятным. – Ну прости, если не так... Я Валентину знаю... Она бы не позволила, да глаза-то у ней горели... Горели! – продолжила упрямо.
– Злости в тебе, Раиса, накопилось много, – сказал Михаил кротко. – Тебя и осуждать за это грех, да все же не надо бы эту злость копить... Стыдиться потом сама себя будешь.
– Хорошо тебе, Миша. Тебе за свою жизнь стыдиться нечего. Ты вон за кого на смерть шел – весь город об этом говорит, – за петуха этого. А из-за таких, как Азоркин, и другие, может, себе жизнь калечат. Злости, говоришь, накопила много. Да на него у меня злости, на всю жизнь мне отпущенной, не хватит. А ты говоришь – лишнего накопила!.. – Раиса вздохнула, подошла к окну, что-то поглядела. – Послала девчонок за шнуром в магазин, да вот не дождусь! Наверное, за мороженым стоят, лизуньи.
– Помочь? Может, чего надо?..
– Не надо, Миша, мы налегке. К матери, в Свердловск. Зашел вот – спасибо большое, все же полегче мне после будет. Вспоминать стану... что и такие есть, да не мне достались...
– Что ж ты все обо мне да обо мне, – оборвал Михаил, но так и застыл, увидев, как с ресниц Раисы часто-часто капают слезы. Посмотрел туда-сюда, будто призывая кого на помощь. Или опасаясь, чтобы не увидел кто. – Рая, не надо! Тяжело тебе, я понимаю... Плохо...
– Ой, как плохо-о, Миша! Пло-ох-о! – Раиса уронила голову на руки, широко рассыпая светлые волосы.
Михаил потянулся рукой к ее голове, но воровато приостановился и рассердился на себя. Ощутил ладонью пух волос и головку, такую по-детски маленькую.
– Не реви, перестань, – уговаривал неловко. – Нашла о ком плакать!
Раиса ухватила его руку, улыбнулась с усилием сквозь зареванные глаза, а он не смел отнять руку, как у ребенка не смеют отнять игрушку: отними – и опять рев.
– У тебя и рука добрая, не только сердце.
– Не пойму я вас, женщин: когда надо было бросить, жила с ним, когда не надо – бросаешь. Здоровый да постылый нужен был, а теперь побоку... Неладно что-то...
Раиса пошла к дивану, стена над которым пусто белела прямоугольником от снятого ковра, склонившись, что-то поискала в сумочке, а юбка, и без того короткая, высоко открыла ладные полные ноги, широкие подколенья с ямками, и Михаил отвернулся, подавляя в себе горячую волну. «Умеют они выставляться...» – подумал неприязненно. Она взяла из сумочки платок и расческу, стала приводить себя в порядок, сразу превратившись в глазах Михаила из беспомощного ребенка в уверенную женщину.
– Ты за него не переживай, – заговорила, успокаиваясь. – Я его не одного оставляю. Сколько у него их, ласковых? Вот и пускай хватают, кто успеет...
– Мстишь, значит?
– Ну и мщу! – Раиса смотрела вызывающе. – Я что, не имею права на месть? Я, помню, в роддоме лежу, а у него тут новая хозяйка. Нет уж: был здоровый – для всех, а теперь – мне одной?.. Так несправедливо!
«Да уж точно, несправедливо, – мысленно согласился Михаил. – Но и казнить вот такого теперь тоже справедливого мало».
– Он же отец твоих детей. Об этом ты подумала? Будут потом жестокими.
– Да они уже сейчас к нему жестокие. Как ни уговаривала, в больницу к нему не пошли. Молчат – и все. Они же еще вот такие были, – показала чуть выше стола, – а его ночь нет, да вторую... «Где папа?» А я им: на работе. Постарше стали – меня же во лжи уличать начали. Ага, говорят, ты неправду нам сказала: папка наш у другой тетеньки ночует. Возле такого отца детей держать – только души им портить. А отвечать за них мне – не Азоркину, он ни за кого не ответчик, даже за себя...
«Это уж верно: не ответчик», – снова соглашался в мыслях Михаил.
– Погибнуть он может, и, кроме тебя, его никто не спасет... – вслух твердил все же свое.
– Ну и что – погибнет? Сколько людей на свете гибнет, а я при чем? Мать моя говорила: все погосты не оплачешь! – Раиса была рассудительна и, казалось, спокойна. – И не вешай ты его на мою совесть! Я его спасать должна?! – вдруг разгорячилась снова, всплеснула руками. – Ненавижу! Да не только я, но и дети. Вот и ты... А что? разве нет? Думаешь, не вижу?! Я его уже за то ненавижу, что другие из-за него страдают. И не говори про него больше! Не говори! И сам не думай о нем, не страдай, он не стоит страданий. Из могилы вытянул его, что ему еще надо? Выбрось его из головы, пускай живет как хочет. Я знаю: меня за него люди судить будут, а вот его за меня не судили!..
– Ладно, – согласился Михаил, – бросаешь – твое дело, а что мне делать – это мое...
Они замолчали надолго. Да и что скажешь, чем поможешь? А у Раисы сердце защемило: то, о чем с такой легкостью она говорила Михаилу, сейчас вдруг придавило, пристыдило. Вот сидит он так близко сейчас, а такой недоступный, что не только словом, даже взглядом до него не дотянуться...
Солнце через маленькие окна вывесило желтые коврики на ребристых из-за грубой штукатурки стенах: щелястый пол с провисшими половицами темнел по углам мышиными норами, неумело залатанными жестью, верно, самой Раисой.
«Тут и не могло быть счастья», – подумал Михаил, и внезапно открылось: семья Азоркина начала рушиться уже давно, вместе с этим домом. Крепкой семье и дом крепкий нужен. Азоркину характер не позволил поставить крепкий дом, если бы он его поставил, значит, не был бы Азоркиным. Выходит, покалечился Азоркин или остался бы здоровым – все пришло бы к своему концу.
– Ну что же, – Михаил поднялся. – Поезжай, Рая. Дороги тебе хорошей, ну, в общем... чтоб хорошо в новой жизни все было! Я тебе не судья... А счастье, говорят, в нас самих, не на стороне где-то...
Уходить надо, а у нее такая тоска в глазах, ровно последний час ей жить осталось: словами можно солгать, а глаза не солгут.
– Такое ты мое горе, такое тяжелое – поезду не утихнуть... Ну иди, Миша. Иди, а я поплачу одна, пока детей нету...
Михаил снова прикоснулся к ее волосам, опять ощутив ее по-детски беспомощную голову. «Только бы не разнюниться», – подумал. А Раиса взметнулась вдруг, обвила его шею, прижалась щекой к груди и замерла.
– Сердце слышу. Вот, стучит, стучит, будто идет кто усталый. Вот, стучит. Я теперь знаю, как оно стучит, всегда буду слышать...
– Ну, ладно, пора.
А она руку его не отпускала, точно страшилась остаться одна.
С крыльца Михаил сошел осторожно, почему-то заботясь, чтоб не проломить старенькие ступеньки. У калитки остановился. Нет уж, кто в сердце тебя уносит, тот не чужой тебе. Раиса стояла в темном проеме дверей, платком прикрывала вздрагивающие губы.
– Ты пиши нам, – сказал Михаил таким голосом, что и сам его не узнал. – Что, как там... Помощь, может, нужна... не стесняйся...
Поднялся на асфальт насыпи, глядел сверху на четкое отражение дома в Мочале, на сам дом, на эту темную кучу гнилья, зубчато ощетинившуюся обломанным карнизом крыши.
К Азоркину в больницу он пришел на следующий день. Долго ждал в сквере – Азоркину как раз делали перевязку. Вышел прогуляться Федор Лытков. Кожа да кости под тонким полотном пижамы. В шахте, бывало, на себя нанижет ватников да сверху еще натянет капюшон резиновый – и похож на человека, а тут комар комаром.
– Только в шахте был и уж в больнице! – удивился Михаил.
– А-а, – махнул рукой Лытков. – Радикулит... Давнишний уже, застарелый...
Сел рядом, темные руки переплел в коленях, как муха лапки, выгорбатил костлявую спину. Михаил вспомнил, каким могучим мужиком был Лытков лет двадцать назад: бревна кидал, как веники. Казалось, за что ни брался, веса не чувствовал. Сколько машин на его веку износилось, сколько он, кидая уголь, лопат о почву стесал, сколько кайл сбил по самую трубицу, сколько вагонеток перекатал!.. Не счесть.
– Отдыхать тебе надо, дядя Федя. Сколько можно?
– Отдохнем! Придет время, вечно отдыхать будем... Это теперь: только вылупился, а ему уж отдыхать давай. У меня вон внуки... полдня в школе отсидят, полдня по улицам пробегают, а лето придет – грядку картошки не прополют. Покупай, дед, на шахте путевки: отдыхать! Это мы с тобой, как заведенные. Ты к Петру?
– Ага.
– Волк он, Азоркин твой, как есть – хищник. Семью моего Степана разрушил. Внуки теперь без отца... Я Азоркину тогда говорил: погоди, поплачешь. Сбылись мои слова... Он и мне жизнь годов на пять поубавил.
– Нехорошо, так, дядя Федя. Старый человек, а такое говоришь...
– Нехорошо, нехорошо! – Дед недовольно покачал головой. – Больно ты добренький, а я не такой.
– Ладно, дядя Федя, дай нам с Петром поговорить, – сказал Михаил, увидев идущего к ним Азоркина.
– Говорите, что ж... – Лытков поднялся. – Только гляди, Мишка, на кого слова тратишь. Себя пожалей, совет мой!
– Говорил с Райкой? – Азоркин сел, прижал к груди забинтованную культю, как ребенка. – Я тебе наказ давал...
– Говорил... – От его ли резкого тона, от слов ли Лыткова Михаил стал закипать раздражением. – Уехала она вчера!
– Так-так!.. Уехала...
Азоркин долго глядел перед собой, затем переломился, точно от удара под грудь, обхватил голову здоровой рукой, плечи мелко вздрагивали, и Михаил понял, что тот плачет, но вместо жалости почувствовал в себе внезапное озлобление.
– Перестань нюнить! Скулил бы при тех, кто не знает! Тьфу!
– Плюешься? – выпрямился Азоркин. – А вот это ты видел? – потряс культей перед лицом Михаила. – Угнал Валерку, а втроем бы подняли. Корж-то пустяковый был... Выходит, виноват! Ты... И рука целая была бы! Целая! – Опять сунул культей Михаилу под нос. – А теперь зачем мне жить? Если родная жена от меня отказалась?
– Заткнись! Много ты понял. Ты про детей ни разу не вспомнил. Замолчи, а то не погляжу, что калека... Тебе и вправду жить незачем!
Михаил зло бросал слова и был страшным: Азоркин, испуганный, отпрянул на край скамейки.
– Ты чего... грозишься? Сам знаешь мое состояние... – сказал, будто извинения попросил.
– Привык к семи нянькам! А теперь ни одной не будет! – не унимался Михаил. – Поживешь один, небось думать станешь.
– Поживем – увидим, – взбадривал себя Азоркин, а у самого глаза растерянно метались. – Еще сойдутся наши пути-дорожки!..
– Да нет уж! У каждого своя. И мне по твоей не ходить.
– Не тебе судить, праведник! Такой праведник, что тошно с тобой. Вон у Вальки своей, хочешь, спроси!..