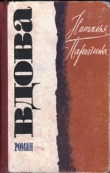Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
16
Три брата Свешневы и сестра Анна уже года три как переехали в Чистоозерную – центральную усадьбу совхоза. В Чумаковке, в родном доме, остались старики. Деревня почти пустовала – ее по какому-то большому плану должны были сносить, да что-то временно отложили будто: сносить не сносить, а житья нормального лишили тех, кто в ней остался, – обрезали электрические провода и закрыли магазин. Как отключили свет, так и водокачка перестала работать. А колодцы без надобности еще и раньше позавалились, только Семен Егорович Свешнев держал свой колодец в порядке, потому как вода из скважины была жесткой, в ней даже мыло не мылилось, а рассыпалось хлопьями – ни чаю из такой воды всласть не попить, ни в бане толком не помыться, от нее, говорил отец, «волосы на голове, что щетина у бешеного поросенка».
Вот теперь и шли к Свешневым за водой старики и старухи – последние обитатели Чумаковки.
Наискосок через улицу в крепком, с разлапистыми углами доме жил Трофим Тонких со своей Евдокией, две вдовые сестры – Ольга и Полина Скорохватовы – жили на разных концах деревни, через четыре двора от Свешневых – Антон Лабунов по прозвищу Лабуня со старухой, да у самых скотных баз в саманной халупе – безродный дед Петрак. Как закинула сиротская судьба немолодого тогда уже солдата Петракова в сорок пятом году в Чумаковку, так и отрубили люди от его фамилии две буквы. Петрак и Петрак: тут тебе имя-отчество и фамилия – все в одном слове сжалось, как сжалось в его сердце неизбывное горе о неизвестной чумаковцам погибшей дотла семье...
Вот и все население.
На станцию за семьей Михаила приехал брат Иван на своих желтеньких «Жигулях». Как и все Свешневы, Иван был жилистый, крупнорукий, с раскосыми карими глазами; поцеловались да и покатили по той самой дороге, по которой двадцать с лишком лет назад вез на быках Трофим Тонких Михаила с чужим человеком Головкиным.
– У Петьки-то уже пятый родился, – сообщил Иван. – Строгает! – Иван, прикусив язык, оглянулся на сноху и племянника. Но Сережка, привалившись к матери, спал, дремала и Валентина, прислонив голову к спинке сиденья. Алела щеками и губами, на бело-матовой шее едва заметно билась невидимая жилка. Это Иван уже в зеркальце разглядел, бесхитростно по-мужицки восхитившись: «Вот это роза-краса!»
– Строгает-клепает, говоришь, всех старших обогнал, – обрадовался чему-то Михаил. – Давно ли: «Блатка-а, застегни мне станы», – передразнил младшего брата. – Сам-то еще не слез с трактора?
– Нет. Чего слезать? Техника теперь удобная. Заработки... Это же не те железяки, что при твоем времени были...
И замолкли. Оба остро и задумчиво глядели вперед, будто не в пустынную проселочную даль, а в свое далекое детство.
Родная проселочная дорога! На тебя, самую первую дорогу в жизни, испокон веков выбегали за поскотину русские дети. Приставив козырьками ладошки к глазам, глядели, замерев, в твои далекие извивы, в такие далекие, что даже вечно недоступные, лежащие у горизонта облака были ближе и понятней. А в бесхитростных глазах такой неизъяснимый восторг, а в сердцах такая зовущая печаль, что уже никогда-никогда не опустошатся их глаза и сердца от этого восторга и зова! Не оттого ли, родная проселочная дорога, повзрослев, так далеко уходили по тебе они в мир, что смертельно трудно им было возвращаться к твоему истоку? А то и вовсе не возвращались, рассыпали за горами-долами свои белые кости, ни разу не упрекнув тебя за то, что ты заразила их неуемной тоской по пространству. Не с тебя ли, проселочная дорога, твои дети вывели великую страну на великие пути? Помнит ли твоя пыль тепло их босых ног? Ты все та же, и земля, по которой ты пролегла, все та же, и облака, и деревья, и трава, только мы уже давно-давно не те. И то ли ветер тугой слезу выбивает, то ли печаль по невозвратному. Годы скатились, что бусы с ожерелка, и уже меньшая часть их осталась. Ты будешь, а нас не будет. И уже иные дети не выбегут на тебя с зовущей мечтой. Зачем мечтать, если даль доступна? Для них совсем иные будут дороги и иные дали, такие дали, о каких мы и мечтать не могли.
Михаил вздохнул и поглядел на брата, и у того, похоже, думы были такие же, и он тоже вздохнул.
– Да вот... Вроде как и не жили.
– Поживем еще, чего ты?
– Поживем.
– Пораспахали степь, всю засеяли. Не степь, а сплошные поля.
– Да, мало чего не тронули. Григорий коров пасет по болотистым лощинам.
– Так и не уговорили стариков переезжать к вам?
– Не-ет, – усмехнулся Иван. – Мать говорит: на чужой стороне умирать не хочу. Девять километров – чужая сторона. Вот как!
– Ну а другие?
– Чего другие? Другие на центральную переехали. Там же ванна, горячая вода и вообще удобства. Здесь остались только старики, нашим ровесники.
– Перевезли бы дома для них. Разобрал, собрал – долго ли?
– Недолго, да по плану нельзя. Городской тип. Приедешь, сам увидишь. Там директором – ты его не знаешь, – а фамилия тебе известная... племянник того, нашего Цимбаленко...
Братья опять надолго замолчали.
– Ну, вот и заживем теперь все в сборе, – наконец проговорил Иван с душевной наполненностью в голосе. – А то оторвался в такую даль! Да еще эти шахты... Пошли они!..
– Не «пошли». Она, шахта, в свое время и тебе пригодилась... – напомнил Михаил. Потом спросил: – Чего это ты вроде как пасмурный?
– Вовремя приехали. Мы же тебе телеграмму хотели давать.
– Случилось что?.. Не тяни душу! – Михаил дернул Ивана за руку. Иван выправил руль.
– Мать у нас плоха... В больнице.
Михаил понял: пришла беда.
– Почему не сообщали? – спросил он обессиленно.
– Да ты ведь знал, желудок у нее побаливал, а тут – хлоп... В Чистоозерной лежит. У нас сейчас больница лучшая в районе.
Михаил оглянулся на жену с сыном, те по-прежнему спали.
Чумаковка вывернулась из-за холмика, деревня как деревня, если со стороны посмотреть. Даже не верилось, что обезлюдела.
В ограде их встретил отец с Петром. Петр ворота распахнул, а отец с крылечка сходит с горькой радостью на лице.
Михаил из машины выскочил к нему, притянул к себе за плечи, а сердце так и зашлось. Почувствовал, обнимая, как тот состарился: спина и плечи сузились, кости рабочие выперли наружу, как обкатанные голыши.
– Ну, здравствуй, папа... – только и хватило воздуху выдавить эти слова.
– Мать у нас плохая, совсем плохая мать, – сказал отец, отстраняясь и пряча лицо за широченную коричневую ладонь, и Михаил по этим словам, по жесту понял, что горе отца неизмеримо больней, чем его, сыновнее, горе.
Отец достал папиросы, принялся искать спички в карманах долгополого хлопчатобумажного пиджака. А на голове тоже хлопчатобумажная кепка, рубашка из выцветшего синего ситца застегнута на крупные желтоватые пуговицы, воротник, как и лацканы пиджака, завился стружкой. Не понять, как сохранились у него этот пиджак и эта кепка с рубашкой двадцатилетней давности. Добро бы, было нечего надеть, а то ведь привозили и присылали и костюмы, и рубашки, и обувь дорогую, добротную.
– Поеду я за Анюткой, – нарушил замешательство Иван. – Чего тянуть, дело вечернее.
Петр шагнул к старшему брату, и они обнялись.
– Мать в Чистоозерной, в больнице, – сказал Петр тихо, будто боясь, что услышит отец.
– Знаю, Петя. – Михаил потерся щекой о щеку брата, нежнея сердцем и легонько отталкивая его от себя.
Отец как-то рассеянно поздоровался со снохой за руку, а Сережку потискал и подтолкнул в затылок:
– Ступай в огород, пошелуши там чего-нибудь.
А Валентина уже стояла на крыльце в халате, с тазом и тряпкой в руках:
– Мужики, воды несите!
– Встретили, называется, гостей, – ворчал Петр, снимая с плетня ведра. – Все в Чистоозерной, а он заладил: дом, дом... Когда-нибудь сволоку трактором, ей-богу.
– Ты неси воды-то. Родной дом ему не мил. Живут там в скворешнях... На землю уж ступать разучились, пахари, – ворчал отец.
В дом не пошли, когда на дворе такая благодать. Сели у сеней на лавку.
Сколько живет Михаил, столько помнит, как на этой лавке, уморившись в работе, когда-то сиживали в детстве. Слева – дом, справа – сарай, а перед глазами – низкий плетень, за которым огород с неизменными подсолнухами. Все так и теперь было: меж кольев плетня над подсолнухами покоилось то же вечное небо, с теми же вечными сиреневатыми по краям облаками, которые, может быть, во всем мире одинаковые, да только не для него. Такого он нигде не видел – этого неба и облаков над этими плетнями и подсолнухами, над дальним, завечеревшим в покое полем.
Рыбам – моря и реки, птицам – небо, а человеку – отчая земля, круг вселенной.
Сидели, ждали Ивана с Анной и Григория.
– Или самому за Григорием слетать? – Отец показал на открытый сарай, где синел его «Запорожец». – А то будет до ночи на Буланке трястись.
– Куда на твоей таратайке ехать? Рассыплется дорогой, – запротестовал Петр.
– А чего ее жалеть? – отвернулся отец.
– Да не жалеть! Разве о том речь? – обратился Петр к Михаилу. – Гоняет и гоняет, как на ракете. Вчера сел с ним – страх берет! За машиной ухаживать надо!
– Ухаживать! Что она, скотина? Скажешь тоже, ухаживать за железякой, – почему-то осерчал отец.
Михаил сжал незаметно руку Петра: молчи, дескать, не перечь.
– Брось ты, папа. Стоит ли?.. – успокаивал отца Михаил. – Как тут дядя Трофим живет? Как Лабуня?
– Живут, – махнул рукой отец. – Трофим ордена носит. То сроду не носил, а тут на старости лет... Вот он, названивает, легкий на помин.
Трофим Тонких шел через улицу, поблескивая наградами на черном пиджаке, а за ним все население Чумаковки: Полина с Ольгой, как квочки, в широких юбках и кофтах, казалось, дунь ветер и поднимет их, вознесет над землей, а сзади всех дед Петрак – руки сплел на пояснице, согнулся, чуть землю не метет бородой.
– Вся гвардия в наличности. Антона одного нет – в степях.
– Чего он там?
– Да лошаденок пасет. Там их с десяток. Тетешкается с ними. – Петр метнулся в дом и вынес скамейку для стариков.
– Ну, здорово были! С прибытьицем вас, – басил Трофим, надувая жилы. – Вино ишо не пили? Хе-хе-хе!.. – Сел на скамейку, весело скаля желтые зубы, глядел, как Петрак пятился, целился тоже сесть. – Тебя, Петрак, переладить надо малешко, ногу одну пяткой вперед повернуть, чтобы, как трактор, два хода имел, – балагурил Трофим. – А вы что стоите, христовы невесты? – перекинулся на сестер.– Садитесь к нашему шалашу, хлебать лапшу. – И дурашливо обмахнул скамейку кепкой.
– И-эх, людей бы постыдился, балабол красноглазый, – укоризненно покачала головой Ольга. – А еще медалей понавесил!..
– Медали мои не трожь, – сразу посуровев, заговорил Трофим. – Михаил Семеныч городской человек, поди, знает, за что их дают... А меня Цимбаленко к людям жить не пущает. Это как?!
– На центральной коровы и те лучше нас живут: электричество для них горит и вода под нос, – с готовностью вмешалась Полина, обращаясь к Михаилу. – А тут живешь: дров нету, угля не везут...
– Я ее спалю, Чумаковку, – спокойно пообещал Трофим. – Это ему, Семену Егорычу, что не жить – на центральной три сокола да дочь, случись что, вот они, а мои – один на кораблях живет, другой в тундрах железо ищет. Как это нам со старухой? А она хворает, у ней кровь в голову давит…
– А хоть бы и не в тундры! – Полина сучила большими, в темных трещинах руками, совсем не подходящими к ее маленькой усохшей фигурке, к ее по-младенчески безгреховным, потянутым слезливой пленкой глазам на просветленном до синевы лице. – У меня Федька в области минцанером работает. Так директор – езжай к сыну. А чо бы я ехала, когда тут смолоду до старости силы выкладывала. Федька-то свою жись там зачал, а моя вся до капелюшки тут. А теперь – езжай!
Полина словно и не высказывала только что своей обиды: выдобренными глазами матери глядела на Михаила, радовалась каждой морщинкой лица.
– Ладно уж мы в назьме да в земле. Детки зато взыграли в начальники большие. Федька-то пишет: мама, я теперичь старшина. Это ж, поди, командир роты?
Мужики заулыбались.
– Повыше хватай, Полька! Федьке твоему до генерала рукой подать. Он теперь без охраны до ветру не ходит...
– Болтай, ботало! – деланно осерчала Полина, но по ее усмешливым глазам было видно, что слова Трофима ей приятны.
– А мой Витька-а... – Ольга медленно повела рукою вдаль.
– Витька твой!.. Сроду был отчаюгой. У меня огурцы крал!.. – проскрипел Петрак, не дав той договорить.
И примолкли, притихли старики, словно спохватившись, что бессовестно забыли о том, зачем пришли. Где же это видано, чтоб дорогих гостей встречать не расспросами об их жизни, а наперегонки свое выкладывать.
– Ну что же... это, к матери-то небось завтра поедете? – сказал Трофим, подымаясь. – Кланяйтесь ей от нас.
Он долгим, охватистым взглядом глядел по-над огородами, туда, где в далекой дали мглисто нарождалась ночь, а ближе будто кто невидимый ходил и разливал по лощинам молоко тумана, и он языками растекался по округе. В холодной зоревой траве кричали перепела.
– Ишь разошлись, – сказал Трофим о перепелках. – Отец, бывало, шутил, когда жись прижимала: провались, говорил он, земля и небо, только перепелок жалко!..
Трофим пошел, а за ним заподымались старухи и Петрак.
– Прошшайте, прошшайте...
И исчезли, будто истаяли за задичавшими от бурьяна плетнями, за нежилыми дворами деревни, которая сама была похожа на умирающего старого человека: душа еще теплится, а тело холодное.
Валентина готовила ужин на низкой плите-времянке. Дым то ровно уходил вверх, то льнул к земле, затоплял угольной горечью двор, а Петр нервничал.
– Как печенеги. Там у Гришки с Анькой по комнате пустует. В кранах – и кипяток и холодная...
– Конечно – соглашалась Валентина – Какие тут условия!
Но Михаил в душе радовался, что хоть такую Чумаковку застал. Он ехал на родину, а Чистоозерная для него, как и для родителей, – чужбина.
Тихая, зябкая заря разлилась вполнеба. Петр принес полушубок, укутал им отца. Валентина закончила стряпать и тоже присела к мужикам, набросив на плечи от непривычной летней сибирской прохлады теплую кофту и прикрыв полой прижавшегося к ней Сережку.
– Дом-то на кого бросили? – спросил отец.
– Пока Олег в нем остался, – ответила Валентина.
– Вот это ловко! – Отец метнул сердитый взгляд на сноху, дескать, не тебя спрашивают, бабу неразумную, когда хозяин тут. – Это как же, дитя бросили, в года не вошедшего, дом бросили...
– Да какое дитя, папа, не расстраивай себя. Приехали – значит, поживем, – успокоил отца Михаил, удивившись, как отец сразу уловил их зыбкое положение. Издалека-то все проще кажется, а тут не успел приехать, и теперь уже странно, дико и вроде баловством выглядело все то, что выстрадал. «Нет, правда, неужто я здесь не гость?» – удивлялся он.
А из Чистоозерной все не приезжали. Уже огни в той стороне кишели – прямо целый город. Улицу заполняли сумерки. Луна стала подниматься невероятно громадная, слабо нагретая, с темными окалинами, когда где-то за деревней начал нарастать заполошный вопль. Кажется, от этого вопля и перепела и коростели притихли испуганно и черные избы плотней присели к земле.
– Григорий едет – сказал отец. – Радио теперь пастухам вместе со спецовкой выдают!..
А рев уже ворвался в деревню, и, пересиливая его, властвуя над ним, высился голос: «Го-ол! Какой красивый гол!».
– Во! – навострился отец. – Только и слышишь: мяч ногами пинают, а весь мир орет, ровно конец света приводит. А еще с кочережками по льду... хоккеисты эти... Тьфу!
– Ну что ты, папа, развлекается народ, отдыхает, – возразил Петр. – Раньше в деревнях тоже в лапту играли.
– Играли, – согласился отец. – А теперь не играют... Нет уж, раз завизжал вот этак мир, значит, захворал!..
«Ишь ты, куда хватил старик, – усмехнулся про себя Михаил. – Мир захворал... Так-то мир всегда хворал. Сколько земля крутится, столько он и хворает. Жизнь без болезней не обходится...»
– Выключи ты свой чемодан! – закричал отец на въезжающего во двор Григория. – Глухоту наводишь.
– Ну, а чего сидеть тут! – тоже зашумел Григорий, слезая с лошади. – Я не знаю, отец, тебя хоть связывай да вези с собой. Сидишь тут... гостей-то как встречать? Ни помыться, ни пожрать по-человечески.
– Ишь кипяток! К отцу в дом приехал и разоряется, – проворчал отец, уходя зажигать лампу.
– Нет, правда, эти старики хуже детей, – обратился Григорий уже к братьям, опуская подпруги седла. – Дитя-то – за ухо да поволок, а с этими попробуй... А-а, ну их!.. – Бросил плащ на седло. – Впотьмах-то и не знаешь, с кем целоваться.
Обнялись. От Григория шибануло степью, запахом сбруи, конским потом – такими запахами, какими на родину только и заманивать.
– Два года? Ну, точно – два года не был! Все над нами пролетаете, собаки, все мимо на свои курорты, – срывистым от радости голосом частил Григорий. – Пасешь, а они зудят, зудят, челноки-то белые. Вот, думаешь, может, Мишка на нем полетел... Видно нас оттуда? – спросил наивно и сам ответил: – Где нас увидишь, букашек. Страшно небось на такой верхотуре?
Зашли в дом, а следом Анна с мужем и Иван с женой. С сумками – еды понавезли, не понадеялись.
– Ну, здравствуй, братка... – Анна сдержанно поздоровалась, словно вчера виделись, а с Валентиной – и того холодней. – Мойте руки да за стол, – распорядилась, – а то уже зориться начинает. Зори-то сейчас целуются.
Стала вынимать посуду из шкафа, по столу расставлять. Стройная, длинноногая – вся «свешневская», только характер какой-то чужой: строгости больше, чем у всех мужиков Свешневых.
– Ты, Анютка, с нами как с пацанами в своей школе обходишься. А под моим командованием тоже триста голов. Не какой-нибудь там пастух, а скотник-оператор. Поняла? Кнопки жму – в одну сторону телята выскакивают, в другую – молоко рекой льется.
– Будет, нашел время зубы мыть, – зыркнула на него Анна.
А от керосиновой лампы свет такой, что и сравнить не с чем, до того отвыкли: тускло-красный, лица едва различимы. А когда-то, после коптилки, вот эту же лампу зажгли, так глаза позакрывали – ослепила яркость. Рядом с керосинкой над столом висел электрический шнур с лампочкой, и Михаилу показалось, что все, что с ним сейчас происходит, происходит невсерьез, какая-то нелепая случайность вернула его в детство. Тени на стенах от сидящих за столом, тот же длинный стол, тот же посудный шкаф и стены... Ложку бы выщербатить зубами, да так, чтоб отец не заметил! Или потихоньку толкнуть кого из братьев в бок: гляди, мол, что за чудо с потолка спускается! Тот пока лупит глаза на «чудо», а у него хлеба отщипнуть или из его глиняной чашки погуще ложкой вычерпнуть...
– Так что же с мамой-то будем?.. – напомнила сестра о главном. – Врач вчера выговаривал. Сколько, говорит, можно тянуть...
– Эх! Что делать, – мотнул головой Григорий. – Тыщу раз говорил: забрать домой да травой поить. Не-ет, пичкают там этой химией! Таблетками-то и молодого можно угробить. А чердак весь чебрецом завешан да кровохлебкой...
– Погоди, Гриша, не горячись, – попросил Иван. – Лечилась же она травами. Сами же поили ее. У мамы это... – Иван покашлял, подвигался на скамейке.
Григорий забегал глазами по лицам родных.
– А зачем тогда резать? – возразил, испуганно оглядывая застолье, словно кто-то настаивал на операции.
– Если хотя бы один против ста, все равно нужно оперировать – тихо, вроде стесняясь старших, сказал Петр. – А потом, чего мы решим? Слово-то за мамой. Так ведь, Миша?
Все враз поглядели на Михаила. Старший, мол, за тобой и слово последнее, говорили глаза. Но он испуганно, как пугался до потери речи, когда мальчишкой ловили за ухо в чужом огороде, оглядел застолье: «Да что же я? Как я могу?» – И с внезапным облегчением понял, что он не самый старший в семье: здесь же отец сидит. Вот он, такой родной, мудрый отец. Отец жив, значит, и мы еще дети, и есть плечи поперед тебя, которые, когда будет нужда, прикроют, и голова, которая за тебя обдумает и ответит. Здесь, в родном доме, Михаил испытал сейчас это облегчающее чувство слабости. Оно, это чувство, было давно-давно им забыто-перезабыто, ибо там, в его совсем нездешней жизни, он сам отец и ответчик и за себя и за других.
– Ясно, что слово за мамой, – согласился Михаил. – Но и нам надо тоже на что-то решиться. Папа, что ты скажешь?
– Ничего я, дети, не скажу. – Отец сидел, опустив маленькое, заклинившееся к подбородку лицо, и тени от кустиков бровей прятали его глаза. – Уморился я жить, и мать уморилась.
– Чего ты говоришь зря! – обиделась Анна. – Отчего теперь умариваться? Живи да радуйся. Вот хоть сейчас к нам жить поедем. Пальцем шевельнуть не дадим... Мать выздоровеет, сюда больше не пустим.
– Не выздоровеет она, глупая ты, хоть и ученая. Мать умрет, и я за ней следом. Старый ворон даром не каркнет, не бойсь.
– Ты же старый солдат, папа...
– Раньше срока-то чего...
– Вот и поговори с ним...
– Да пришел он, срок-то. Прише-ел! – затряс отец хохолком волос. – К себе она заберет, – искоса взглянул он на Анну. – А Петрака заберете? А Ольгу с Полькой? А-а, то-то! А хошь бы и забрали – это что ж, в скворешнике наверху сидеть? Нетушки. Всю жизнь ногами на земле стоял, а теперь в скворешник? Тело в таз с горячей водой, а душу куда? Вот он и подвелся, срок-то, сам собой.
– По-твоему, папа, мы должны вернуться сюда? – Иван вздохнул, поскреб в затылке. – Опять к этим избам, к печкам этим...
– Да не надо, чего без толку буровишь? По-нашему, все кончилось, а по-вашему, слава богу, началось. Мы ж не лиходеи своим детям, чтоб желать вам, как мы жили. Для того ли из кожи лезли, учили вас? Вот и живите на здоровье, а нам этого хватит, – повел отец рукой. – Старики-то, они только языками молоть, а сами отсюда не хотят, хоть того же Трофима возьми...
– Вот арифметика! – крутанулся на лавке Григорий. – Чего куришь-то?
Отец протянул Григорию пачку «Севера», и Михаил заметил, как дрожала его рука. Григорий, втягивая щеки, жадно закурил, а отец упором рук в стол помог себе поднять тело с лавки.
– Вздремнуть надо, – сказал слабо, почти одним дыханием. – Приустал я. – Глухо и редко застучал деревянной ногой в пол к горнице, у проема дверей остановился. – И вам пора. Заря уж луком взялась.
– Завтра к маме, а мы так ничего и не решили...
– Молчи! – зашипел Григорий на сестру, но отец все понял: от него требуют слова.
Узкая, костлявая спина отца вздрогнула, как от больного толчка, еще больше выгорбатилась и замерла.
– Как знаете, – сказал, не оборачиваясь. – Вы не маленькие,