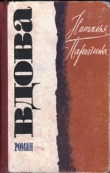Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
2
Он очнулся, как ото сна, вскинулся: «Вот елки, нашел место – в лаве, под «разгулявшейся» кровлей сидеть! Смена давно на-гора поднялась, наупрашиваешься стволового, чтобы одному клеть дал».
Поднялся, ойкнул от боли в пояснице, а тут хлобыстнул корж породы килограммов на триста прямо на комбайн. «Завалит к черту, а что сделаешь один?» Но место вывала породы оглядел. Корж, падая, раздвинул крепь, и в раковине купола отслаивалась, надувалась порода, еще готовясь сорваться.
Михаил включил комбайн, дал задний ход. Комбайн, будто в благодарность, мягко заурчал, закряхтел и медленно попятился под целую крепь. «Ну вот, тут и отдыхай, тут тебя не ушибет. Отдыхай, а я – домой. – На ходу нашел в кармане часы и вовсе раздосадовался: – Почти час просидел, чтоб меня!..»
Стволовой Иван Яковлевич Загребин, дородный, с гладким, совсем не шахтерским лицом, на просьбу Михаила подняться на-гора с какой-то радостной строгостью сказал:
– Посидишь!
«Уж не везет, так сплошняком». – Михаил покорно сел на лавку, кутаясь в спецовку и удивляясь появлению Загребина под стволом, потому что Загребин самый большой активист на шахте и поэтому почти не бывает на работе.
Из ствола обвально хлестала вода, откатчики лаково блестели резиновыми куртками, выталкивая из клети вагонетки с вымоченной рудстойкой и распилом. Ветер с шипением нес крупную плотную водяную пыль, и Михаилу представлялось, что он не на ветру сидит, а в стремительном потоке воды. «Полощет на-гора, – подумал уже в который раз. – Как бы не заколеть тут».
Загребин, в резине поверх ватника, плавно двигался от замков клетьевых решеток к сигнальному щиту. Подав сигнал в машинное отделение, он важно прохаживался в ожидании клети. Голову он держал высоко, рот кривил в презрительной улыбке, большие серые глаза – застывшие и немигающие, и Михаилу подумалось, что они так же безжизненны и холодны, как мокрая резина.
Стволовой – должность легкая, но власть над людьми имеется. Не то чтобы власть, но зависимость от него, что ли. Спуск и подъем людей делается строго по графику. После смены выстроятся шахтеры очередью к клети, и когда, к примеру, у всех часы показывают ровно пять, то у Загребина – без десяти минут. Люди из душных забоев потные – спецовки насквозь, а ветер у ствола до десяти метров в секунду.
– Поднимай! Время!
Загребин – руки за спину, туда-сюда невозмутимо и отрешенно.
– Ты погляди, прохлаждается, гадюка! – выкрикнет кто-нибудь, стараясь шибко не выказывать себя из-за спин Загребину.
– Празднует, что не у него – у другого кишки стынут!..
– Не трогайте его, а то еще накинет пяток минут. Или ранний уход с работы пришьет.
– А что я – раньше? Гляди, поверили ему!..
– Да кто ему поверит... такому-то?..
– Там потом доказывай!
Михаил задержался без причины, и к Загребину теперь не подступиться. Он взял из вагонетки доску пошире, приладил заветрие, но Загребин отнес доску опять в вагонетку.
– Не положено струе сопротивление делать, – сказал поучительно. – Не знаешь, что ль? – Сел рядом, загородил собой от ветра, спросил дружелюбно: – Проспал, что ль?
Михаил коротким взглядом увидел выпуклый водянистый глаз, широкую кость лба – лицо могучее и даже мужественное. Но из мерзлоты будто.
– Я говорю – проспал?
Вопрос был настойчивый, с издевкой.
«Не буду разговаривать», – решил Михаил, втягивая шею в воротник для экономии тепла.
– Я же по-хорошему. Чего ежишься-то? Спрашивают, так отвечать надо, – выстрожился начальственно.
– Надо? – не выдержал Михаил. – А вот возьму и не отвечу, что тогда? Все к власти-то манит. Да это у тебя не от поста, а от разврата!..
– Какое там, Миша! Была власть... – Загребин снял рукавицу, отер лицо рукой, желтой, как коровье масло. – Вот и ты уж со стариком поговорить не хочешь... Да. А я живу, похаживаю, на белый свет поглядываю. А тебе хотелось бы мертвым меня видеть, да? Все вы хотели бы...
– Чего городишь? Кто – вы?..
– Ну кто ж? Вы. Ясно кто! – Загребин пытливо уставился на Михаила. – Вот ты, простил ты меня за то, что я тебя к Караваеву водил за папиросы? Не прости-ил! – протянул, вроде радуясь тому, что не простил. – Мно-о-гих вы моментов не понимали. И теперь не понимаете... Все вы не понимаете, потому и не любите. А я – за правду, за нее... Для вас же, беспонятливых...
– Ну, хва-атит скулить-то, – Михаил сморщился, как от кислого. – И ты туда же, с правдой-то своей... Сорок лет по кабинетам моменты ловишь. Рабочим числился, а хоть кусок угля добыл? Моментщик! Чего ты за правду свою прощения просишь?
– На-гора поднимемся через сорок минут, – со злым удовольствием сообщил Загребин и встал. – Смена мне будет в три...
Михаил, чувствуя страшную усталость, прикрыл глаза. Грезилась степь, такая желанная и недостижимая. Ничего не хотелось ему сейчас, но только бы лежать в прогретой полднем степной траве у родимой своей Чумаковки.
Гулко гукали буферами вагонетки, клацал клетьевой замок, со старческим сипом и кряхтеньем падала из ствола вода, воздушная струя шипела с подвывом, и в этом монотонном шуме голоса откатчиков выделялись чеканно, металлически.
– Дави, дави. Ну! – требовал Федор Лытков.
– Пойдет – не кажилься – досадовал молодой голос. – Оставь пар для старухи!..
– Ну, это... трепло!
– Ла-адно, – нехотя соглашался молодой.
«Гах, гук, ах-х, пши-и-с-с», – убаюкивал шум – и опять голос Лыткова:
– Я, Генка, вчерась Пушкина видал в телевизоре. То – артисты, а это – сам... с царем смело говорил, как я с тобой...
– И царя Николашку видел? – куражился молодой.
– Кати, жеребец! Разнуздался! – обиделся Лытков.
Михаил, по уши закутавшись, выдыхал из себя тепло под спецовку, но не мог одолеть липкого холода и чувствовал сквозь полудрему, как весь стыло шершавится. «Ничего, дождемся... – говорил себе, чувствуя свое нездоровье. – Только бы Загребин больше не цеплялся».
...Когда-то, в нестрогое к технике безопасности время, в шахте курили. Михаил помнил, как выдали на-гора троих обуглившихся проходчиков, взорвавших метан цигаркой, как ревел шахтовый гудок – тогда и такое было; как, уже после похорон, на общешахтовом наряде дед Валентины Андрей Павлович Туров, с силой протягивая в груди силикозные легкие, точно железякой, грохал рукой по дубовой трибуне:
– До коих пор, в бога вас! В железа табашников, в етапы!..
Вскоре, будто отозвавшись на угрозы деда Андрея, сошел сверху закон, строжайше запрещающий курение в шахте. У ствола, при спуске в шахту, поставили табакотрусов из изработавшихся вконец стариков. А толку-то! Тот же дед Андрей сперва взялся круто: ощупает у шахтера карманы, заставит снять каску и, коль чувствует подозрение, требует:
– А ну-ка, расстегни штаны, молодец!
А смена напирает, волнуется – людей сотни, а по графику спуск полчаса длится.
– Ты, старый хрипун! Поищи у бабки!.. – кричали более ярые.
На помощь к деду Андрею прибегал из шахткома Иван Яковлевич Загребин. Деловито и аккуратно, чтоб не замараться о спецовки, продирался в голову очереди, к решетке клети, взбирался на дедову лавку и, махая руками, кричал поверх касок специальным для такой обстановки голосом:
– «Товарищи! Товари-ищи-и! Будьте сознательными! Не нарушайте технику безопасности-и! Ваша жизнь нужна Родине-е!
– В шахту нада-а!..
Задние поджимали передних, те прорывались в клеть потоком.
– Товарищи-и! – вопил Загребин, страдальчески скрещивая руки на груди. Спрыгивая с лавки и подрагивая щеками, уходил возмущенно и обиженно.
– Выполнил приказ? Иди, наверху хвостом помети, – неслось вслед Загребину.
Из-за проверок шахтеры стали опаздывать к месту работы, и шахтовое начальство решило не обыскивать, пустить дело на самосознание да закон, но деды оставались еще торчать у ствола для кое-какой острастки.
Дед Андрей особо строг был к своему зятю: чужих пропускал в клеть, а ему заступал дорогу.
– Папиросы есть? – А сам глазками, как острыми осколками угля, норовил в душу продолбиться.
Михаил тогда еще не курил толком. Стеснялся тещи и жены, а деда побаивался. Дед табака не переносил: «В шахте мало газу – тут еще хапать». Михаила заподозревал с первых его затяжек, заставлял дышать ему прямо в землистый, искрапленный углем нос. Михаил хукал в себя, дед вроде в шутку хватал его за ухо, приказывал:
– Не напрягай пузо, вольней дыши! – Отводил нос, задумчиво глядел в пол, опять нюхал. – Воняет, а чем, пес тебя знает...
На всякий случай, опять же будто шутя, давал по носу щелчка – ногтем, как железной ложкой. Голова Михаила дергалась, из глаз вытряхивались слезы.
– Че дерешься?! – фальшиво обижался Михаил, радуясь тому, что через чесночную со смородинным листом зажевку дед не пронюхал табачного дыма.
– Сма-атри, молодец, прихвачу, бой будет!
И прихватил, да в такое время и таком месте, что и через двадцать лет Михаилу вспоминать неохота. Перед спуском в шахту у ствола дед ладонями, как булыжниками, стал остукивать Михаилу бока, нагоняя страху, добрался до широкого голенища резинового сапога, извлек из-за складок портянки полпачки измятого «Прибоя». Михаилу сперва даже как-то бесшабашно-весело стало: «Вот, мол, какой я смелый». И папиросы он нес в шахту не для себя, а Колыбаеву, тот еще в чистой раздевалке заметался: «Возьми, Мишка». – «Да ты что? Не-ет. Да я и не курю. Нет!» – «Не курю!.. О себе только... – окрысился Колыбаев. – Там же дед твой. Найдет – смолчит». – «Ла-адно, возьму, курец – пухлые уши!..» Шутки-хаханьки. А они, эти шутки, ой, как дорого обошлись, ума подбавили: живи, вспоминай да с законом не балуй: закон не дед Андрей, щелчком по носу не отделаешься. Это Михаил тогда сразу понял по лицу деда: как-то посерело оно вмиг. Дед долго совал папиросы мимо своего кармана, а глаза его мигали растерянно и недоуменно. Шахтеры примолкли, и четко Михаил услыхал:
– Все. Один допрыгался...
– Заткнись! – шикнул кто-то. – Никто не видел ничего!..
Вот тут-то и оборвалось внутри Михаила. Его веселость отлетела. Он так покраснел, что ему казалось, будто в сумрачном приствольном помещении стало светлее от его пылающего лица и весь его позор и преступление и вовсе видны всем.
Дед еще что-то подумал, и тут глаза его стали расширяться, полниться гневом. Он резко откинул плечо да как долбанет Михаила – еле каска удержалась, а голова кругом пошла. Шахтеры – в хохот. Аут, кричат, чистая победа.
Ясно, победителей не судят, а Михаил был кругом виноват. На его беду, тут же появился Загребин.
– Ну вот и поймали! – Вид у Загребина был таким, будто это сделал он, и только он. Одной рукой держал Михаила за рукав, другой требовал у деда Андрея папиросы. – Давай-ка, давай-ка сюда! – приказывал строго, оглядывал перепуганного Михаила, и то ли сочувствовал ему, то ли пугал: – Как же ты, а?.. Ведь загремишь под новый закон годика на три. Себя не жалеешь – о родителях бы подумал...
– Эй, чего прилип к парню?.. Мишка, тряхни мордастого да вали в шахту! – шумели шахтеры.
– А что там? – тянули шеи любопытные из хвоста очереди.
– Да Свешнева с табаком накрыли.
– Какого Свешнева?
– А бес его! Из солдат какой-то.
– Гляди-ка, дед-то, говорят, родня ему.
– Ну? Да по мордам его!.. Бей, значит, своих, чтоб чужие боялись! Жалко, укатают парня. Загребин не отступится – легко, пес, хлеб добывает!..
Загребин, багровея от натуги, тянул Михаила за рукав от ствола, тот упирался, спецовка на нем перекосилась, обнажив другую руку, широкую в ладони и узкую, жилистую в запястье, как у всех, у кого в детстве был рахит.
– Не тронь. Отпусти! – сдавленным голосом требовал Михаил. – Сам пойду. Отпусти-и! Шакал!
Рванулся отчаянно, встал, затравленно водил глазами.
– Оскорблять?! – взвизгнул Загребин, поймал Михаила за полу. – Слышали? – звал шахтеров в свидетели.
– Слыхали! – крикнул кто-то из толпы. – Шакал и есть!..
Хохот такой поднялся, что пыль от спецовок пошла, и этот хохот долго звучал из уносимой в глубину бетонного ствола клети мягким, слабеющим эхом: а-а-о-у-у... И все притихли, невольно прислушиваясь к этому звуку, и присмиревший Михаил понял, в какую он попал беду. Его будут судить, а потом надолго-долго закроют за железной дверью. Слышал он от крепильщика Иванкина, человека тихого, с рыхлым и серым, как порода, лицом: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся... Жизнь!» Иванкин говорил многозначительно, с видом человека, познавшего жизнь на всю ее ширь и глубь, а теперь со смиренной мудростью поглядывающего на нее со стороны.
А Михаил и в мыслях боялся допустить, что тюрьма может составить часть его жизни. Она, по его понятиям, существовала где-то за страшным пределом, ступить за который – все равно что умереть позорной смертью. И сама она – как смерть для людей, помеченных судьбой, которым с рождения предопределено стать злодеями или умереть в юном или молодом возрасте. Нет, нет, это все не для него – он чист, честен и вечен, и не только смерть, но и старость его минует, а если нет, то будет она в такой неопределенной дали, что не проглянуть в нее, в ту даль, да и не стоило туда проглядывать. А тут, что это?.. Да и за что? За полпачки «Прибоя»? И потом – туда?.. Неужели он – уже не он и незримо отделен от нормального мира, нормальных людей, причислен и выкинут в тот предел ужаса и позора?..
– Дядя Ваня, я нечаянно. – Губы у Михаила тряслись, глаза суетливо и просяще бегали. – Прости, дядя Ваня. Я больше не буду... Нечаянно...
– Нечаянно?! За нечаянно – бьют отчаянно! Пошли, пошли к начальству шахты! – Загребин подталкивал уже не сопротивлявшегося Михаила. – И ты иди! – позвал деда. – Ишь, своих прикрывать! Поставили тебя тут, так чтоб честно...
– Ну, ты про честь-то... – Дед Андрей вдруг окинул гневным взглядом Михаила: – Чего сопли распустил, пакостник? Пошли ответ держать!..
Широко хотел дед зашагать, гордо, да не вышло: засеменил, шаркая резиновой обувкой по выбитому цементному полу, норовил выправить излом в пояснице, но крепко заколодили ее годы, работа внаклонку да лиственничные бревна-рудстойки. Откинув голову назад, он шел, дважды переломленный: в пояснице и в шее, – и таким жалким показался Михаилу в своей гордости, что спрятанные после окрика деда слезы наживились опять.
Загребин у дверей кабинета директора шахты вскинул руку перед лицом деда Андрея: «Погоди». Просунулся наполовину в дверной проем, громко доложил:
– С табаком накрыли, Петр Васильич!
– А при чем тут я? – послышалось раздраженное. – Сообщите прокурору!
Последние слова, будто куском породы, тупо двинули Михаилу в темя, и он, ничего не соображая, как через дурной сон, слышал глухие голоса, а потом резкое загребинское: «Заходи!»
Загребин положил перед директором шахты папиросы, отпятился к стенке, сел, по-орлиному огляделся и, успокоившись, устало вздохнул: дескать, замотала забота-работа. Дед с Михаилом стояли у дверей, а директор Петр Васильевич Караваев, опершись локтями о стол, набычив седую кудлатую голову, глядел на грязную пачку «Прибоя» – долго глядел, тяжело. И чувствовалась в его позе властная военная тяжесть: повел бровью – и судьба решена.
А на дворе был поздний октябрь, небо густо завешено стоялой тучей-рассыпухой, и скупой свет дня не побеждал сумерек кабинета. И тишина, и мрак, и от этого вроде бы холод полз от пола по ногам к спине Михаила. А Караваев все молчал и глядел на папиросы, крупные рабочие его руки мертво покоились, и только раскрылки больших бровей чуть шевелились. Обстановку молчаливо дополнял главный инженер Головкин, тогда молодой, смуглолицый.
Михаил во все глаза пялился на Караваева, на грозу свою, которая не пощадит, разразит дотла, потому и Головкина увидел не сразу, но боковым зрением, как через тающий туман. Увидел и, как при первой встрече с ним на шахте, опять не поверил самому себе. Ему было до дикости невероятным знать, что Головкин Василий Матвеевич, этот большой казенный человек, единственный здесь, на краю света, кто видел Михаила нездешнего, совсем в иной жизни; знать, что ноги Головкина ступали по половицам его родного дома, что его потчевали за ужином травяным, на голимой воде супом из «сплошных автаминов», что он ночевал в горнице на единственной в семье Свешневых кровати, застланной вместо постельного белья вытертыми до мездры овчинами; знать, что когда-то нечаянно появившийся в степной сибирской деревеньке, и всего на одну ночь, чужой человек – это и есть теперешний главный инженер Головкин; все это было для Михаила как сон наяву.
...Михаил тогда только начал работать в шахте. На-гора, помнится, поднялся, как всегда: ни глаз, ни рожи, еле волок ноги, и от утраты сил все качалось в глазах, плыло. Но Головкина сразу узнал. Тот шел навстречу по узкому коридору – переходу из грязной раздевалки к ламповой. Узнал, но не поверил себе. Думал, может, газу в лаве наглотался и в голове всякие фертели, тем более что в ней, в голове то есть, и во сне, и наяву, и на-гора, и под землей – родная Чумаковка, степь, люди и даже странный постоялец... И вот он сам! Михаил было озаботился тем, как бы не качнуться в узком проходе, не вымазать дорогой костюм Головкина. К стене раскинутыми руками и спиной прижался, пропуская Василия Матвеевича. Тот прошел, обдавая свежестью, духами и какой-то высокой недоступностью своей жизни.
«Василий Матвеевич! – позвал Михаил. – Василий Матвеевич, Свешнев я! Вы меня не признали? В степь вы к нам... в сорок девятом...» – «А-а, – поморщился Головкин, – помню. Значит, судьба сюда?» – «Да вот, солдатом служил рядом и в шахту, в какую поближе...» – попридержал радость Михаил, заметив равнодушие Головкина.
Он и радовался-то не от встречи с Головкиным, но в его лице – хоть с малым осколочком от жизни на родине.
«Такая даль, сколько везде народа, и вот там, в Чумаковке, а теперь тут... Прямо сказка неправдашняя! – все дивился Михаил и простодушно пожаловался: – А я тоскую по степи, по деревне своей – прямо спасу нет». – «Ну и поезжайте туда, – заметил Головкин. – Здесь же не колхоз, не держат. Если какие вопросы будут, заходите в кабинет главного инженера», – добавил сухо.
И пошел. А Михаил глядел ему вслед и не мог с места сдвинуться – до того был унижен словами «поезжайте… здесь не держат». Выходит, что будет он здесь, на шахте, или не будет – никто этого не заметит, и не нужен он шахте вовсе. От слов Головкина он почувствовал себя песчинкой в бесконечно большой человеческой массе, передвигающейся в пространстве по каким-то вихревым законам. А помнится, председатель колхоза, неграмотный, кособокий калека Филипп Маркелович Расторгуев, упрашивал уходящего в армию Михаила: «Мишка, возвертайся в колхоз. Не вернешься – без ножа нас зарежешь».
После бани выпил он тогда в шахтовом буфете две кружки пива и расплылся весь. Забился в самый глухой угол сквера между конторой, похожей на барак, и стеной гаража и, покачиваясь на скамейке, как от зубной боли, причитал сдавленно:
Ах, куда же залетел я:
Хутора да хутора.
Заболит мое сердечко —
Не залечат доктора...
«Чего страдаешь?» – случился рядом Федор Лытков. «Да вот, пива две кружки...» – «Э-э, брат, – перебил Лытков, – тут не пиво. Ты в лаве упился, а так нельзя. Ты рабочий, а рабочему силы надо раскладывать так, чтоб на всю жизнь. Она у нас, у шахтеров, и так жизнь подкороченная. Гляди, парень, приглядывайся. Это сейчас тебе кажется, что ты вечный, а вот годам к сорока сгорбишься, сядешь на завалинку... А-а, то-то!»
Лытков достал папиросы, тряхнул, предлагая Михаилу, тот покачал головой, отказался. «Лето тут какое-то бешеное, – сказал печально, оглядывая сквер. – Прямо на глазах все жиреет. А у нас в степи не так: хлеб растет. А тут камни». – «Юг – что ты хочешь. Океан рядом. Греет да поливает. – Лытков пускал дым в нависшие ветки вяза, и они будто парили, напоминая Михаилу банные веники. Лытков повернул к Михаилу лицо, тронутое морщинами ранней старости. – Все мы тут, Миша, залетные – не один ты. Я вот с Орловщины. Служил на Уссури да и присох тут». – «Да? – обрадовался Михаил, что не одинок в судьбе. – Не тоскуешь по родине-то?» – «Как не тосковать, – вздохнул Лытков. – Тоскую. А в отпуск поеду – сюда тянет, зараза, хоть волком вой. Русскому сердцу, Миша, везде тоскливо, потому что мы влюбчивы, – пояснил Лытков. – Нам без тоски жить нельзя, у нас земля большая, а за ней ухаживать надо. У нас тоска от пространства».
Михаил рассказал Лыткову о встрече с Головкиным, о потерянности своей из-за этого. «А чего тебе Головкин? – вскинулся Лытков. – Он хоть и начальник, но если так говорит, значит, сам не знает, по какой ему дороге идти, потому и тебя рассеивает. Он у нас начальником участка был – знаю я его. Головкин – косвенность нашей жизни, а не основа. Плюнь на него».
Лытков отшвырнул окурок, покачал головой, хмыкнул: «Ишь, ты! Уезжай... А я, Миша, пятнадцать лет на шахте ломлю и скажу тебе: уедешь если, то крепко опечалишь меня. Ой, сколько прошло народу через шахту, что воды через водоотлив. Сколько у меня напарников поменялось! А я не о всех жалел. Ушел – иди, но тебя пожалею. Без таких, как ты, везде тоскливо – врет твой Головкин, сволочь».
Вот ведь сколько в жизни слово стоит! Головкин словом, похоже, Михаила на колени поставил, а Лытков тем же словом на ногах укрепил. С той поры выбросил Головкина из сознания. И на тебе, встретились – не отвернешься...
Караваев все молчал, времени директорского не жалел, а Головкин посмотрел на Михаила, как на стенку, вкрадчиво, почти не потревожив молчания, спросил у Загребина:
– Он в забое курил?
– Нет, Василий Матвеевич, – почтительно клонясь в сторону Головкина, полушепотом ответил Загребин. – Я его у ствола прихватил.
– Не врите! Не вы, а Андрей Павлович... – вырвалось у Михаила от напряжения.
Загребин дернулся, будто от тычка в шею, по-петушиному зыркнул поверх головы Михаила и замер. Тишина накаливалась, как перед взрывом. Только кровь в уши: «тук-тук-тук...»
– Так вот, Петр Васильевич, обнаружены папиросы. Чего в молчанку-то играть? – не выдержал дед.
– Фамилия?.. – Директор не поднял глаз.
– Так Свешнев... Внук, значит, – пальцы деда бегали по пуговицам брезентовой куртки. – Пришли ответ держать. Это…
Караваев медленно поднял голубые, как весенний лед, глаза.
– Что-то я не припоминаю, чтоб у тебя такой внук был. И садись ты, Андрей Павлович, не в церкви.
– Ну ладно, зять мой. Сына Николая дочку держит. Внучку, значит, – пояснил с готовностью дед.
Михаил остудился о взгляд директора, опустил голову.
– Какие семейные традиции, – сказал Караваев, – и вот тебе: раз – и как топором отсек!
– Он оскорбил меня: шакалом назвал, – с готовностью пожаловался Загребин.
– Ну-у? – будто бы удивился Караваев. – А ты почему не в шахте?
– Освобожден. Семинар в шахткоме сегодня.
– Семинарист, значит, – Караваев кивал головой, словно вынужденно соглашаясь с кем-то. Затем сделал нетерпеливый жест в сторону Загребина, точно смахнул что со стола и, поймав взгляд Михаила, отрубил: – Судить! А пока иди в шахту.
Михаил эти слова воспринял как-то странно: без волнения, с полным безразличием. Он видел, как Головкин изогнул брови и забарабанил рукой по столу. Дед тяжело, до красноты в лице поднимался со стула. Он уже не заботился выпрямить свое тело, стоял внаклонку, оглядывал вокруг себя пол, словно отыскивая что-то оброненное.
– Ну что ж... Это... Да... – И потянул резиновыми сапогами к двери, едва не доставая руками до пола.
– Андрей Павлович! – окликнул было Караваев, но дед, должно быть, ничего не слышал, и уже скрылась за дверью его согбенная фигура. Караваев опустил взгляд на бумаги. Головкин отвернулся к пасмурному окну, а Загребин, показывая начальству свою непрерывную работу общественника, вынул книжечку и что-то записывал в нее. И эта их безучастность так поразила Михаила, что тело его от макушки до пяток стало заполняться жаром-кипятком – так был оскорблен не столько за себя, сколько за деда.
– Поймали преступника, да? – Губы у Михаила тряслись, голос поднялся до детского звона. – Поймали, да?
Загребин аж подскочил, с готовностью кидал взгляд то на Караваева, то на Михаила. Ого! – взглядом выразил недоумение Головкин, но так и остался сидеть.
– А я не боюсь... Тюрьмы не боюсь, вас не боюсь – на холуях далеко не уедете!..
Потом он почти ничего не помнил, не сопротивлялся, когда Загребин выталкивал его из кабинета, только бормотал бессвязно:
– Ладно, пойду. Я пойду... Но и вы тоже...
Деда Михаил тогда нашел за копром – он сидел на громадном старом копровом колесе, меж спиц которого пророс бурьян, и глядел вприщурку на отвал угля. Уголь самовозгорался от осенних дождей. Едкий дым туманился, заполнял пространство и, наверное, ел деду глаза. Дед часто моргал покрасневшими ресницами.
– Ты чего, деда?
– А? – отозвался дед, кинул короткий взгляд на Михаила, словно стыдился поглядеть нормально. – Иди в шахту, Миша, а то припозднишься, и стволовой не спустит тебя. – И, стыдливо, торопясь, попросил: – Дома не рассказывай пока. Иди. Да...
В лаве и того не лучше: Лытков – с места в карьер:
– Эх, ты-ы! – Сел на лесину, каской об почву треснул. – Ну что там? Не тяни душу!
– Судить будут. – Хотел сказать просто, а жалоба без спроса в голос втекла.
– Да? – взметнулся было Колыбаев, но тут же осел. – Ну ничего, тебе полезно посидеть...
Михаил почувствовал, будто его ударил сзади свой, давно знакомый человек, ударил ни за что ни про что, лишь бы только ударить – и все. Боль была настолько острой, что рудстойки в глазах закружились хороводом.
– Ты же сам... это... просил папиросы взять, – очухивался Михаил. – Просил ведь?
– Ну просил. А у тебя головы нету? Попросят в петлю полезть – полезешь?
Азоркин Петька, тростинка гибкая, оскалился на Колыбаева:
– Ну и толстокожий!.. – Потом напустился на Михаила: – Зачем брал папиросы, дурила, если сам не куришь?!
– Погоди, Петр, погоди. Фу ты язви! – Лытков потряс головой, точно от дурного сна. – Что же это, Ефим, товарища подбил – и в сторонку?
Колыбаев явно уже догадался, что сболтнул лишнее, и теперь, отвернувшись, стоял поодаль настороженно, как потревоженный зверь, трогал пальцем острие кайла.
– Как же нам с тобой работать? – спрашивал Лытков. – Ты ж нас тут, волк, всех передавишь. Среди своих плодить Загребиных?.. Не-ет, если Мишку, не дай бог... так и ты загремишь! Подстрекал? Подстрекал. Признался? На себя петлю-то поставил, волчина!..
Кажется, с той пасмурной, бесконечно долгой осени у Михаила навсегда отяжелела душа, огрузилась постоянной и непонятной для него тревогой. Он вроде как приподнялся над жизнью и теперь торопливо, с жадностью вглядывался, словно бы примеривался, определял: кто он есть среди людей и как с ними ладить дальше?
Поостынув и одумавшись, не мог без стыда вспоминать, как ерничал у ствола, грубил и унижался перед Загребиным, как недостойно вел себя в кабинете Караваева. Им тогда владели страх и отчаяние, а уж тут не до совести и рассудка. Одурел, что и говорить, загнанному зверю уподобился: скулил, рычал, кусался. Правда, деда было жалко в тот момент, но позже понял, что сам же его опозорил.
Осень приморская всегда была желанна, но эта выпала для Михаила тяжелой, как сон на похмелье. Не было ни дождей, ни заморозков. В непросветный морок было закутано небо, и эта пасмурь не пускала к земле холод, но и от солнца тепла тоже не пропускала. В ровном влажном холоде дремал город в долине; южные склоны хребта рыжели кудряшками дубняка и казались так близко – руку протяни и погладишь упругую мягкость мерлушки. Но близость обманчива – до сопок больше пятнадцати километров. Это так мощен и высок хребет, и потому немощными и беспомощными представлялись городок и даже терриконы, что цепочкой протянулись вдоль северной окраины Многоудобного, виделись пятью многогорбными кучками, насыпанными ребятишками в игре. Пять кучек – пять шахт. Средняя шахта, «Глубокая», самая крупная и старая: терриконы ее заняли немалую площадь, срослись в единое основание, но вершин было семь. Некоторые вершины уже давно перегорели, и теперь их ярко-оранжевые осыпи буйно зарастали чертополохом – их насыпал дед Андрей; другие были посвежее, курились зеленоватым дымом – в них выдавал породу до своей гибели на войне отец Валентины, а последний террикон его, Михаила, еще совсем серый, но пылал вовсю, и по нему букашкой вползал скип, с острой макушки ссыпал щепотку породы, и издалека было видно, как, по-блошиному подскакивая, скатывались глыбы породы вниз.
В таком сонливом состоянии природы звуки как бы вязли, запутывались, словно в тенетах: вроде все слышится – и ничего. Паровозы изредка кричали сырыми басками и клубили пар, который долго не мог истаять, белыми червячками возился и вроде бы не вверх уходил, а впитывался в землю.
Ниже дома Свешневых, в овраге, поросшем ивняком, тихо всхлипывала вода истощенного ручья. А выше, за садом-огородом, поднимался в сопку раздетый до последнего листа лес: листва лежала мягким, волглым, не теряющим цвета выстелом, и потому на фоне этого выстела деревья тяжело чернели, будто из чугунного литья.
В доме Свешневых тоже приглохла жизнь. Дед после того случая с папиросами сразу слег и по двору передвигался с трудом, шипел легкими да сухо кашлял. Ему и дышать и кашлять уже было нечем – легкие совсем стянуло силикозом.
– Ну... гхе... чего там? – обращался к Михаилу, когда тот приходил с работы.
Михаил понимал вопрос деда, но отвечал уклончиво, да и теща тут же и Валентина. А дед явно, должно, из-за болезни и старости, терял бдительность.
– Все так же, – говорил Михаил, – на месте шахта, не завалилась...
– Ишь ты... гхе... не завалилась... Я те завалюсь!..
– Да что поделалось-то? – тревожилась теща. – Жили не тужили, а тут... Что, сынок, запасмурнел-то?
– Анна, не вяжись к парню, – хрипел дед. – Двадцать три молодцу – пора и задуматься, присмиреть.
– Легко сказать «не вяжись»... Не вижу, что ль, весь как прибитый...
Она кивала седой головой, комкала костлявыми, в черных венах руками бязевую кофту на усохшей груди. Михаил не мог глядеть на тещу, садился за стол, ел, не отводя глаз от тарелки.
– Погода пасмурная. Вот и... Сад вон собирается во второй раз зацветать – пропадет... – Михаил давил комок в горле, жалея родню. Поднимался из-за стола, решив твердо: «Завтра пойду к Караваеву. Судить так судить, нет так нет...»
– Пойду поработаю, – виновато топтался около Валентины, будто просился: пойти или не пойти, а та сидела на кровати, вся оплывшая – живот уж к носу подступал, – с лицом водянистым и пегим от коричневых пятен и с испугом в детских глазах перед неизвестными ей еще родовыми страданиями: «На кого же их таких, четверых?..» – спрашивал, ненавидя себя.
Он выходил во двор, подправлял забор, колол дрова, и в дом идти ему не хотелось. А день то ли умирал, то ли еще жил – с утра до ночи словно сплошные сумерки. Наработавшись в шахте и по хозяйству, он тяжело поднимался по крутому взъему через сад до заросшей бурьяном калитки, выводящей в лес, и шел еще выше, до Ели с Изгибом По-лебяжьи.