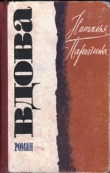Текст книги "Шахта"
Автор книги: Александр Плетнёв
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
6
Сначала раздался глухой грохот, а потом опахнуло воздушной волной. Михаил рванул ручку контроллера комбайна на выключение, и тут же по потной спине, точно льдом, полоснул истошный крик Валерки Ковалева:
– Пе-етра-а завалила-а-а!
За густой пылью, взнятой обвалом, одиноко метался тусклый свет Валеркиной лампы. «Ефима – тоже!..» – застудило сердце Михаила. Нырнул под переломанные доски-верхняки и не услышал, как острым отщепом, со скользом по костям, пропорол спину.
– Колыба-аев! – рявкнул Михаил, выскочив под купол вывала.
– Вот он. Давай... – просипел Колыбаев под ногами Михаила. Он стоял на четвереньках и как-то по-собачьи, руками и ногами, резко откидывал за себя мелкую породу. – Мелочью присыпало. Давай!..
Михаил не видел Азоркина под породой, отчаянно греб наугад и на веру Колыбаеву. Пальцы заскользили по резиновым сапогам Азоркина.
– Ефим, плечи!..
Азоркин лежал вниз лицом без каски, уткнувшись в локтевой изгиб правой руки.
– Что делать? Что делать?.. – полоумно выстанывал Валерка, весь сжавшись, по-заячьи подпрыгивая на четырех.
– Уходи из лавы! Ну!.. – приказал Михаил. – Беги!
Михаил, обдирая кожу с кулаков, прорылся Азоркину под мышки.
– Берем! – крикнул Колыбаеву.
Колыбаев – за ноги выше колен, потянули на взъем, да левая рука – словно привязанная.
– Рука, братцы, – вдруг внятным испуганным голосом произнес Азоркин.
«Ти-ти-ти» – прострочил из купола капеж мелкой породы. Для незнайки – это безобидные крошки, но для них, троих асов горного дела, это был сигнал смерти. Вверх Михаил не глядел, что толку туда глядеть, – теперь обвала не миновать.
– Чего рука? – заорал Колыбаев, выворачивая лицо на купол. – Подыхать, что ли, тут!
И все равно уходить из-под обвала нельзя, пока не освобожден Азоркин.
Михаил не понимал, как дорылся до чистой, как стекло, почвы, до монолитного края коржа породы, под которым была рука Азоркина. Успел удивиться, что часы как бы перерезаны краем коржа пополам, и еще тому, почему они не могли вырвать Петра, когда ладони, по сути, уже не было: корж так плотно пригнался к почве, что в месте зажима руки конец лопаты не подоткнешь.
– Вагу! – Михаил озирался незрячими от пота глазами, понимая, что в эти секунды они одни под нависшей смертью. Колыбаев, стеная и ахая, торопливо затесывал конец лесины.
Подвели вагу, да где двум муравьям опрокинуть ведро с водой! Корж тонн на пятнадцать! Для него вага с Михаилом и Колыбаевым, что соломина с двумя муравьями.
– Угнал Валерку! Втроем бы подняли!.. – завопил Колыбаев и на четвереньках попятился к выходу.
– Встань на ноги! – приказал Михаил. И Азоркину: – Потерпи, Петя, потерпи!..
Ухватив кайло, Михаил осаживал им край глыбы и совсем не слышал, как что-то кричал Колыбаев, взмахами рук отчаянно звал взглянуть вверх. Михаил наконец-то взглянул на купол: центр его назыбился, а по краям, по кругу мелко пузырилась порода, пузырьки лопались, рассеиваясь дождем, как бы в последний раз предупреждали: жить хочешь – уходи!
Все это видел и Азоркин. Откидывая ноги и загребая правой рукой, он рвался, бился сильным телом:
– Ми-и-ша-а-а! Не оставляй!..
От этого крика должна бы была содрогнуться гора. Михаилу заморозило спину.
– Бригадир! Бригадир-ир! – позвал он зачем-то.
Колыбаев что-то кричал уже чуть ли не от комбайна, и крик его был обрывист – уходил.
Взбрасывая ноги, Азоркин наконец утвердил их на корже, подобрался пружинисто и, рванувшись всем телом, откатился клубком от купола. Михаил поймал его за культю и, не давая встать на ноги, согнувшись, поволок, будто не матерого человека, а тряпку. «Хрип, храп...» – раздался разбежистый треск над головой.
До выхода из лавы оставалось с десяток метров, когда исходящая струя воздуха повернула вспять, в лаву. Лава, как насос, затягивала в себя воздух с обоих выходов, потому что по всей ее длине и ширине шло медленное сплошное опускание кровли, чтобы, набрав мощи, хлопнуть мгновенно.
Воздух остановился, потом сзади, из лавы, ударило, точно гигантской подушкой, сбило Михаила с ног, и он уже не помнил, как его, склубившегося с Азоркиным, лава словно выплюнула в штрек.
Лава «села по-черному».
Михаил, должно быть, какие-то секунды был в забытьи, но культи Азоркина не выпустил – так сжал, чтобы сдержать кровь, что пальцы окостенели. Азоркин был в сознании, зябко постукивал зубами и слабел. Михаил привалил его спиной к борту выработки и сам опустился рядом.
– Жив-вые, Пе-тя, – с перехватом дыхания прохрипел он. В ушах бухало и звенело, во рту и в горле все было перекалено, а кожу спины будто каленым жгло – так болела рана.
Первым прибежал Колыбаев. Шаркнулся перед ними на колени в толчею штыба,
– Живые!..
Забегал глазами по густо измазанным в дегтярно-черное – кровь с пылью – Михаилу и Азоркину.
– Бинты! Давайте бинты!
Штрек наполнялся людьми.
– Где медсестра? Медсестра где-е? – слезно требовал горный мастер Борис Черняев.
– Да вон скребется!..
– Жгут! А обработку – на-гора! – распорядилась медсестра Таня и приблизила лицо к Михаилу. – Свешнев, опять ты?
– Я, Таня, – виновато улыбнулся глазами. – Везет!
– Ну, отпускай. Отпускай же!
Михаил хотел отпустить культю, но рука его не слушалась, была бесчувственна и тяжела. Ему стали разжимать пальцы, они вроде бы обламывались по одному.
– Сила-то нечеловеческая...
– Ну!
– Так не у каждого хватит...
Черняев, согнувшись, сморкался в полу спецовки.
– Лава – по-черному! Ну и хрен с ней! – Ударил каской оземь. – Не-ет, ты посмотри! – Он нервно смеялся. – Поглядеть, так вроде и пару не хватит спичку потушить. А тут силу нечеловеческую проявил!
Черняев вытянул свою руку, медленно сжимая пальцы в кулак. Носик у Черняева утиный, губы припухлые, лицо маленькое, бритвы толком не знало. И трогателен и глуповат был он в своей горячности: у него в смене несчастье, комбайн с конвейером завалило, уж наверняка добра ему ждать нечего, а он восхищение высказывает...
Азоркина унесли, и Таня принялась за Михаила. Подоспели горноспасатели – свежие мужики с блестящими кислородными баллонами за плечами. Встречные их оповестили, что работы для них нет, но они не вернулись – совестно быть непричастными в таком деле.
– Газа нет? – спросил старший, чтобы не показаться праздным.
– Нету, – сердито ответил Черняев и, хлопнув себя по спецовке, выбил пыль, которая стала медленно смещаться. – Не видишь, через завал протягивает?
Горноспасатели не уходили, шарили глазами, переговаривались полушепотом:
– Это какой из них?..
– А вон, которому рану на спине обрабатывают,
– Да это же Свешнев! Я знаю его!
– Геройство проявил, не он бы...
«Да какое к черту геройство!» – хотел возразить, урезонить их Михаил, думая о себе как о постороннем. А сам чувствовал, вернее, не чувствовал (ибо чувства из него как бы постепенно вытекли), а осознавал себя вовсе не здесь, но где-то там, на-гора, – дома или скорее всего под Елью с Изгибом По-лебяжьи, где, уткнувшись лицом в палую хвою, страдает и празднует свое и чужое спасение совсем другой Михаил, а этот, который был со страхом и болью, вышел из него, отделился. Этот же Михаил жизни не чувствовал: повались сейчас этот штрек, и то не кинулся бы кого-то спасать, и сам не стал бы спасаться...
– Немножко больно будет, потерпи, Миша, – ворковала над ним Таня.
– Да не больно мне...
– Правда, железо... – бормотала Таня, опоясывая торс Михаила бинтами.
– Таня, ты не знаешь... Он в шоке. Мы все в шоке... – тряс головой Черняев, наморщив, будто от боли, лицо. Он пытался помогать Тане, но только повторял руками ее движения. – Гордиться после будешь, внукам рассказывать! – Черняев был в том возрасте, когда эмоции довлеют над рассудком, когда открываются истины и совершаются заблуждения. – Михаил Семенович! – Черняев обеими руками ухватился за Михаила. – Дядя Миша... – голос его дрогнул и осекся. – Давайте оденемся, дядя Миша...
Черняев сбросил с себя куртку, оставшись сам в затерханном свитере, опахнул Михаила, пытаясь, как малому дитю, засовывать руки в рукава, но тот молча отстранил его, оделся сам и застегнулся на все пуговицы.
Таня поднялась, поправила под каской волосы, склонилась к Михаилу.
– Как чувствуешь себя, Михаил Семенович?
– Ничего, спасибо.
– «Скорая» будет ждать, без провожатых его не отпускайте, – наказала Черняеву.
Еще издали неуместно запахло одеколоном и той свежестью необношенной спецовки, по которой заранее можно угадать шахтовое начальство.
Обычно в таких случаях начинается спешное «замазывание грехов». Пока начальство пройдет до забоя каких-нибудь сотню метров, шахтеры успевают «зализать» все нарушения по технике безопасности: и недостающую рудстойку подбить, и резиновые перчатки для комбайнера вырыть откуда-то из штыба, и крепежный материал с пути-дорожки прибрать (не дай бог, запнется кто), и газ метан замерить, и в куртки поодеться, на все пуговицы застегнуться – голыми работать не положено...
Так было всегда, а сегодня ждали спокойно и отупело, с тем безразличием, когда, что ни делай, все зряшно: ни себя не утешишь, ни других. Электрические кабели, видно, сдернуло обвалом с подвесок, сбросило на почву, а это грубое нарушение, если кабели не подвешены. Но ни Черняев, ни Колыбаев и пальцем не пошевельнули. Колыбаев не то что куртку, даже майку не надел. Сидел, будто неошкуренная чурка: грязь засохла на нем, в серую кору превратилась.
Намного опередив директорскую свиту, прибежал инженер по технике безопасности Комарец Максим Макарович с длинным прозвищем Свою-Вину-Знаешь. Комарца шахтеры не то чтобы побаивались, просто встречаться с ним в забое никто не желал – не было случая, чтобы тот побывал в забое и «по карману не стукнул» кого-нибудь. Ходил Комарец сутулясь, но голову держал прямо, отчего шея у него была вроде надломлена. Глаза черные, приученные к строгости и вечному недовольству. Весь его вид выражал, что в своей жизни он не допустил ни одной оплошности, а все кругом только и делают, что нарушают технику безопасности с одной целью – навредить ему лично...
Когда Комарец вступал в разговор, то первыми его словами были: «Свою вину знаешь?» Потом тщательно разъяснял, в чем вина, и тут же делал вывод о наказании. Рассказывали, что Комарца не однажды разбирали на партийных собраниях за формальный подход к делу. Правда и то, что почти все его наказания пересматривал директор шахты Комаров, отчего имел неприятности от горной инспекции, и все хотел заменить Комарца, но на этот пост никто не желал заступать.
На этот раз Комарец тоже не изменил себе: провихлял на кривых ногах так стремительно, будто собирался проникнуть через завал в лаву. У завала как-то дернулся, отпрянул назад.
– Ага! – сказал, будто решил что-то очень важное. – Значит, так... – Потоптался бойцовским петухом, озирая понуро сидящих, остановил взгляд на Михаиле, спросил: – Свою вину знаешь, Свешнев?
Михаил молчал.
– Хо-рошо, – протянул Комарец, – скажи, Свешнев, зачем ты вчерашней ночью задержался в шахте на два часа?
Михаил не мог и не хотел слушать Комарца, весь был в себе, страшно хотелось пить, но спецовки с флягами остались в завале, и он ни у кого не попросил, а теперь и просить было не у кого – не у Комарца же. Михаил видел новенькую, без вмятинки, белую флягу в наружном его кармане, она вылупилась на треть, запотев прозрачными капельками.
– Я вас спрашиваю, Свешнев!
Спине делалось все горячей и горячей, но отчего-то клонило в сон, как и вчера после смены. «Как же теперь у Азоркина рука?» – И почему-то думал не о культе Азоркина, а о кисти руки, оставшейся в завале под коржом. И вдруг увидел явственное: Черняев встряхивает Комарца за грудки. Затем голова Комарца как-то пружинисто стала отскакивать – и раз, и другой, и третий.
– А вот тебе и ответ!.. Вот! – приговаривал Черняев.
– Да разними ты их, Ефим! – будто очнулся Михаил.
Колыбаев словно и ждал этого: как сидел, подпрыгнул, рванул Черняева сзади за свитер. Тот, потеряв равновесие, осел на почву. «Что они делают?» – возмутился в душе Михаил, обессилевая вконец и сожалея о том, что всю эту сцену видит Валерка Ковалев.
– Ты что, дядя Ефим? – Валерка бросился сначала к Черняеву, затем к Колыбаеву. – За что вы его?
– А он за что? – вытаращился Колыбаев.
Черняев отирал рукавом струйку крови, что вычернилась из уголка рта, и тут подоспел директор с помощниками, начальство, человек десять.
– Вот, – Комарец, как бы приглашая пришедших в свидетели, обеими руками показал на Михаила, потом обратился к Черняеву: – А этот – защитник! – еще и набросился при исполнении служебных...
– Обратитесь к медэксперту, – прервал его директор Комаров и понизил голос: – Право, не до вас сейчас!..
Комиссия столпилась у завала, как будто действительно здесь было на что смотреть, но виднелась лишь крохотная часть завала, ощетинившаяся обломками крепи. Само «место» было метрах в сорока в глуби завала, и, по сути, комиссии делать было нечего. Головкин бочком от начальства подобрался к Михаилу, скорбно прошептал:
– Как же так, Свешнев?
– Вы лучше меня знаете... – Михаил отвернулся.
Василий Матвеевич отстранился, настороженно косясь на Комарова, и низко склонил голову, выказав рыхлую желтоватую шею. «Жалкий какой...» – подумал Михаил.
– Да вы не горюйте, – проговорил слабо. – Может, еще и обойдется для вас как-то...
А к ним уже подступал Комаров, Михаил видел белесые брови директора, сухое, со впалыми щеками лицо и строгие, цвета капусты-ранницы, глаза.
– Воды... дайте, а? Воды.
Черняевская спецовка, не шибко ношенная, скрывала забинтованное тело, а душевное потрясение он старался согнать с лица вовнутрь себя, потому его не поняли сразу.
– Воды, – снова попросил Михаил. – Пить.
– Прости, Михаил Семенович. – Комаров захлопал себя по карманам, крикнул, багровея: – Есть-нет у кого фляга в конце концов?
К нему готовно потянулись руки с фляжками. Михаил взял одну в ладони – овальную, холодной тяжести. «Чего тут пить?..» – подумалось. Чувствовал, что все смотрят на него, а потому не стал показывать своей жадности, выпил всего полфляги. Вода, казалось, до желудка не дошла, высохла где-то в груди, но он отнял горлышко ото рта, закрыл аккуратно флягу, протянул хозяину.
– Можно, я потом что надо скажу, Александр Егорыч?..
– Конечно! Как только почувствуешь себя хорошо, и поговорим. – Комаров окликнул Черняева, распорядился: – Организуй сопровождение Михаилу Семеновичу! – И, сам помогая подняться, наказывал: – Как только будешь чувствовать себя хорошо...
А Михаил почувствовал – может, потому, что утолил, жажду, – как стала оживать его душа. Как-то волнами она оживала, охватывая вначале небольшой и близкий круг жизни: вот он дышит, видит, слышит голоса, а потом вознесет его клеть под небо... А там – семья, дом, Ель с Изгибом По-лебяжьи и дальше – весь мир... С живыми и ушедшими... В памяти мертвые наравне с живыми живут. Память жива – и мир жив. Значит, под завалом еще бы раз умерли с ним вместе все дорогие, ушедшие до него. Запоздалый страх души гнал ознобистую дрожь на тело, но радость перебарывала, и он улыбался так, что по лицу не понять было: то ли он сейчас заплачет, то ли засмеется...
– Ну, теперь жить будешь сто лет, да еще и больше. Смерть, может, метила в тебя, да не попала – в другой раз не захочет с тобой связываться... – басила банщица Дарья Веткина. – Под воду-то не лезь, а то грязь в рану натечет. Сама обмою, не ерепенься, не стыдись старуху.
Терла ему голову, шершавыми пальцами шмыгала по коже, больно тянула за волосы, рану, оклеенную липучими лентами, обходила мочалкой, трыскала по ребрам козанками:
– Господи, и что за тело: камень камнем, все пальцы побила.
Лицо у Дарьи озабоченно и строго, по-мужичьи большой нос землист, в каплях пота.
– Азоркина Петра в больницу увезли, – рассказывала.
– Как он? Ты видела?
– Да как! Боль, знать, страшенная...
– Да... Хоть и живой, а калека теперь...
Дарья перестала двигать руками, затихла, притаив дыхание и вслушиваясь в себя.
– В груди что-то сбилось. – Помолчав, выдохнула: – Счас наладится.
– Да брось ты! – стал уворачиваться от ее рук Михаил. – Сам не помоюсь, что ли? Иди на воздух, в раздевалку.
– Сиди! – Она легонько ткнула его в шею так же, как давно-давно тыкала мать, когда приходил в испластанной одежке со старой, заброшенной скотной базы, где разорял воробьиные гнезда, или вытаскивала из илистых зарослей возле речки Тихонькой, мокрого и озябшего, как лягушонка, по самую макушку заляпанного глиной.
Какой острой обидой отзывался в детской душе тот материнский тычок в шею! Умереть хотелось, да так, чтобы живым остаться, чтобы видеть через полуприкрытые веки, как плачут мать с отцом, как ругает их дед: вот, мол, обижали и дообижались, а как оживет, так чтоб прощения просили. А Миша, весь жалостью пронятый, уже и сам горькими слезами заливался. В воображении с ревом кидался к ним на руки. Вот уж радость-то и взаимное сладкое признание вины и раскаяния! Лазай по деревьям и плетням, хлюпайся в иле, виновато и радостно разрешают родители, а он ни за что не соглашается: и плетня будет сторониться, и на крышу базы не полезет, где в обрешетине крыши сучки, как гвозди, – так и норовят распороть штаны, и к речке ни ногой, в ее заводи, где столько хрупких ракушек можно навыкапывать в застойлой тухлости, или где каждая ивовая ветка плюется белой пенистой слюной, а из-под коряг выглядывают пучеглазые лягушки, которых Миша запрягал в сани из веточек...
Представив себе такое и пережив, Миша через короткое время шел к матери, млея сердцем от любви к ней: «Мамка моя расхорошая, я больше не буду-у». Ручонками обвивал ноги, мешал ей ступать по избе. «Вот и ладно, ласка моя, кареглазка. – В то же место, куда подзатыльник пришелся, и нацелует. – Иди, играй – некогда мне».
Он выйдет во двор с тихой благостью на душе, с лицом не по-детски серьезным, в сторону речки посмотрит, на скотную базу, нестерпимо зовущую к себе, и потихоньку-помаленьку, оглядываясь – не заметила ли мать, – шмыгнет куда-нибудь, про все забыв. Ищи-свищи его!..
И теперь вот от Дарьиного легкого толчка в шею всколыхнулось все в душе, комком подступило к горлу: нет, не изживается, не вытравляется из нас суровостью жизни и возраста нужда в трудный час в материнском слове, в прикосновении ее рук к седой бедовой голове, только мы нужду эту прячем в себе, храним втуне так, что и забываем, что она есть.
И мать, и банщица Дарья, и покойная теща – как похожи они, ибо у них одна судьба – военная. Они просты и открыты и видом своим совсем не похожи на тех жен и матерей, которые в горе стыдятся заголосить при людях. Эти же матери и поголосили по погибшим, и сухими глаза их помнятся, да и не потому, что сдерживались, – просто выплакали все слезы. Они жили и живут терпением и добротой и тем только счастливы, сами беспомощные в мире, что кто-то принимает от них доброту.
– Все бы вы сами, такие настырные, – экономя силы для работы, приглушенно выговаривала Михаилу Дарья. – Вася мой тоже на себя все брал... Я вот живу, а его косточки истлели.
Хоть и мыла Дарья, но Михаил почувствовал: на старый шрам, что шнуром пророс от плеча по лопатке, слезы закапали – не вода. Не стал утешать словами, знал, что ни к чему сейчас слова.
– Азоркин, бес непутевый, молится пусть теперь на тебя!.. – заключила.
– Что я – икона?.. Ты больше так не говори. – И, чтобы сбить Дарью с ненужного для него разговора, спросил: – Погода как?
– Что? А-а, да опять тайфун. Дождь полоскал, а теперь ветер только. Я тебе плащ дам.
– У меня есть.
– Ну ладно, коль есть. В больницу повезут?
– Нет, домой. Не с чем тут в больницу.
– Ступай отдохни, – напутствовала Дарья. – Такое дело одолел, можно сказать, саму смерть. Для этого силы, может, всю жизнь надо было копить...
Михаил покашлял, не находя, что сказать.
– Ты, тетя Даша, это... картошку одна не копай. Я помогу... – Плечи его ощутили костлявые руки, такие, как родные руки матери, – самые дорогие для него на земле руки.
Года три назад, погожим сентябрем, что-то не захотелось Михаилу после смены мыться – так уж надоело столько-то лет каждый день кипятком шпариться. Сыновья смеялись: солнышко на макушке появилось!.. Будет солнышко: поросенка раз кипятком окатят и щетину дергают, а тут каким волосам надо быть, чтобы удержаться!
Сидел в одних трусах, будто боксер после боя, навалившись на спинку лавки, вытянув босые ноги, лениво сшелушивал с себя присохший с потом, словно толченое стекло, уголь.
– Чего развалился? Дома нет делов – сидишь!.. – Банщица Дарья поливала из шланга пол, а он ей мешал.
Дарья была всегда замкнута в себе, неразговорчива и только изредка басом ругалась на шахтеров.
– Давай курнем, что ли? – Дарья выключила воду, полой халата вытерла черные с желтым отливом руки и мужское, в трещинах морщин лицо, присела рядом с Михаилом.
– Что-то я не замечал, что куришь. – Михаил вытряхнул из пачки две папиросы.
– Не замечал, и не надо, – строго сказала Дарья. Сходила, защелкнула дверь. – Все уж помылись теперь. Ты один остался. Курю – не курю, это как наплывет. Сегодня вот... – Она покачала головой. По хрящеватому носу потекли слезинки. – Так бы и взнялась, улетела куда... А чего? Ничего меня не держит – могилка одна во всем свете...
Михаил не помнил, сколько лет была на глазах Дарья. Провожает и встречает из шахты. Привыкли к ней, как привыкли к вешалкам, к толстым деревянным лавкам, что стоят в три ряда, к сыроватому банному запаху. Что там ни делайся, ни случайся, а все это было и будет, как незначительное, но необходимое. И не думалось никогда про Дарьину жизнь, про ее какой-то дом, семью, заботы...
Дарья склонилась, прижала к лицу подол серого халата, и он увидел ее затылок с жиденькими волосишками, тонкую жилистую шею с ложбинкой. Столько беспомощного было в этой ложбинке, в тщедушной шее, в просвечивающей через редкие волосы синеватой коже затылка, что Михаила пронзила всего неожиданная болючая жалость.
– Ну ладно, тетя Даша... – неумело утешал ее он. – Чего ты?
– А ничего, Мишенька. – Дарья подняла лицо. Глаза у нее уже были сухие и тяжелые от неизвестной Михаилу тоски-горя. – День у меня сегодня поминальный. Васю моего в этот день убило. Совсем убило. И давно уж.
Она в упор поглядела на него, и ему стало совсем не по себе: из запавших глазниц темнели две лужицы, и в них уже не тоска была, а откуда-то из самой глубины возникала, шевелилась жуками-плавунцами улыбка.
– Василий Веткин. Неужто не слыхал? У-у, имя его славным было не только на «Глубокой». Кто на войне героем сделался, а Вася мой – тут!
Дарья жесткими, как сухие хворостинки, пальцами пробежалась по шраму, пролегшему тугим жгутом через лопатку Михаила, посочувствовала:
– Обижает вас Яшка-то, миленьких.
– Бывает изредка. – И спохватился: – А ты-то откуда про Яшку?..
– Знаю, Миша, все знаю. Я ведь в забое работала...
Сам крепкий телом смолоду, Михаил знал, что такое тонна – а в забоях другого веса нет. Лопату угля зачерпнул, кинул – десять-двенадцать килограммов, а за смену-то не одну тысячу лопат, бывало, перекинешь, да лесу переворочаешь, да железа. Поту выльешь из себя ведро и столько же воды выпьешь. Не будешь пить – сгоришь. Теперь комбайны, и то, бывает, усадишь себя за смену – кость гудит. А тогда, помнилось Михаилу, до постели кое-как добирался и спал почти от смены до смены. Кто и не выдерживал: гори она, дескать, огнем, шахта, – дело темное, без окон и дверей удушистая потогонка и драчунья, чуть что – по горбу бьет да по каске. Такое бывало в Михаилово раннее время, а в войну, как слыхал от деда Андрея, зачастую уголь с кровью брали, и поту побольше лили, потому что воздух нечем было подать, остудить тело изнутри и снаружи, и лопатами почаще шуровали, и желудок был пустой... Это как же в забое бабе-то? Михаил даже представить себе не мог бабу-забойщицу, чтобы она почти пудовой кувалдой подбивала рудстойки, бурила двухпудовым электросверлом шпуры, таскала бревна, от которых и мужики-то в три погибели гнутся. Да еще с ее длинными волосами? И не раздеться ей по пояс наголо. Это же черт знает!..
– Как же ты в забое-то?
– Э-э, Мишенька, еще как и работала! – Дарья отбросила окурок. – Призыв был в войну в газетах пропечатан, дескать, девушки – в забой. Я тогда в шахте под насыпкой вагоны катала. Это теперь мужик-насыпщик в двух ватниках мерзнет – все механизмы делают, а тогда-то плечом давишь, а в глазах муть, а вагон ни с места. Вася и взял меня в забой. Говорит, и заработок побольше, и паек, и я, мол, тебя жалеть буду. Ну, и нажалеемся в забое-то: молодые, а веришь-нет, по месяцу друг друга по ночам не знали... Сам он мне и косу обрезал. Коса-то была золотистая, толще руки. Ничего, говорит, Дашенька, восстановится после войны. На стенку повесил, гладит, а у самого глаза на мокром месте...
Дарья лицо опять в полу халата уронила. И снова перед глазами Михаила был ее затылок с ощипком волос. «А ведь молодая была и, может быть, красивая», – думал Михаил и попытался в воображении представить Дарью молодой и красивой, но не мог: казалось, что она всю жизнь была такой же, как теперь.
– Что ж, тетя Даша, – дрогнувшим голосом сказал Михаил. – Теперь о детях да внуках думать надо...
– Надо бы, – согласилась она, – да где их взять? Вы у меня и дети, и все тут. Давай-ка еще по одной. Обнаглела я сегодня совсем: смолю чужое да тебя держу. Тебе и домой, поди, охота, и под солнышко. Вон как оно играет под вечер-то, – показала на окно, где рябило через крону акации солнце. – А для шахтера солнышко-то – милое дело!
Михаилу и вправду уже было пора. Пока помоешься, туда-сюда – и темень, а утром под землю. Так вот и бывает иной раз: то пасмурно, то еще что, за неделю раза два увидишь солнце накоротке – здравствуй да прощай. Теперь уж дома быть бы, пообедать да сидеть в саду под кустом крыжовника, обирать ягоды – милое дело. Валентина рядом, сыновья...
Он задумался, а Дарья тоже думала о своем, кивала головой.
– Так, значит, нету детей-то? Это плохо, – сказал Михаил осуждающе, но почти не задумываясь о сказанном.
Дарья дернулась, но позы не изменила, так же твердо глядела перед собой. И тут только дошло до Михаила, что он сморозил.
– Прости, тетя Даша, дурака. Ну... это... ляпнул я…
– Погиб Вася, цветок мой, в день нынешний, – вроде не слыша его, забасила Дарья. – А дети... Какие дети? Надорвалась я вся... Не успелось, не довелось, Мишенька, не ругай меня! А Вася жалел, всю тяжесть основную на себя клал, за комель лесину брать не велел, а куда денешься, коль взялся за гуж? А угля, сколь ни дай, все мало – война сжирала!.. – Дарья говорила торопливо, вроде оправдываясь перед Михаилом и боясь, что не захочет ее дослушать. – Ты, говорит, иди, глинки на пыжи принеси, пока я забурю. Пошла, а в сердце как ударит! Бегу с глиной, а штрек тесный, душный, то плечом зацеплюсь, то головой... Прибегаю, а он уж, Васенька мой, и готов. И глыбка небольшая вывалилась, да, видно, устал шибко, не успел увернуться. Торопились все, не успевали закрепить забой хорошо, Да и чем было крепить, лесу не хватало…
Она плотно сжала куцые реснички, и на них повисли слезинки, подрожали искринками, отразив в себе закатное солнце, узким лучиком пробившееся в предбанник, и сорвались.
– Разнюнилась-то, господи. – Дарья часто моргала, сгоняя слезы с закрасневшихся глаз, и слезы не стекали с лица, терялись в многочисленных морщинах, как в трухлявом куске дерева. – Чего бы уж теперь – все в даль укатилось какую. Уж привыкнуть бы надо... Памятник погибшим на войне шахта выставила в сквере. Отчего же, Миша, в шахте полегшим рядком бы не поставить? – вопросила осторожно.
– Так чего равнять? Здесь дома хоронили, с почестями, а от тех, может, одна неизвестность осталась. Моей жены отец где-то на Дунае погиб. И не схоронен, поди. Теща живая была, все ехать порывалась. А зачем ехать? На берегу Дуная постоять?
– Верно, верно, Миша, – согласилась Дарья. – Тут прийти, вспомянуть есть куда. Верно говоришь...
Помолчали. Тихо было, будто и не на шахте, а где-нибудь в лесной сторожке. Только в душевой вроде кто тайком всхлипывал.
Михаил представил себя на месте Дарьи: сидеть здесь одному с такими думами – это же невыносимо! Вот он – сколько ни сиди, а все равно уйдет, а она останется, и ничего не изменится.
– Памятничек-то весь сгнил, ржа съела. Окомелочек остался, – говорила вроде сама с собой Дарья. – Говорю, тридцать лет уж... Памятник хоть из железа шахта ставила, а ржой побило.
– Обновить надо. Теперь это не сложно: в мехцехе сварят.
– Надо бы, – как-то безразлично согласилась Дарья. – А седой ты, Миша, прямо белый весь. Думаешь, что ли, много?
– Кто его знает. Вроде бы и не с чего седеть...
– Кто жив остался из тыловиков, всех карточки в клубе вывесили, – снова повернула Дарья на свое. – Дескать, победу ковали. Да мало их осталось, кто ковал-то, – выложились до срока, а остались, так еле огузки тянут. Загребин Ванька там висит, тоже ковал. Пошто так-то, Миша?
– Наверно, и такие нужны.
– Да ты почему говоришь-то так? – взняла голос Дарья. – Сам не веришь в это, а говоришь... Зачем он нужен, Загребин-то? Моя бы воля, так бы и спросила: зачем на земле живешь, как хлеб ешь и не давишься им?.. Он, этот шахтер, тяжелее куска хлеба не подымал!..
– Не надо, тетя Даша, про Загребина. Ну его к лешему! Ты лучше скажи, где твой Василий схоронен? На старом или новом кладбище?
– На старом, Миша, на старом. И местечко хорошее: над оврагом. Липки кругом, елки. Покойное местечко.
Дарья только что была собранная какая-то, вся воинственная, а тут сразу обмякла, вроде даже обвисла, обветшала.
– Это хорошо – на старом, близко. Сделаю я памятник. В отпуск скоро пойду и сделаю. Из старого рештака сварю.
– Ну, спасибо. А то я было загоревала...
С шахты он тогда шел домой, а уж на востоке было пасмурно, но с полнеба к западу густо синело. Синева переходила в зеленоватую белесость и окуналась в жар зари. Пирамидальные тополя разлиновали зарю – прямо тигр на детской картинке, а не заря.
...Памятник Василию Веткину Михаил сделал через месяц, в октябре. Устанавливать позвал Дарью.
Старый памятник был, видно, наспех клепан и с экономией кровельной жести – должно, не до памятников в войну было, и теперь походил на источенный капустный лист: весь в дырках да в прорежинах, считай, на одной краске держался. Михаил руками его смял, как картон, хотел в овраг выбросить, но не решился – кощунственным показалось забрасывать старый памятник, как старое ведро.
– Я его под новый зарою, – сказал. – Новому будет тверже стоять.
– Делай как знаешь, – согласилась Дарья.
Пока он работал, она все стояла, сложив руки под грудью, смотрела на разворошенный холмик таким нездешним глубоким взглядом, словно через землю видела своего Василия.