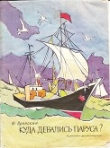Текст книги "Шелестят паруса кораблей"
Автор книги: Александр Лебеденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
НО ТАК НЕ БУДЕТ ВЕЧНО
Обильно выпавший пуховый снег украсил улицы столицы. Было свежо, но не ветрено. Лошади легко несли опушенные мехом барские саночки. Тяжело, со скрипом тянулись деревенские обозы. Дворники, закончив дневные работы, усаживались у ворот особняков, построенных на главных улицах богачами и знатью. День кончался. Солнце по-зимнему рано спряталось за постройками, оставив небосклон догорать, а окна слегка золотиться последними отблесками потухающей зари.
Завалишин шел легким, молодым шагом. Поскрипывали новые сапожки, в такт им скрипели промерзлые доски деревянного тротуара, и под этот бодрый, веселый перебор шагов уверенно думалось.
Он шел к старейшему вельможе Николаю Семеновичу Мордвинову, в чьем особняке, вопреки общему состоянию умов российской знати, высказывались свежие мысли, пусть и непоследовательные и противоречивые, но все же самостоятельные и деловые.
Завалишин шел по набережной и был полон энергии. Если сам Мордвинов зовет его к себе, значит, он, Завалишин, произвел на него большое впечатление. Да и как могло быть иначе?! В прошлую встречу в правлении Российско-Американской компании Николай Семенович, не перебивая, слушал его бойкую, можно сказать, вдохновенную речь о будущем Русской Америки – речь, в которой он призывал сановников, возглавлявших Российско-Американскую компанию, посмотреть на дела в этой части земного шара, как подобает представителям великой империи. Сейчас идет раздел земных пространств. Российские предприимчивые люди перешагнули из Азии в Америку. И они остановились на достигнутых рубежах только потому, что государство не поддержало их по-настоящему. Ему, моряку, эти отдаленные, но богатые берега Монтерея и Калифорнийского залива уже кажутся вторым парадным крыльцом обширной русской земли. Нужны только решимость, инициатива и, конечно, большой, сильный флот.
С этими мыслями он вступил в обширный темноватый коридор мордвиновского дома.
Граф принял его, сидя в глубоком вольтеровском кресле, в шлафроке екатерининских времен. На коленях лежала книга с золотым обрезом, в кожаном, с тиснением переплете.
Поздоровавшись, он указал Завалишину кресло. Рядом, у дубового с резьбой стола, в вольной позе примостился молодой человек в штатском. Это был секретарь Российско-Американской компании Кондрат Рылеев.
– Решил, что вам надо быть друзьями, – сказал Мордвинов. – Вот и пригласил вас поскучать со стариком.
Молодые люди поклонились друг другу.
– Я знаю, вы знакомы. Но я считаю – этого мало. Вам подобает быть друзьями. Сойдетесь ли вы во всех вкусах и мыслях – не знаю, но не сомневаюсь во взаимном доброжелательстве.
– Сейчас каждый порядочный человек, не уклоняющийся от полезного общественного действия, дорог и желателен, – медленно, выбирая слова, произнес Рылеев.
– И люди, полагающие свой общественный долг выше эгоизма, должны действовать совместно! – горячо подхватил Завалишин. – Всякое живое начало может возродиться только в живой личности. Поэтому в начале всего лежит личный подвиг!
Настроение, которое донес до мордвиновского особняка Завалишин, все еще не рассеялось. Этот белый покров зимы! Эта величавая, закованная в лед Нева!.. Нет, он не в силах говорить сдержанным языком аристократической гостиной.
– Я шел к вам и думал о совершенстве человека, о великой, заложенной в нем гармонии и о несовершенстве общества, которое препятствует ему быть самим собой.
– Ну, ты известный филозоф! – засмеялся Мордвинов. – Со времен греков известно, что филозофы суть украшение общества и вместе элемент беспокойный и, по большей части, бесполезный.
– Мысль бесплотна, но придайте ей силу, и она победит грубое противодействие.
– А отсюда и смысл общественного устройства, – вдруг вступил в разговор Рылеев. – Для нас порядок и свобода суть понятия нераздельные и немыслимые одно без другого.
– Совершенно с вами согласен, – подхватил Завалишин.– Но позвольте заметить – развитие политических понятий и нравственных не может быть предметом дарения свыше, а должно идти с ростом сознания, научного образования и накопления истин.
Мордвинов слушал молодых со вниманием, стараясь по доброй старой привычке увидеть за словами, вошедшими в обиход за последнее время, нечто такое, что было бы доступно пониманию без досадного тумана.
– Мое дело сделано, – сказал он, дергая сонетку комнатного звонка. – Как я понимаю, вы найдете путь друг к другу. А теперь вспомним старую русскую поговорку: не красна изба углами, а красна пирогами.
Он сделал знак появившемуся лакею и поднялся с кресла.
Отсидев за столом в оживленном разговоре и распрощавшись с хозяином, уже на улице Завалишин воскликнул:
– Каков старик! Сколько в нем ума и силы.
– А не кажется ли вам, что эти сила и ум на холостом ходу? – заметил Рылеев.
– В условиях наших... но если бы...
– Если бы? А что, если бы?
– Знаете, что я вам скажу? – Завалишин вдруг остановился. – Зачем он пригласил нас к себе познакомиться, уже зная, что мы знакомы?.. А не осведомлен ли он о тайном обществе?.. И быть может, хотел послушать нас, втайне сочувствуя нашему делу?..
– Не будем стоять, двинемся дальше, – предложил Рылеев.
Несколько минут оба шагали молча.
На углу, где пути их расходились, Рылеев сдержанно сказал:
– Вы, пожалуй, правы... И это весьма печально.
Завалишин остался недоволен собой. От встречи с Мордвиновым он ожидал большего. Присутствие Рылеева помешало ему развернуть перед Мордвиновым все свои идеи, только в общем плане изложенные на собрании правления Российско-Американской компании...
По укоренившейся привычке, несмотря на поздний час, он зашел на Галерную. В кабинете Головнина окна были темны. Этот мрачноватый, серьезный человек все больше становился судьей его мыслей и поступков. Он редко высказывался, но в его лице Завалишин все чаще улавливал то, что ему было необходимо.
Было десять часов, и Завалишин чувствовал, что для него день еще не кончился. Он перебирал в памяти друзей и товарищей по службе. Но одни были уже семейные, другие жили далеко.
– Что вы бродите, юноша, так поздно?
Завалишин даже вздрогнул. Голос был знаком, но темнота скрывала говорившего. Впрочем, акцент и высокий рост встречного помогли Дмитрию Иринарховичу признать Михаила Кюхельбекера.
– А вы откуда?
– Хотел поговорить с Головниным, но, как ни странно, его до сих пор нет дома... Какой человек! Какой опыт! Какие мысли! Вы прочли его описания кругосветных путешествий?
– Я имею честь быть своим человеком в этом доме.
– Это мне известно... Знаете, о чем я думаю? Как много хороших, умных и добродетельных людей есть у нас и как они одиноки.
В голосе Кюхельбекера дрожала болезненная нотка, свидетельство искреннего переживания. И тут же он заговорил быстро и взволнованно:
– Но так не будет вечно!
Волнение передалось легко воспламенявшемуся Завалишину, и он со всем жаром повторил:
– Да! Так не будет вечно!
ЗАГОВОРЩИКИ
Завалишин был настроен строптиво. Уверенность в том, что ему удалось поразить и увлечь своими идеями царя, испарилась. Теперь он все громче и откровеннее говорил о неспособности жестокой и бездарной верховной власти руководить страной.
Феопемпт слушал лейтенанта со всем азартом восприимчивой юности. Евдокия Степановна, как могла, журила обоих, но нельзя было не видеть – все вокруг нее то и дело бранили двор, Аракчеева, министров. Она никогда в жизни не видела Аракчеева, но инстинктивно чувствовала к нему отвращение. Даже в самом сочетании букв фамилии временщика было что-то жестокое.
Завалишин и Феопемпт сговорились осмотреть новый дворец, богато отстроенный для младшего брата царя – Михаила. Дворец был выгодно поставлен, замыкая пустынную площадь в ста саженях от Невского.
– Не хотел бы я жить в этих палатах, – сказал Феопемпт, смотря на великолепное здание за высокой ажурной решеткой.
– Здесь не живут, а пребывают, – поправил Завалишин.
Осмотрев дворец, приятели двинулись дальше.
– Я слышал, ты собираешься жениться? – спросил Феопемпт.
– Ты тоже слышал? Почему-то все стараются женить меня. Предлагают самых лучших невест. Кто-то сообщил, что я намерен жениться на испанке. Всю нашу толстовскую родню охватила паника. Мне открыто стали рекомендовать богатейших и знатнейших невест, только бы отвлечь от католички.
– Так в чем же дело?
Лицо Завалишина приняло строгое, даже суровое выражение.
– Я не считаю себя вправе связывать судьбу какой-либо девушки со своей. – Завалишин увел задумчивый взор в сторону. – Я не позволяю себе говорить женщинам даже обычные комплименты. Я весьма серьезно смотрю на отношения между мужчиной и женщиной. Я посвятил себя задаче великой, но опасной. Вправе ли я связывать свою судьбу с другой?
Феопемпт хотел было задать новый вопрос. Он любил подразнить приятеля, но в это время их догнал высокий, с барственным лицом и светскими манерами офицер-кавалергард.
– Вы к братьям?..
– Вы угадали, ротмистр, – ответил Завалишин. – Идите первым. Мы на несколько минут задержимся.
Особняк у Синего моста был удобен для встреч. Двухэтажная постройка обегала клумбу. Двор хранил вид деревенской усадьбы с двумя небольшими флигелями. Один, одноэтажный, ближе к воротам, был для служителей, другой, в два этажа, занимали два брата-гвардейца. Позади усадьбы был канал с болотистыми берегами.
Завалишин весело приветствовал дворника с широчайшей бородой-лопатой, которую он то и дело оглаживал рукой.
– Бодрствуют? – с нарочитой развязностью показал на окна второго этажа Завалишин.
– Так точно, ваше сиятельство! В карты режутся.З
авалишин многозначительно посмотрел на Феопемпта, – мол, как дело поставлено...
В передней флигеля сидел денщик. При виде их он вскочил. Завалишин небрежно сбросил ему на руки шинель и подошел к зеркалу. Феопемпт на секунду задержался у порога.
– Что же ты?
– Да как-то это...
– Что это? Со мной ведь. Считай, ты все равно что свой.
– Так-то так...
С верхнего марша лестницы, наклонясь через перила, смотрел вниз офицер с буйно разросшимися вихрами на висках.
– Ты, Дмитрий? Ждем тебя. Там страсти разыгрались... Вопрос – освобождать крестьян до политического преобразования или после него?
Завалишин снисходительно улыбнулся.
Хозяин распахнул дверь. Левой рукой отдернул портьеру, и перед пришедшими открылась обширная комната. Вдоль стен на турецких диванах и низких тахтах, в густом дыму, с трубками и кальянами, располагались офицеры разных родов войск и несколько штатских. Высокий офицер-гвардеец стоял, возвышаясь над сидящими на угловом диване, и говорил, энергично жестикулируя. Один из сидевших на краю, отчужденно глядя в сторону, лениво перебирал струны гитары. На лице его, холеном и скучающем, бродила снисходительная улыбка.
– Чтобы такая акция, как освобождение крестьян, прошла мирно и с наименьшими потерями для страны, надо сначала убрать с исторической сцены этих зубров, кои сейчас составляют ареопаг. Скорее можно вообразить, что горы потекут молоком, нежели представить себе Аракчеева или ему подобных дарующими волю своим рабам. Таких надо будет принудить, если не уговором, то силой. А для сего необходимо заранее лишить их самих силы и влияния.
– Господа, – вмешался толстяк с моноклем, – опыт испанской державы и многих ломбардских владетелей...
– Какие тут ломбардские владетели! – перебил его резкий голос хозяина. – Вы забываете, что мы – Россия. Мы не похожи ни на азиатскую деспотию, ни на европейскую демократию. У нас своя история, своя судьба.
– При всех условиях нам необходимо единство цели и взглядов, а у нас что ни вопрос, то споры.
– А знаете, господа, в чем основа основ? – подкрепляя слова перебором струн, спросил гитарист.
– А ты скажи.
– Скажу. Есть, пить, спать и любить женщин.
Феопемпт, который пришел сюда в настроении почти благоговейном, был поражен.
– Это что такое? – спросил он у соседа по угловому дивану, где устроился среди незнакомых.
– Вы что, не знаете Никиту Муравьева? Шутит...– бросил через плечо сосед.
Молодой чиновник, стоявший у окна, поднял руку, заявляя о желании говорить. Все сразу умолкли, а Муравьев приставил гитару к борту дивана.
И серьезность выражения лица, и порывистость жестов, и вспыхнувшие глаза, и голос, подкупавший искренностью, – все свидетельствовало, что это не рядовой член общества, а один из его вдохновителей.
Завалишин был в этот момент в другом углу комнаты. Он поднялся, пересек комнату по диагонали и, не обращая внимания на говорившего, зашептал что-то на ухо офицеру инженерных войск.
– Давайте послушаем Рылеева, – перебил его тот. И, чтобы смягчить неловкость, добавил: – Я слушаю его впервые.
Завалишин с неудовольствием отошел от сапера и устроился подле Феопемпта.
– Вот настоящая звезда этого тусклого небосклона,– бросил он Феопемпту так, что слышали и другие.
«Рылеев, – соображал между тем Феопемпт. Он уже слышал эту фамилию. – Ах, да! Он служит в правлении Российско-Американской компании. Василий Михайлович считает его одним из наиболее толковых и, главное, неравнодушных работников компании».
Между тем Рылеев говорил... И как только раздался его звучный баритон и, все ускоряя ритм, потекла его речь, – тишина в зале углубилась еще больше. Теперь оратор говорил порывисто и властно. Он говорил о великих исторических задачах, стоящих перед российским обществом, о его священном долге перед народом. О серьезности момента, о позорном поведении царя и его министров в деле Семеновского полка. С гневом и возмущением говорил он о палаче и мракобесе Аракчееве.
Феопемпт слышал трудное, громкое дыхание собравшихся членов общества. Волнение охватило его самого. Он с трудом сдерживался от желания вскочить и куда-то бежать, что-то сейчас же сделать. Было такое ощущение: если эта гневная речь поднимется еще на одну ступень – надо будет немедленно дать выход накопившимся чувствам.
С кресла у клавикордов поднялся офицер, в сдержанной напряженности которого было что-то трагическое. Он вышел на середину зала, составил каблуки и твердым голосом заявил:
– Поручите мне. Я убью тирана.
Его слова вызвали взрыв: почти все вскочили с диванов.
– Ты безумец! – кричали одни.
– Революцию делают герои! – возражали другие.
Рылеев поднял руку, давая понять, что он еще не кончил. Но возбужденные офицеры, перебивая один другого, не давали ему продолжить.
Завалишин, бледный от охватившего его волнения, сидел закинув голову назад. Руки его в широком жесте охватили подлокотники кресла. Он оставался недвижим, но видно было, что все в нем бушевало.
– Господа! – громко воскликнул, перекрывая шум, Муравьев. – Приберегите ваш энтузиазм и энергию до нужного момента. Так мы никогда не придем к соглашению. Чем больше шума, тем меньше дела.
Эти слова несколько охладили собравшихся.
– Господа, – воспользовался паузой один из хозяев.– Я предлагаю выслушать прибывшего к нам одного из членов Южной управы.
Постепенно все возвращались на свои места. Хозяева вполголоса совещались с плотным, плечистым полковником. Спокойные, сдержанные жесты этого человека выдавали его властный, волевой характер. По его лицу было видно, что он чем-то недоволен и не очень расположен высказываться.
– Господа,– выйдя на середину зала, сказал старший из хозяев. – Уже поздно. Кроме того, чтение важнейшего документа, привезенного полковником Пестелем, требует серьезной подготовки. Я предлагаю сегодня всем разойтись. Чтение назначим на один из ближайших дней. О месте и времени все будут оповещены.
Завалишин подошел к хозяину и недовольно заметил:
– Вот так всегда. Я, господа, хочу предложить более тщательно готовить наши встречи и не устраивать их без крайней необходимости. Огонь, пылающий в наших душах, надо беречь. Расточительство энергии хуже расточительства материального. Она невозобновима.
Он, видимо, собирался произнести длинную речь, но хозяин перебил его, взяв под руку:
– Дмитрий Иринархович! Ты, конечно, прав, и это сознаем мы все, но сейчас важнее всего добиться деловитости, серьезности, последовательности всех наших действий.
Завалишин досадливо освободил свою руку. Эти люди не понимают, что он более, чем кто-либо, владеет секретом истинной деловитости и государственного размаха мысли и действия.
Выходили постепенно, по два-три человека. Оглядевшись, шли в разные стороны. С набережной уходили в переулки.
Седая луна, кивая и вздрагивая, проплывала среди мелких высоких облаков. Она отражалась в черных водах узкого, кривого канала, и эти воды казались глубже и таинственней. Собаки брехали где-то в усадьбе, и редкие прохожие и еще более редкие извозчики почти не нарушали тишину петербургской ночи.
МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Яковлев, в лицее его называли «паяс», встретил Матюшкина взрывом радости.
– Всесветный бродяга!.. Ты у кого остановился? У Бакунина? Ах да! У тебя же мама здесь, милейшая Анна Богдановна. Но скоро я тебя не выпущу. Ты, конечно, начинен впечатлениями. Ты же неоценимое сокровище! Чтобы не сбежал, будешь выходить на улицу по особому разрешению с провожатым. Сейчас же пошлю человека объехать всех наших.
Он помогал Матюшкину снять шубу, вертел его во все стороны, не переставая говорить. С таким шумным радушием Яковлев встречал всех проезжавших через Москву бывших лицеистов. А этот, путешественник, как слышно, побывал в таких местах, куда и Макар телят не гонял, где и человеческая нога не ступала.
Матюшкин не пытался протестовать. Он весь отдался этому гостеприимству. Он подчинялся, как ребенок. С милой, покорной улыбкой он садился за стол, ел, пил, чокался, присоединялся к тостам. Объятиями встречал появлявшихся один за другим друзей. В Москве их оказалось немало. И Пущин, и Кюхельбекер, и Данзас, и Елович, и Пальчиков, и Бакунин. Все лицейские.
Матюшкина забросали вопросами... Здесь было все – и Перу, и Камчатка, и остров Святой Елены с Наполеоном, и Иркутск со Сперанским, и Аляска, и Колыма...
– Нет, так дело не пойдет, – решил Пущин. – Давай по порядку и давай больше о Сибири – о последней экспедиции. Сибирь – это наше будущее!
– Ну, ты еще напророчишь! – перебил его Данзас.
– Сибирь – океан земли... Леса, недра!
– Царство стужи и льдов...
– Золота и алмазов...
Матюшкин пожалел, что нет с ним его писем к Энгельгардту. В них были не только отчеты о путешествии с точным указанием месяца, числа и дня недели, они зафиксировали и настрой его души, его реакции на мелкие и крупные события трехлетиях странствий.
В самом деле – три с лишним года, где редкий день проходил спокойно, а тут выкладывай по порядку...
И опять посыпались вопросы...
– А спал где?
– У костра. А то и без костра, если, скажем, на льду или в тундре, где и травы не соберешь. Разве мох. Да и мох не везде бывает. Мхов я собрал десятки видов.
– Ну, а например... расскажи самое страшное.
Матюшкин задумался.
– Пожалуй, самое страшное было в Лабазном. Прожил я там две недели. Народу собралось множество – тунгусы, ламуты, якуты. Ждали большой охоты, которая должна была на всю зиму обеспечить кочевавшие здесь племена. Олени показались поблизости. Все было готово. Охотники уже дали знать – идет огромное стадо. Будет мясо, будет кожа и все то, что дает олень для хозяйства кочевника. Охотники затаились. Спаси бог спугнуть стадо! Оно уйдет в бесконечные просторы, а племя будет обречено на голод...
– Какой ужас! – прошептал кто-то из слушателей.
– И вот, – продолжал Матюшкин, – на моих глазах случилась беда. Какая-то женщина в поисках питательных кореньев перешла реку. Передовой олень увидел ее, шарахнулся в сторону. За ним пошло и исчезло все стадо. Охотники были в отчаянии. Женщины рыдали, рвали на себе одежду, волосы: их ждал голод... Мучительная, медленно надвигающаяся гибель.
– Почему же они не переменят место, не перейдут к югу?
– Они привыкли жить оленьим промыслом. Они не знают другого, не знают, что делается в других местах. Их никто не просвещает. Некоторые племена вырождаются. Исчезли вовсе племена омоков и юкагиров. Голод, болезни, оспа грозят ламутам, тунгусам... А теперь к ним занесли еще и сифилис. Одно из преданий говорит, что по берегам могучей реки Колымы жило многочисленное племя, что в ночь на небе не бывает столько звезд, сколько горело огней омокского племени. Но под натиском пришельцев они покинули долину родной реки и ушли. А куда – неизвестно.
– А где ты потерял палец? – спросил Яковлев.
– Ну, это просто. Это еще в тысяча восемьсот двадцать первом году летом я шел на ялике в устье Колымы. В ялике с нами были ездовые собаки. Ялик шел к берегу. Собаки решили, что пора им на землю, и бросились в воду. Ремни резко натянулись, и лодка накренилась, черпая воду. Матрос не знал, что делать. А я схватил топор и в спешке, обрубив ремни, прихватил и палец. Потом была гангрена, но, к счастью, обошлось.
– Ты так рассказываешь, как будто это обычный случай... Вы тогда не перевернулись?
– Нет. Но купаться приходилось не раз, и не только летом, а и в ледяной воде, зимой. Нет коварней реки Индигирки. На ней то и дело случалась беда. Если не мель, так камень. То греби, то табань! Глядишь, проломлено дно. Надо выгружать все, чинить карбас, нагружать сызнова и сызнова вперед.
– Я все же не пойму: где и когда вы отдыхали? Я смотрел твою карту. Тайга, горы, это еще туда-сюда, а вот болото, тундра, наконец, льды. Ваша экспедиция прошла тысячи верст. – Кюхельбекер смотрел на Федора третьего испытующе. Он верил в себя, в свою способность перенести ради идеи многое, отказаться от всех благ, совершить подвиги, но побеждать природу!..
Матюшкина не смутила его недоуменная реплика. Увлекшись воспоминаниями, он сейчас был не в Москве, в натопленной квартире, за столом, уставленным напитками, а там... Он вспомнил охотника-юкагира, который после удачной охоты убежденно говорил, что сам царь, питается только оленьими языками и сахаром...
С улыбкой, совсем не соответствовавшей воспоминаниям, Матюшкин продолжал рассказ о том, как, прибыв в город Нижне-Колымск – исходный пункт экспедиции, он, вопреки ожиданиям, не нашел никаких запасов – ни рыбешки, ни бревна, ни ездовой собаки.
– Разве вы не получили указаний из столицы от иркутского генерал-губернатора? – спросил он исправника.
Исправник и не думал лукавить.
– Все было. Все получил. Но разве я мог хоть на минуту допустить, что флотские офицеры действительно прибудут сюда, на край света!
– И вы ничего не заготовили?
– Как видите.
– Как же вы вышли из положения? – спросил «паяс».
Матюшкин молчал... Как рассказать им, живущим в тепле и с прислугой, что он тогда переживал и какую деятельность он развил в этом заполярном городишке, каким тоном он разговаривал с местным начальством, как выпроваживал в «три шеи» посетителей, как местные чиновники бегали от него на улице. Как чиновничьи жены боялись этого бешеного начальника со столичными бумагами.
Матюшкин развел руками и спокойно сказал:
– К приезду Врангеля и других членов экспедиции все было в порядке. Врангель так и не узнал, что, прибудь он на две недели раньше, сидел бы на сухарях и воде из талого снега.
– А ты, значит, сидел?
Матюшкин кивнул головой. Воспоминание было не из приятных.
– Хуже всего было на торосах. Как не поломали ноги – один бог знает. Согреться негде. Еды нет. Под тобой океан, а воды нет, лед сосали.
– И ты говоришь, неделями так? – спросил Елович.
– Пятьдесят пять дней всего были на льдах в море.
Вино и тепло московского дома разнеживают. Но неугомонный Кюхельбекер требует:
– Расскажи все же, что вы там искали? Ради чего приняли труды и совершали подвиги?
– Мы должны были обследовать северо-восточные берега Сибири. Мы прошли от Индигирки до Колючинской губы, побывали на Медвежьих островах. Нанесли все это на карту.
– Значит, вы шли и по морю, как по земле. И сколько же вы так прошли?
– Многие сотни верст.
– Без жилья в адский холод?
Матюшкин молча кивал головой.
– Так вы же герои! Как же вас отметили?
– Врангель получил чин капитан-лейтенанта, Владимира четвертой степени. Да еще деньгами...
– А ты?
Матюшкин смущенно молчал. Он и сам не знал – получит ли он чин лейтенанта...
– Да уж этот адмирал де Траверсе! – рассердился Вильгельм. – Три с лишним года такой жизни...
– Не жизни, а подвига! – хмурился Пущин.
– На извозчике по вьюжной Москве проехать – и то потом надо отогреваться.
– Человек не собака, все выдержит, – мрачно шутил «паяс».
– А как у тебя с бароном? Ладили?
– Было по-всякому.
– Впрочем, с тобой всякий поладит. Добр ты, Матюша!
Матюшкин улыбнулся, вновь вспомнив, как таскал и гонял исправника...
Расходились, разъезжались на заре. Зимние морозы прошли, но утренники давали себя знать. Снег хрустел под ногами. Меховые воротники пришлось поднять – закрыть уши.
Матюшкин и Яковлев, чтобы освежиться после ночного сидения, пошли проводить друзей.
Пущин, шагавший молча, вдруг остановился и сказал, медленно и трудно роняя слова:
– Разбередил ты мне душу, Федор! Не заснуть уже сегодня. Все думаю об этом крае, о котором ты рассказывал. Сибирь – слово-то какое... Круглое, холодное и точно бы тронутое алым.
– Эх, Иван! – Федор взял друга за плечо. – Не видел ты зарю сибирскую. Тут такой не бывает. Три четверти горизонта пылает. И знаете, друзья, цветы сибирские не пахнут, но их лепестки горят словно отблеск этой зари.
– Ну ты, Федор, разошелся. Никогда тебя таким не знал, – улыбнулся Иван Пущин. – А впрочем, хорошо ли мы знаем друг друга?..
Высокий, угловатый Кюхельбекер дружески и сочувственно смотрел сверху вниз на друзей. Такие встречи бывали теперь не часто. Но в памяти они сольются с воспоминаниями о лицейских садах, о юной чистой дружбе. Что готовит им жизнь дальше?..
Разошлись, крепко пожав друг другу руки.
Федора ждала Невская столица.